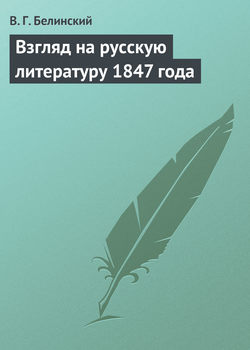Читать книгу Взгляд на русскую литературу 1847 года - В. Г. Белинский - Страница 1
Статья первая
ОглавлениеВремя и прогресс. – Фельетонисты – враги прогресса. – Употребление иностранных слов в русском языке. – Годичные обозрения русской литературы в альманахах двадцатых годов. – Обозрение русской литературы 1814 года, г. Греча,{1} – Обозрение нашего времени. – Натуральная школа. – Ее происхождение. – Гоголь. – Нападки на натуральную школу. – Рассмотрение этих нападок.
Когда долго не бывает тех замечательных событий, которые резко изменяют в чем-нибудь обычное течение дел и круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся похожими один на другой. Новый год празднуется как условный календарный праздник, и людям кажется, что вся перемена, все новое, принесенное истекшим годом, состоит только в том, что каждый из них и еще одним) годом стал старее —
И хором бабушки твердят:
Как наши годы-то летят!
А между тем как оглянется человек назад и пробежит в своей памяти несколько таких годов, то и видит, что все стало с тех пор как-то не так, как было прежде. Разумеется, тут у всякого свой календарь, свои люстры, олимпиады, десятилетия, годины, эпохи, периоды, определяемые и назначаемые событиями его собственной жизни. И потому один говорит: «как все переменилось в последние двадцать лет!» Для другого перемена произошла в десять, для третьего – в пять лет. В чем заключается она, эта перемена, не всякий может определить, но всякий чувствует, что вот с такого-то времени точно произошла какая-то перемена, что и он как будто не тот, да и другие не те, да не совсем тот порядок и ход самых обыкновенных дел на свете. И вот одни жалуются, что все стало хуже; другие – в восторге, что становится лучше. Разумеется, тут зло и добро определяется большею частию личным положением каждого, и каждый свою собственную особу ставит центром событий и все на свете относит к ней: ему стало хуже, и он думает, что все и для всех стало хуже, и наоборот. Но так понимает дело большинство, масса; люди наблюдающие и мыслящие в изменении обычного хода житейских дел видят, напротив, не одно улучшение или понижение их собственного положения, но изменение понятий и нравов общества, следовательно, развитие общественной жизни. Развитие для них есть ход вперед, следовательно, улучшение, успех, прогресс.
Фельетонисты, которых у нас теперь развелось такое множество и которые, по обязанности своей еженедельно рассуждать в газетах о том, что в Петербурге погода постоянно дурна, считают себя глубокими мыслителями и глашатаями великих истин, – фельетонисты наши очень невзлюбили слово прогресс и преследуют его с тем остроумием, которого неоспоримую и блестящую славу они делят только с нашими же водевилистами. За что же слово прогресс навлекло на себя особенное гонение этих остроумных господ? Причин много разных. Одному слово это не любо потому, что о нем не слышно было в то время, когда он был молод и еще как-нибудь и смог бы понять его. Другому потому, что это слово введено в употребление не им, а другими, – людьми, которые не пишут ни фельетонов, ни водевилей, а между тем имеют, в литературе такое влияние, что могут вводить в употребление новые слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло в употребление без его ведома, спросу и совета, тогда как он убежден, что без его участия ничего важного не должно делаться в литературе. Между этими господами много больших охотников выдумать что-нибудь новое, да только это никогда им не удается. Они и выдумывают, да все невпопад, и все их нововведения отзываются чаромутием{2} и возбуждают смех. Зато чуть только кто-нибудь скажет новую мысль или употребит новое слово, им все кажется, что вот именно эту-то мысль или это-то слово они и выдумали бы непременно, если бы их не упредили и, таким образом, не перебили у них случая отличиться нововведением. Есть между этими господами и такие, которые еще не пережили эпохи, когда человек способен еще учиться, и по летам своим могли бы понять слово прогресс, так не могут достичь этого по другим, «не зависящим от них обстоятельствам». При всем нашем уважении к господам фельетонистам и водевилистам и к их доказанному блестящему остроумию мы не войдем с ними в спор, боясь, что бой был бы слишком неравен, разумеется – для нас… Есть еще особенный род врагов прогресса, – это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его значение. Им, этим людям, хотелось бы уверить и себя и других, что застой лучше движения, старое всегда лучше нового и жизнь задним числом есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастия и нравственности. Они соглашаются, хотя и с болью в сердце, что мир всегда изменялся и никогда не стоял долго на точке нравственного замерзания, но в этом-то они и видят причину всех зол на свете. Вместо всякого спора с этими господами, вместо всяких доказательств и доводов против них мы скажем, что это – китайцы… Такое название решает вопрос лучше всяких исследований и рассуждений…{3}
Слово прогресс естественно должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка. Подобный пуризм имеет свое законное и дельное основание; но тем не менее он – односторонность, доведенная до последней крайности. Некоторые из старых писателей, не любя современной русской литературы (потому что она их далеко обошла, а они от нее далеко отстали и, таким образом, лишились всякой возможности играть в ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмом и твердят беспрестанно, что в наше время прекрасный русский язык всячески искажается и уродуется, особенно введением в него иностранных слов. Но кто же не знает, что пуристы говорили то же самое об эпохе Карамзина? Стало быть, наше время терпит тут совершенную напраслину, и если оно виновато в том, в чем его обвиняют, то отнюдь не больше всякого другого времени, предшествовавшего ему. Если бы употребление в русском языке иностранных слов и было злом, – оно зло необходимое, корень которого глубоко лежит в реформе Петри Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было своих слов. Поэтому необходимо было чужие понятия и выражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов так и остались непереведенными и незамененными и потому получили право гражданства в русском словаре. Все к ним привыкли, и все их понимают; за что же гнать их? Конечно, простолюдин не поймет слов: инстинкт, эгоизм, но не потому, что они иностранные, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятия, и слова побудка, ячество не будут для него нисколько яснее инстинкта и эгоизма. Простолюдины не понимают многих чисто русских слов, которых смысл вне тесного круга их обычных житейских понятий, например: событие, современность, возникновение и т. п., и хорошо понимают иностранные слова, выражающие относящиеся к их быту или не чуждые его понятия, например: пачпорт, билет, ассигнация, квитанция и т. п. Что же касается до людей образованных, то инстинкт для них – воля ваша – яснее и понятнее побудки, эгоизм – ячества, факты – бытей. Но если одни иностранные слова удержались и получили в русском языке право гражданства, зато другие с течением времени были удачно заменены русскими, большею частию вновь составленными. Так, Тредьяковский, говорят, ввел слово предмет, а Карамзин – промышленность. Таких русских слов, удачно заменивших собою иностранные, множество. И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово – значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова утрировать вместо преувеличивать. Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывом иностранных слов; наша, разумеется, не избегла его. И это еще не скоро кончится: знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой нам почве, всегда будет приводить к нам и новые слова. Но чем дальше, тем менее это будет заметно, потому что до сих пор мы вдруг знакомились с целым кругом дотоле чуждых нам понятий. По мере наших успехов в сближении с Европою, запасы чуждых нам понятий будут все более и более истощаться, и новым для нас будет только то, что ново и для самой Европы. Тогда естественно и заимствования пойдут ровнее, тише, потому что мы будем уже не догонять Европу, а итти с нею рядом, не говоря уже о том, что и язык русский с течением времени будет все более и более вырабатываться, развиваться, становиться гибче и определеннее.
Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу, но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, то есть неумеренный пуризм, производит те же следствия, потому что крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и верный: это – его же собственный дух, гений. Вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают. Тому же самому закону подлежат и новосоставляемые русские слова: одни из них удерживаются, другие исчезают. Неудачно придуманное русское слово для выражения чуждого понятия не только не лучше, но решительно хуже иностранного слова. Говорят, для слова прогресс не нужно и выдумывать нового слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: успех, поступательное движение и т. д. С этим нельзя согласиться. Прогресс относится только к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может быть и то, в чем вовсе нет успеха, приобретения, даже шагу вперед; и напротив, прогрессом может быть иногда неуспех, упадок, движение назад. Это именно относится к историческому развитию. Бывают в жизни народов и человечества эпохи несчастные, в которые целые поколения как бы приносятся в жертву следующим поколениям. Проходит{4} тяжелая година – и из зла рождается добро. Слово прогресс отличается всею определенностию и точностию научного термина, а в последнее время оно сделалось ходячим словом, его употребляют все – даже те, которые нападают на его употребление. И потому, пока не явится русского слова, которое бы вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово прогресс.
Всякое органическое развитие совершается через прогресс, развивается же органически только то, что имеет свою историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется. Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязанные своим появлением внешним влияниям, подражательности, – у такой, литературы не может быть истории. Ее история – каталог книг. К такой литературе слово прогресс неприложимо, и появление нового, почему-нибудь замечательного произведения в ней не есть прогресс, потому что это произведение не имеет корня в прошедшем и не даст плода в будущем. Тут время и годы ничего не значат: они могут итти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да приносит с собою, – и это что-нибудь есть прогресс. Но не каждый год можно ясно увидеть и определить этот прогресс; часто он оказывается только впоследствии. Но, во всяком случае, очень полезно в определенные сроки, например, по окончании каждого года, обозревать в целом ход литературы, ее приобретения, ее богатство или ее бедность. Такие обозрения не бесполезны для настоящего времени и могут служить важным пособием для будущего историка литературы.
Отчеты о литературной деятельности за каждый истекший год начали входить у нас в обыкновение с 1823 года. Пример был подан Марлинским в знаменитом того времени альманахе.{5} И с тех пор годовые обозрения литературы почти не прерывались в альманахах в продолжение десяти лет. В журналах же они появлялись редко, но в последнее время постоянно печатаются в одном известном журнале уже лет семь сряду.{6} Отделение критики в «Современнике» прошлого года началось обзором русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый год всегда будет заключать в себе такое обозрение литературной деятельности за истекший год.
Подобные обозрения с течением времени делаются истинными летописями литературы, важным пособием для ее историка. Альманачные обозрения, о которых мы сейчас говорили, имеют теперь для нас весь интерес старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назад тому! Так быстро идет вперед наша литература! Но какою отдаленною, какою глубокою стариною отзывается «Обозрение русской литературы 1814 года», написанное г. Гречем и помещенное в «Сыне отечества» 1815 года! На нескольких жиденьких страничках исчислены все ученые и литературные приобретения и сокровища 1814 года. Год этот действительно ознаменован был появлением нескольких замечательных серьезных книг, как, например: «Собрание государственных российских грамот и договоров», обязанное своим изданием графу Н. П. Румянцеву: «История медицины в России» Рихтера и перевод Дестуниса «Плутарховых жизнеописаний». Но что за страшная бедность по части собственно так называемой изящной словесности! Перевод Делилевой поэмы «Сады» г. Палицына, описательная поэма князя Шихматова «Сельский житель», стихотворение Державина «Христос», «Ночь на размышление» князя Шихматова и «Размышление о судьбе» князя Долгорукова. Все это поэмы в дидактическом роде, который тогда был особенно в ходу, а теперь давно уже признан антипоэтическим и забыт совершенно. Потом в обозрении г. Греча упоминается об издании басен и сказок Александра Измайлова и о баснях какого-то г. Агафи, и в заключение замечено, что басни Крылова были помещаемы в журналах. Вот и все! Автор обозрения замечает, что в течение первых пяти лет XIX столетия вышло более сочинений, нежели прежде того в течение десяти лет; но что, по причине политических обстоятельств того времени, о 1806 до 1814 года, литературное движение в России почти совсем остановилось. В продолжение второй половины 1812 и первой 1813 годов не только не вышло в свет, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имела предметом тогдашних происшествий. «Наконец, в 1814 году, – говорит автор обозрения, – увенчавшем все напряжения и труды истекших лет, русская литература, посвящая поэзию и красноречие в честь и славу великого монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уровненный и огражденный навсегда. В течение сего года вышли многие сочинения и переводы, которые останутся незабвенными в летописях нашей литературы». Это отчасти справедливо, только не в отношении к произведениям поэзии… Замечательно, что, признавая бедность некоторых разрядов своего обозрения, автор, как успеху русской литературы, радуется тому, что в течение 1814 года вышло в Петербурге и Москве только по одному роману (оба переведены с немецкого) да две исторические повести! Не думал он тогда, что роман и повесть скоро станут во главе всех родов поэзии и что сам он напишет некогда «Поездку в Германию» и «Черную женщину». Но вот еще характеристическая черта нашей литературы, или, лучше сказать, нашей публики, – черта, о которой, к сожалению, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась стариною: известного путешествия Крузенштерна вокруг света, изданного в 1809–1813 годах, на русском и немецком языках, и путешествия вокруг света Лисянского, изданного в 1812 году, на русском и английском языках, в России разошлось, – говорит автор обозрения, – едва ли по двести экземпляров каждого, между тем как в Германии вышло три издания путешествия Крузенштерна, а в Лондоне продана в две недели половина экземпляров книги Лисянского.
Годичные обозрения появились в альманахах вследствие начинавшего возникать критического духа. Приступая к обозрению литературы известного года, критик начинал иногда очерком всей истории русской литературы. Писать эти обозрения тогда было очень легко и очень трудно. Легко потому, что все ограничивалось легкими суждениями, выражавшими личный вкус обозревателя; трудно или, лучше сказать, скучно потому, что это была работа дробная, мелкая; надо было перечислить решительно все, что появилось в течение обозреваемого года отдельно изданным в журналах и альманахах, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда, по части изящной словесности, в журналах и альманахах? – большею частию крошечные отрывки из маленьких поэм, из романов, повестей, драм и т. п. Большею частию целых сочинений и не существовало: отрывок писался без всякого намерения написать целое. О каждой такой безделице надо было упомянуть и сказать свое мнение, потому что тогда, при начале так называемого романтизма, все было ново, все интересовало собою, все считалось важным событием – и отрывок из несуществующей поэмы в двадцать стихов счетом, и элегия, и сотое подражание какой-нибудь пьесе Ламартина, перевод романа Вальтера Скотта и перевод романа какого-нибудь Фан-дер-Фельде.
В этом отношении теперь гораздо лучше писать обозрения. Теперь уже не считается принадлежащим к литературе все, что ни выходит из-под типографских станков. Теперь многое испытано, ко многому пригляделись и привыкли. Конечно, перевод такого романа, как «Домби и Сын», и теперь замечательное явление в литературе, и обозреватель не вправе пропустить его без внимания; но зато переводы романов Сю, Дюма и других французских беллетристов, появляющихся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явлениями.{7} Они пишутся сплеча, их цель – выгодный сбыт, доставляемое ими наслаждение известному разряду любителей такой литературы относится, конечно, ко вкусу, но не к эстетическому, а тому, который у одних удовлетворяется сигарами, у Других – щелканием орешков… Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произвол критики уже не может убить хорошей книги и дать ход дурной. Французские романы наполняют собою наши журналы и издаются особо; в том и другом случае они находят себе множество читателей. Но по этому отнюдь не следует делать резких заключений о вкусе публики. Многие берутся за роман Дюма, как за сказку, вперед зная, что это такое, читают его с тем, чтобы развлечь себя на время чтения небывалыми приключениями, а потом и забыть их навсегда. В этом, разумеется, нет ничего дурного. Один любит качаться на качелях, другой – ездить верхом, третий – плавать, четвертый – курить, и многие вместе с этим любят читать вздорные сказки, хорошо рассказываемые. Поэтому переводные романы и повести уже не заслоняют собою оригинальных; напротив, общий вкус публики отдает последним решительное предпочтение, так что помещать в журналах преимущественно переводные романы и повести заставляет журналистов только одна крайность, то есть недостаток в оригинальных произведениях этого рода. И такое направление вкуса публики становится заметнее и определеннее год от году. В отношении же к оригинальным произведениям очарование имен совершенно исчезло; громкое имя, конечно, и теперь заставит каждого взяться за новое сочинение, но уже никто не придет от него в восторг, если в нем хорошего одно только имя автора. Сочинения посредственные, слабые проходят незаметными, умирают своею смертию, а не от ударов критики. Такому положению литературы, столь различному от того, в каком она находилась лет двадцать назад тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчет в годичном движении литературной деятельности, теперь нечего обращать внимание на количество произведений или хлопотать об оценке каждого явления из опасения, что без указаний критики публика не будет знать, что считать ей хорошим и что – дурным. Нет даже нужды останавливаться на каждом порядочном произведении и вдаваться в подробный разбор всех его красот и недостатков. Подобное внимание принадлежит теперь по праву только особенно замечательным в положительном или отрицательном смысле произведениям. Главная же задача тут – показать преобладающее направление, общий характер литературы в данное время, проследить в ее явлениях оживляющую и движущую ее мысль. Только таким образом можно если не определить, то хоть намекнуть, насколько истекший год подвинул вперед литературу, какой прогресс совершала она в нем.
Собственно новым 1847 год ничем не ознаменовал себя в литературе. Явились в преобразованном виде некоторые из старых периодических изданий, явился даже один новый листок; замечательными произведениями по части изящной словесности прошлый год был особенно богат в сравнении с предшествовавшими годами; явилось несколько новых имен, новых талантов и действователей по разным частям литературы. Но не явилось ни одного из тех ярко-замечательных произведений, которые своим появлением делают эпоху в истории литературы, дают ей новое направление. Вот почему мы говорим, что собственно новым литература прошлого года ничем не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, которого нельзя назвать ни новым, потому что он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком недавно открылся для литературы, – именно немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: «натуральная школа».{8} С тех пор прогресс русской литературы в каждом новом году состоял в более твердом ее шаге в этом направлении. Прошлый 1847 год был особенно замечателен в этом отношении в сравнении с предшествовавшими ему годами как по числу и замечательности верных этому направлению произведений, так и большею определенностию, сознательностию и силою самого направления и большим его кредитом у публики.
Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею известностию, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом» публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против риторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного риторического направления, и между так называемыми славянофилами? – Ничего! и однакож последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми, нападают, в том же тоне, теми же словами, с такими же доказательствами, на натуральную школу и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою непоследовательностию, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то «потребности внутреннего очищения». К этому должно прибавить, что школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению риторизма. Видя это, некоторые из противников натуральной школы пытались противопоставлять ей ее же писателей. Так, одна газета думала г. Бутковым уничтожить авторитет самого Гоголя.{9}