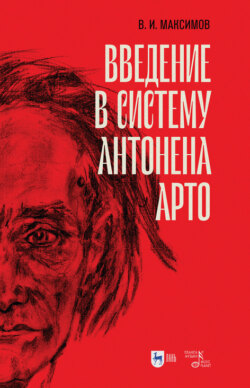Читать книгу Введение в систему Антонена Арто - В. И. Максимов - Страница 4
Введение в систему Антонена Арто
В. Максимов
Глава первая
Эстетический феномен
Оглавление«Театр и культура». Проблема культуры у сюрреалистов, О. Шпенглера и Ф. Ницше. Идея активной культуры.
Духовный прорыв рубежа XIX–XX веков. Мысль и действие у Арто. Вещь как таковая. Магия. Манас. Театр и ритуал.
Основные требования к актеру. Тень. Предварительное определение понятия «Двойник». Актер, сжигающий формы. Незаинтересованное действие.
«Никогда еще за всю историю человеческой жизни, с каждым годом приближающейся к своему концу, так много не говорили о цивилизации и культуре. И напрашивается странная параллель между общим упадком жизни, вызвавшим современное падение нравов, и заботами о сохранении культуры, которая с жизнью никогда не совпадала и создана, чтобы ею управлять» (IV, 11)[3]. Этими словами начинается сборник статей «Театр и его Двойник».
Статья «Театр и культура» написана Арто специально, как предисловие к сборнику. Создавалась она в течение нескольких лет и была закончена в начале 1937 года, когда прочие статьи сборника были уже написаны. Арто касается здесь в основном общеэстетических вопросов и вопроса о месте театра в культуре XX века.
В 20-30-е годы остро встает проблема культуры как таковой. Для сюрреалистов культура становится совокупностью атрибутов искусственной цивилизации и синонимом буржуазной культуры. Тотальную революцию сюрреалисты понимают как разрушение культуры вообще. При этом они не ощущали границы между культурой и буржуазной обыденностью. В результате на место культуры была поставлена эстетика сна, подчинявшая себе и обыденную жизнь, и сюрреалистическое произведение. Таким образом, в сюрреализме оппозиция «художественное произведение – обыденная действительность» полностью снимается. «Буржуазная» культура полностью отрицается.
Арто выступает против такого смешения понятий. Он отрицает современное европейское искусство, противопоставляя ему вечные ценности культуры. По мысли Арто, искусство разъединяет людей, культура – объединяет.
«Проблема культуры» возникла отнюдь не в связи с сюрреализмом. После выхода в свет фундаментального исследования Освальда Шпенглера «Закат Европы» (первый том вышел в 1918 году) новые модернистские направления и общество в целом активно усваивали идею о том, что западная культура вошла в период «цивилизации», а на данной ее стадии происходит разложение государственных форм, становление гигантских «хозяйственных комплексов» социализма и империализма, перетекание народов в аморфную людскую массу, исчезновение стилей в искусстве, утилитарное использование культуры, конец чувства формы.
Новые художники воспринимали мир уже в ракурсе идеи уничтожения, но при этом недостаточно внимательно читали самого Шпенглера. Шпенглер же различает два типа художественных форм. Он признает неизбежность полного исчезновения атрибутов одной культуры: последняя скрипка Страдивариуса когда-нибудь исчезнет, мелодика Бетховена не будет понятна грядущим культурам, холсты Рембрандта погибнут, а Страсбургский собор будет казаться таким же курьезом, каковыми нам кажутся сооружения майя. Но…
Все это касается той другой формы, которая вскрывается в беспрерывном становлении и есть собственно живая, есть образ души. Произведение искусства также имеет душу: оно вообще есть нечто духовное, вне пределов пространства, границы и числа. Чтобы быть, этот образ не нуждается в действительности. Он возникает и не уничтожается. Даже утраченные – исчезнувшие из чувственного естественного бытия – трагедии Эсхила пребывают, не в написанной или устно переданной форме, не как материальные творения, не для дневного сознания каких-нибудь людей, а в той сущности, которая нерушима[4].
Произведениям культуры Шпенглер придает общечеловеческий смысл. Рождаются и бесследно исчезают культуры. Но сущность конкретных произведений неуничтожима, ибо она неформальна. Культурным актом является сам факт ее наличия. Состоявшееся произведение остается, по сути, навсегда. Некая глобальная преемственность культур имеет чисто эстетический характер. И другой преемственности быть не может.
Шпенглер, таким образом, конкретизирует знаменитый тезис Фридриха Ницше: «бытие и мир получают свое оправдание лишь как эстетический феномен»[5]. Для Ницше эта идея заключается в следующем: человек только в творческом акте постигает смысл мира, но мир сам по себе ничего не значит. Непреходящая сущность мира представляется Ницше неким «всемирным первохудожником», с которым отождествляется человек творящий. Смысл творчества не зависит от художника и тем самым признается его объективный характер.
Вся эта комедия, именуемая искусством, разыгрывается вовсе не для нас, не ради нашего здравия и просвещения. <…> Мы даже не творцы мира искусства – скорее всего можно предположить, что для подлинного творца этого мира мы является лишь образами и художественными проекциями[6].
Проявление высшего смысла «бытия и мира» возможно только в художественном творчестве, следовательно, мир раскрывается единственно как эстетический феномен.
Ницше развивает здесь концепцию, сложившуюся еще в античности и разработанную, например, орфиками: целью мира является создание некоего произведения, мистерии. Уже под влиянием Ницше эта концепция получила широкое развитие на рубеже XIX–XX веков, особенно в символизме. В частности, Стефан Малларме творит некую Книгу, а Скрябин – всеобщую Мистерию, в которой произойдет «развязка» мира.
X. Л. Борхес проводит параллель между идеей Гомера о человеческих злоключениях, как побудительной силе для создания великих произведений, и идеей Малларме «книга вмещает все». Борхес считает:
Мысль та же самая, мы созданы для искусства, для памяти, для поэзии или, возможно, для забвения. Но что-то остается, и это что-то – история или поэзия, сходные друг с другом[7].
Концепция некоего всеобщего театрального процесса разрабатывается Арто под заметным влиянием Ницше и Малларме. Идея некоего сущностного сверхчеловеческого акта как главной цели театра пронизывает всю книгу «Театр и его Двойник». Неудивительно, что Арто начинает книгу с постановки вопроса о культуре и соотнесения ее с обыденными и всеобщими человеческими проблемами. Сопоставление это сделано – как и все у Арто – парадоксально.
Арто, бесспорно, ближе ницшеанское объяснение мира, нежели пафос отрицания сюрреалистов, хотя он с сюрреалистическим азартом громит культуру как таковую. Но речь у Арто идет не о культуре вообще, а о культуре временных форм. Статья направлена на выявление «нерушимой сущности» (Шпенглер) культуры. Арто использует общепринятую в те годы шпенглеровскую терминологию «культура» и «цивилизация», но заявляет, что «культура» обозначает то же явление. Тем самым, у Арто современное понимание культуры приближается к шпенглеровской «цивилизации».
Самое неотложное, на мой взгляд, не защищать культуру, которая не спасла еще ни одного человека от забот о том, как жить лучше и не быть голодным, а постараться извлечь из того, что нынче называется культурой, идеи, равные по своей живительной силе власти голода.
Мы прежде всего хотим жить, хотим верить, что то, что велит нам жить, действительно существует, – и все, выходящее из наших таинственных глубин, не должно без конца возвращаться к нам самим вместе с элементарным желанием утолить голод (IV, 11).
Из первых абзацев статьи становится ясно, что в определении культуры Арто исходит, подобно 3. Фрейду, из первичных физиологических процессов и ставит культуру в прямую зависимость от них. Однако Арто далек от того, чтобы ограничиться подобным объяснением культуры. Он пытается понять, что есть культура. То ли это система, в которой существует человек, то ли самостоятельные образования (цивилизации), не связанные с человеком, то ли это внутреннее состояние человека, степень его развития. Во всяком случае, Арто подразумевает некую объективную данность, воздействующую на человека.
Оттолкнувшись от первичности физиологических процессов, Арто рассматривает эстетическую потребность как одну из основных, органически присущих человечеству. Отсюда параллель с физическим ощущением голода. При всей поэтичности языка Арто, в основе его образной системы – реалии. Художественная потребность и чувство голода оцениваются им как явления одного ряда.
С другой стороны, в отличие от сюрреалистов, художественная потребность осознается Арто как высший смысл жизни. В «таинственных глубинах» сознания он пытается вскрыть наиболее сокровенные пласты.
В глубине человеческого сознания естественно оказывается потребность в культуре. Так возникает «идея активной культуры». Человек активной культуры – это человек действующий, а не бесконечно осмысляющий свои действия. Кризис культуры в том, что мысль и действие разъединены:
Мы слишком любим разглядывать свои поступки и теряемся в рассуждениях о их мыслимых вариантах, вместо того, чтобы подчиняться им (IV, 11).
Требуя от культуры, чтобы она была «действенной», Арто закономерно пришел к отрицанию рефлексии, как главного принципа всей христианской эпохи развития культуры и как основного принципа существования художественного творчества. В ситуации кризиса христианской культуры художники-импрессионисты, писатели «потокасознания», сюрреалисты декларировали каждый на свой лад «бессознательную» основу творчества. Непосредственно у Арто это выражается в отсутствии какого бы то ни было осмысления вещи и в наименовании ее единственно возможным иероглифом. Пафос отрицания рефлексии сближает Арто с идеями Фридриха Ницше, первым до конца осознавшего начало кризиса сократовско-христианского мышления с его раздвоенностью и оторванностью от действия.
В «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше писал:
Как и Платон, Еврипид решил показать миру нечто противоположное «неразумному» поэту; его эстетический принцип: «Чтобы быть прекрасным, все должно быть сознательным» соотносится, как я уже говорил, с сократическим тезисом: «Все добродетельное должно быть сознательным». А посему мы можем смотреть на Еврипида как на поэта эстетического сократизма[8].
Таким образом, осознание Антоненом Арто кризиса культуры, как разрыва мысли и действия, касается не только современного положения дел, а длительного, многовекового процесса эволюции сознания. Арто развивает ницшеанские идеи, когда оценивает стремление к рефлексии, к «разглядыванию своих поступков».
Это чисто человеческое качество. Я бы даже сказал, что это чисто человеческая инфекция искажает наши идеи, в принципе вполне способные сохранять свою божественную природу. Я не склонен считать сверхъестественное и божественное измышлением человека, но я думаю, что только тысячелетнее вмешательство человека могло извратить для нас идею божественного (IV, 13).
В развитии европейской культуры Арто выделяет последнее тысячелетие, которое, по его мнению, исказило подлинное предназначение человека. В предисловии Арто к изданию «Двенадцати песен» М. Метерлинка, написанном в декабре 1922 года, он уточняет хронологические границы «отступления» культуры (в данном случае – поэзии) от естественного развития и поясняет, в чем это выразилось:
Метерлинк первым ввел в литературу многогранное богатство сверхсознания. Образы его поэм организуются согласно принципу, не являющемуся принципом нормального сознания. Однако в поэзии Метерлинка предмет не восстановил еще своего сущего состояния – состояния предмета, ощутимого настоящими руками. Сенсация осталась литературной. Это возмездие двенадцати веков французской поэзии. Впрочем, современные писатели восстановили пошатнувшееся положение (I, 217).
По мнению Арто, вся французская поэзия, начиная с ее истоков – со Средневековья, метафорическая, чисто поверхностная.
Не вдаваясь в подробности отношения Арто к Метерлинку и символистам, определившим творчество Арто в момент его вступления в литературу, отметим лишь мнение самого Метерлинка на предшествующую историю культуры. Драматург в своем первом трактате «Сокровище смиренных» разделяет эпохи на духовные и материальные. Метерлинк пишет:
Бывают в истории подобные периоды, когда, подчиняясь неведомым законам, душа всплывает на поверхность человечества и проявляет с большей непосредственностью свое бытие и могущество[9].
К таким периодам относятся Древний Египет и Древняя Индия, Персия, Александрия, XIII–XIV столетия Средневековья. Противоположные им – Античные Греция и Рим, XVIII–XIX столетия в Европе:
Таинственные отношения отрезаны, и красота закрывает глаза[10].
И Метерлинк, и Арто недвусмысленно провозглашают наступление принципиально новой духовной эпохи, некоего духовного прорыва, перехода человека в иное качество. Это качественное изменение должно произойти на уровне сознания, и открывающееся человечеству сверхзнание есть не что иное, как реализация ницшеанской идеи о сверхчеловеке (которую, впрочем, сам Ницше не представлял в ближайшем будущем). Новое качество человеческого сознания, открывающееся «на краю бездны», достижимо, конечно, только с помощью культуры. Это и есть артодианская
активная культура, которая стала бы для нас чем-то вроде нового органа или второго дыхания (IV, 12; выделено мной – В. М.).
Здесь Арто отражает общее устремление наиболее глубоких и смелых умов начала XX века. Особенно сильно и особенно поэтично это общее усилие выразилось в стихах Николая Гумилева. Например, в одном из программных стихотворений «Шестое чувство» поэт сопоставляет новое состояние, в которое переходит человек, с вычленением из живого хаоса существа, ощущающего возможность взмахнуть крыльями:
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;
Так, век за веком – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Николай Гумилев наиболее остро среди множества поэтов отразил это предчувствие сверхсознания, сверхчувства, пробуждаемое на рубеже XIX–XX веков. Человеческое существование рассматривалось как предчувствие неких глобальных изменений, сравнимых с переходом в иное измерение. Острота ощущения, предчувствие чего-то неведомого, реально проявлялось во взаимоотношениях людей, в открытии новых уровней общения. Но если для символистов речь идет о возможности прикоснуться к тому, что невыразимо в повседневности, противоположно обыденной жизни:
настанет время, когда души будут узнавать одна другую без посредства чувств. Нет сомнения, что область духа с каждым днем все больше и больше расширяется[11],
– то у Николая Гумилева и Арто сверхреальное содержится в самой окружающей нас жизни. Их внимание обращено не к потустороннему, а наоборот, как бы вглубь предмета, к его реальной осязаемой сущности. Предмет у Метерлинка не восстановил еще состояния предмета, ощутимого руками, – пишет Арто. Гумилевское «Шестое чувство» начинается с того, что предмет (вино, хлеб, женщина) рассматривается с точки зрения предназначенности для поэта. Предмет существует только в непосредственной связи с лирическим героем. В книге Арто мысль о преображении реальности выражена еще более ошеломляюще: «мысль и действие одно и то же» (IV, 13).
В статье «Театр и Чума» духовные взаимоотношения сравниваются с абсурдной логикой распространения чумы, преодолевающей время и пространство, игнорирующей любые препятствия. Чума подчиняет себе мысли исторических персонажей, возникающих в «Театре и Чуме». А мысль способна материализоваться, потому что (как сказано в «Театре и культуре») «мысль и действие одно и то же».
Проблема эпохи (то есть длительного периода, предшествующего современности), проблема этой самой «цивилизации» – в разрыве мысли и действия; предмета, вещи («систем, форм, знаков и обозначений») и ее, вещи, содержания, означаемого.
Смутные намеки на разрешение проблемы, содержащиеся в словах Арто «Поэзия пробивается с изнанки земного шара», сменяются решительным выходом из глобальных противоречий, накопленных цивилизацией.
Театр создан для того, чтобы вернуть к жизни наши подавленные желания; странная, жестокая поэзия выявляет себя в эксцентричных поступках, но отклонения от жизненной нормы говорят о том, что жизненная энергия ничуть не иссякла, и достаточно лишь дать ей верное направление (IV, 13).
В этой фразе кратко сформулирована концепция крюотического театра. Театр способен реализовать подавленные желания – нереализованные в повседневной жизни естественные стремления. Под действием обнажения вещи, можно сказать – жестокого обращения с вещью, а в художественном смысле – прямого ее называния, отождествляющего означаемое и означающее, – под действием этого «обнажения» течение жизни изменяется, приходит в соответствие с естественной структурой развития. Это позволяет человеку реализоваться, преодолевая «страх перед жизнью». Театр создан для того, чтобы сохранить «жизненную энергию» и раскрыть неисчерпаемые возможности человеческого духа (в условиях «действенной культуры») через прямое называние любой вещи, то есть прямое – жестокое – воздействие на нее.
В начале 30-х годов, когда создаются статьи «Театра и его Двойника», А. Ф. Лосев пишет большую работу «Самое само», где подробно разбирает понятие «вещь». Лосев ставит главной задачей познание, выявление сущности вещи. Вопрос ставится таким образом: что такое сама вещь? Тем самым философ старается определить абсолютную самость, некое единство всех вещей. Лосев приходит к выводу о неразличимости конечного и бесконечного. Не вдаваясь в философские размышления Лосева, отметим, что он обосновывает существование вещи как таковой, сущности вещи, которую надо увидеть, а не обмануться отдельными её признаками, пусть даже такими признаками будет материальная сторона вещи.
До всякого становления вещи и до всякой истории есть сама вещь. Вещь раскрывается в своей истории, присутствует в своем становлении. Но она не есть ни то, ни другое[12].
Но наличие этой сущности указывает на наличие единства всех вещей, некоей абсолютной сущности, конечной и бесконечной одновременно.
Точно так же в человеке наличествует «Я», которое не определимо никакими признаками человека. Характерно, что проявление «Я» Лосев видит прежде всего в человеческом общении и делает вывод о невозможности определения общения «при помощи тех или иных признаков»[13]. Тем не менее, сущностью «Я» является невыразимая тайна общения одной личности с другой.
Выявление вещи как таковой и установление реальных сверхбытовых связей между людьми – две стороны одной проблемы. Проблемы, поставленные на рубеже XIX–XX веков, к 30-м годам обрели попытки их разрешения как в практической деятельности (крюотический театр), так и в философской системе. Примерно в это же время (в 1929 году) фрайбургский профессор Мартин Хайдеггер в своей программной лекции «Что такое метафизика?», описывая процесс ускользания сущего и проявления Ничто, отмечает, что вещи в этом процессе предстают как таковые, «повертываются к нам» в своем «безразличии». Уходит все формальное, приоткрывается Ничто.
Расцвет творчества Хайдеггера в 30-е годы привел к признанию его идей. Судьба творчества Арто и Лосева складывалась куда трудней. Произведения Арто и Лосева оказались невостребованными. Система Арто не могла быть принята современниками, книга Лосева пролежала в рукописи шесть десятилетий.
Зато определенный резонанс в Европе имело другое философское сочинение – «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна, опубликованный в 1921 году. Близость мировоззрений Арто и Витгенштейна поразительна. Философ стремится разрешить проблемы языка, ощущая трагический разрыв наименования и «факта». Как и Арто, Витгенштейн преодолевает разрыв мысли и действия, считая будущую философию не теорией, а деятельностью.
Заявив о том, что театр способен вернуть к жизни подавленные желания, направить жизненную энергию в нужную сторону, Арто должен был в пределах книги ответить на вопрос как это сделать. Ответом являются аналогии из нетеатральных областей, но эти области, собственно, и являются театром. Не говоря уже далее о театре, Арто произносит слово «магия»:
Но как бы громко ни звучали наши магические заклинания, в глубине души мы испытываем страх перед жизнью, целиком попавшей под начало истинной магии (IV, 13).
Те жизненные силы, которые лежат за пределами конкретных форм и энергию которых нельзя уничтожить, распространяются, воздействуют на нас с помощью магических законов – считает Арто. На протяжении всей книги Арто обращается к понятиям «магия» и «магический». Речь идет опять-таки об определенном воздействии на человека или вещь, противоречащем обыденной логике. Арто приводит пример с кораблем европейцев, проходящим мимо неизвестного острова. И, несмотря на то, что все европейцы здоровы, среди туземцев вспыхивают эпидемии европейских болезней. Такова магическая логика.
Магия, как известно, использует два основных принципа – гомеопатический и контагиозный. Гомеопатический принцип – закон подобия – заключается в том, что для воспроизведения реального действия необходимо произвести простое подражание ему. Подобное порождает подобное. Причина вызывает следствие, но и следствие воспроизводит причину. Этот магический принцип лежит также в основе практической каббалы, вызывающей пристальное внимание Арто и даже попытки ее использования. Контагиозный принцип – закон соприкосновения – гласит, что вещи, бывшие в соприкосновении, продолжают взаимодействовать и после непосредственного контакта. Таким способом воздействие на человека совершается через предмет, с которым он ранее соприкасался.
Арто подразумевает оба эти принципа, ибо «для того, чтобы вернуть к жизни наши подавленные желания», необходимо непосредственное воздействие на зрителей. Открытие глубинных человеческих способностей, выход на общечеловеческий уровень сознания – необходимые условия театра Арто. Театральный художественный процесс требует не просто зрительской грамотности, культурности, принятия условности, он требует «жизненной энергии», как бы заснувшей в человеке.
Подлинную культуру, основанную на жизненной энергии, Арто обнаруживает у архаических народов:
Подлинная культура противостоит нашей пассивной и незаинтересованной концепции искусства свою концепцию, магическую и безудержно эгоистическую, то есть заинтересованную (IV, 16).
В качестве примера приводится мана (манас) – меланезийское понятие, обозначающее тотальную способность к пониманию, восприятию, осмыслению и познанию. С санскрита это слово переводится как «ум», что вызывает аналогии с древнегреческим ноо. Однако в отличие от последнего, манас – не только причастность к космическому знанию, но и духовное единство человека и мира. У Арто мана возникает в таком контексте:
Мексиканцы улавливают манас, силу, дремлющую во всякой форме, но не высвобождающуюся при созерцании форм как таковых, она выходит наружу только в результате магического отождествления себя с этими формами. И древние Тотемы могут ускорить установление контактов (IV, 16).
Итак, вновь речь идет о высвобождении жизненной энергии, причем высвобождение происходит при отождествлении сущности и формы, так как манас, способный воздействовать на душу, принадлежит телу (является частью «тонкого тела»). Отождествление некоей внутренней энергии и внешней формы приводит, по Арто, к возникновению нового качества, чего-то иного по сравнению и с неведомой силой мана, и с внешней формой – иного, но близкого им. Так Арто постепенно подводит читателя к идее Двойника.
Вернемся к уточнению жизненной энергии и артодианского понятия «манас». В те же годы, когда только замышлялись статьи «Театра и его Двойника», Юнг разработал понятие «мана», которое, отождествляясь с сознанием «Я», вскрывает глубины личности, обнаруживая общечеловеческое «Нечто».
Это «нечто» нам чуждо, но все же необычайно близко, оно совсем наше, но все же неузнаваемо для нас, это виртуальное средоточие столь таинственного устройства, что может требовать всего – родства с животными и богами, кристаллами и звездами, не повергая нас в изумление, даже не возбуждая нашего непризнания[14].
Именно в связи с вселенским родством, с общечеловеческим взаимопониманием возникает у Арто понятие «манас». Связь с бессознательным обнаруживает Арто у архаических народов. Впрочем, нигде в тексте «Театра и его Двойника» мы не найдем непосредственного влияния Юнга. Что касается появления у Арто самого термина «манас», его источником могло быть произведение, принадлежащее автору, имевшему огромную популярность во Франции. В 1932 году опубликована последняя книга крупнейшего философа-интуитивиста Анри Бергсона «Два источника морали и религии». Здесь содержатся, в частности, рассуждения о магии и первобытном мышлении. Арто не мог пройти мимо этой и предшествующих книг Бергсона (таких как «Духовная энергия»). О мана Бергсон пишет следующее:
Нам говорят о полинезийском понятии «мана», аналог которого обнаруживается в других местах под различными названиями: «ваканда» у сиу, «оренда» у ирокезов, «пантанг» у малайцев и т. п. Согласно одним, «мана» является универсальным жизненным принципом и составляет, в частности, говоря нашим языком, субстанцию душ. Согласно другим, это скорее сила, которая является как избыточная и которую душа, как, впрочем, и любой другой объект, может заполучить; но она не принадлежит душе по существу[15].
Бергсон не склоняется однозначно к одному или другому представлению. Но важно, что явление, о котором идет речь, не сводится к нейтрально европейскому понятию «душа». И все же Бергсон сводит проблему к некоей потусторонней силе, сохраняющейся (или – не сохраняющейся) после земной жизни. Таким образом, мы имеем дело с традиционным религиозным подходом. Не отождествляя мана с душой, Бергсон ведет речь о «тени тела», как первопричине «деятельной силы». У Арто же нет и намека на потусторонность. Мана — реальное проявление реальной силы, содержащейся в любой форме и высвобождающейся при воздействии волевого акта.
Появление этого понятия у Арто – не единственный случай в театре того времени. Андрей Белый воспринимает Михаила Чехова в роли Гамлета как некую форму внутреннего знака, ассоциирующегося с «сошествием Манаса»[16].
По образу действия магических средств, по подобию внутренних сверхъестественных сил строится крюотический театр. Он должен сделать то, что не под силу в обыденной жизни – вывести человека один на один с реальностью. Культура американских индейцев оказывается ближе к крюотическому театру, к архетипическому в человеке, так как она находится на мифологической стадии развития. Эта культура опирается не на вычлененные художественные образы, а на устойчивые мифологемы. Арто в своем творчестве также отказывается от создания художественного образа. Элементарной смысловой моделью произведения крюотического театра является иероглиф.
Театральная теория Арто – одно из наиболее ярких проявлений общего интереса искусства XX века к мифу и мифологической структуре. Не случайно другим ярчайшим проявлением стала современная латиноамериканская литература. Ее выход на ведущее место в середине века – следствие неразрывной связи с мифологическим слоем при использовании достижений европейского искусства. Арто в конкретных своих оценках и в практической деятельности также предусматривал синтез мифологической структуры и композиции художественного произведения. В этом смысле Арто уловил направление движения к произведению искусства будущего.
Мало соответствующее действительности, но распространенное мнение о том, что Арто видел театр в формах ритуала, вызвано его страстным призывом обратить внимание на древний тотемизм, на ритуальные предметы, насыщенные энергетическими силами. Если уж говорить о прообразе крюотического театра, то, скорее, это миф. Но реалии ритуала возникают в размышлениях Арто как та основа, на которой строится архетипическое сознание.
Всякая истинная культура ищет опору в варварских примитивных средствах тотемизма, и я готов признать, что его дикая, то есть абсолютно стихийная жизнь вызывает у меня благоговение (IV, 15).
Речь идет о том, что на ритуальной стадии развития культуры формируется общечеловеческий архетип (см. работы 3. Фрейда «Тотем и табу», К. Г. Юнга «Проблемы души нашего времени»). В сценическом плане языком выражения архетипа является иероглиф. Рассматривая примеры архаической культуры, Арто беспрестанно возвращается к проблеме актера. Постепенно становятся ясны требования, предъявляемые к актеру крюотического театра. Это человек, не утративший связи с природой (с «дикой жизнью»), то есть способный отдаться скрытым в его сознании архетипам. Актер устанавливает на этом уровне контакт со зрителем, вскрывая духовные силы и природные стихии. Устойчивые архетипы глубоко вытеснены в подсознание, и выявление их сближает художественный акт с психоаналитическим сеансом. Зато способность отдаться архетипической стихии означает реализацию человеческого предназначения и знаменует переход от «рассуждений о мыслимых вариантах» наших поступков к «подчинению им». По Арто, «свободная жизнь» – в способности подчиниться самому себе, своим внутренним силам, не имеющим личностной окраски, то есть архетипическим.
Артодианская концепция актерского искусства тесно связана с образом тени, одним из важнейших в театральной системе Арто, хотя и принимающим различные наименования.
Всякий истинный образ отбрасывает свою тень, повторяющую его очертания, но как только художник, творя образ, начинает думать, что он должен выпустить тень на волю, иначе ее существование лишит его покоя, – в тот самый момент искусство гибнет. Как всякая магическая культура, выразившаяся в соответствующих иероглифах, истинный театр тоже отбрасывает свою тень (IV, 17).
Образ тени сходен с понятием манас, также высвобождающимся из конкретных форм. В дальнейшем в статьях Арто будут встречаться сходные образы, например, египетское Ка. При этом тень у Арто понятие достаточно конкретное. Ею обладает любая вещь или явление при наличии исчерпывающей формы-иероглифа. Из приведенной выше цитаты ясно, что художник не может ставить задачу создания («отбрасывания») тени. Это процесс бессознательный. Только тогда, когда рождается единый образ-иероглиф, адекватно отражающий вещь, или, точнее, этой вещью являющийся, рождается нечто иное, сущностное, существующее как бы параллельно. Тенью обладает и истинный образ, и актер, и театр, то есть это – всеобщее явление, всегда конкретное, но при этом неделимое, целостное. Но культура может быть лишена этого явления, задача которого состоит в том, чтобы её восстановить.
Наша окаменевшая концепция театра под стать окаменевшей концепции культуры, не признающей тени, и куда бы ни устремлялся наш дух, он наталкивается только на пустоту, тогда как пространство заполнено целиком (IV, 17).
Образ тени в статье «Театр и культура» имеет непосредственное отношение к ключевому понятию Арто – Двойник. Тень – это одно из наименований Двойника. Явление всегда конкретное и целостно-неделимое. Как Аристотель лишь однажды употребляет в своей «Поэтике» ключевое понятие катарсис, однако говорит о нем на протяжении всей известной нам части сочинения, – так и Арто не рассматривает специально вынесенное в заглавие понятие.
Использованный в статье «Театр и культура» образ тени связан с широко распространенными к тому времени мотивами философии Ницше, а позднее – Юнга. И связан он не столько с образами «Странника и его тени», задающими друг другу вопросы[17], сколько с идеей сверхчеловека, оказавшей разнообразное влияние на театр и тесно связанной с периодом становления режиссерского театра в целом (например, крэговская идея сверхмарионетки). В театральной концепции Арто тень – это Двойник, возникающий за спиной подлинного актера, персонифицированное архетипическое. Тень обезличена, как и подобает художественному началу, и несет общечеловеческое содержание.
Идея тени-двойника возникает у Арто еще до создания теории крюотического театра. В апреле 1931 года режиссер уже не существующего Театра «Альфред Жарри» составляет проект постановки пьесы Августа Стриндберга «Соната призраков». Персонажи воображаемого спектакля двойственны:
Постоянно кажется, что персонажи находятся на грани исчезновения, чтобы уступить место своим собственным символам (II, 128).
Переход персонажа в некое иное качество, благодаря актерскому и режиссерскому решению, исходит из символистских театральных концепций. Но в проекте уже просматривается новое решение театральной реальности – возникновение сущностного мира, преодоление субъективной обыденной формы непосредственно на сцене, здесь и сейчас.
В книге «Театр и его Двойник» тень — это не только обобщенно-архетипическое воплощение вещи, это и целостность, обладающая первопричиной, изначально творческой энергией. И вновь напрашивается вывод, что наибольшая близость в понимании тени обнаруживается у Арто с Анри Бергсоном. Философ, в связи с рассуждениями о мана, дает вполне каббалистическое толкование тени:
Если первоначально было принципиально признано, что тень тела сохраняется, ничто не может помешать оставить за ней первопричину, сообщающую телу деятельную силу. Мы получаем активную, деятельную тень, способную влиять на человеческие дела[18].
Развивая понятие тени, Арто соотносит его с творчеством актера. Рождающийся на сцене каждый раз заново жест, движение, насыщенное жизнью, разрушают привычные бытовые и театральные схемы. Сметая внешние оболочки, актер порождает тень, обладающую формообразующей силой.
Язык театра многогранен. Актер использует все языки, не укладываясь ни в один из них. Перечисляя их (язык жеста, язык слова…) Арто называет язык огня. Это понятно – тень рождается при наличии источника света. Но какова природа огня?
…Когда мы произносим слово «жизнь», надо понимать, что речь идет не о той жизни, которую узнают по внешней стороне событий, а о том робком, мечущемся огне, с которым не соприкасаются отдельные формы (IV, 18).
В конце статьи «Театр и культура» возникает яркая метафора костра, сжигающего формы, и фигура осужденного на костер. Эта метафора так остро поразила воображение режиссеров – наследников Арто, что стала едва ли не символом всей системы. Например, последняя фраза статьи в изложении Ежи Гротовского в его знаменитой статье «Он не был полностью самим собой, или О театре Жестокости» звучит так:
Актеры должны быть подобны мученикам, сжигаемым на кострах – они еще подают нам знаки со своих пылающих столбов[19].
Здесь происходит перемещение акцента. У Арто творческий акт направлен на самого себя, а отнюдь не на создание внешней формы. Важен процесс сгорания, но в то же время это не самоцель. У Гротовского важен не сам процесс сжигания, а подаваемый нам знак, рассчитанный на восприятие. Арто полагал, что естество «сжигаемого» само родит архетипический иероглиф. В действительности фраза Арто буквально следующая:
И если есть еще в наше время что-то сатанинское и воистину окаянное, так это пристрастие задержаться – по праву художника – на форме, вместо того, чтобы, как осужденные на костер, благословить свое пожарище (IV, 18).
Актер крюотического театра не благословляет свое пожарище, не посылает знаки с пылающих столбов. Задерживаясь на формах он, вероятно, «улавливает манас, силу, дремлющую во всякой форме», и которая
выходит наружу только в результате магического отождествления себя с этими формами (IV, 16).
Не менее емкий образ, выраженный почти теми же словами, что у Арто, предложил Андрей Белый, описывая в 1925 году Михаила Чехова в роли Гамлета:
Его игра – сжигание заметного кончика жизни[20].
Остается подлинная жизнь, которая незаметна, невидима.
Пожалуй, именно в этом глубинная близость двух великих современников. Исследователь творчества М. Чехова Лийса Бюклинг отмечает, наряду с существенными различиями, принципиальное сходство исканий М. Чехова и Арто:
обоих театральных новаторов объединяла идея обновления театра во имя чистой театральности и поиски «телесных» знаков, то есть театрального выразительного языка. Можно найти параллели между экспериментом Чехова и мышлением Арто. Арто – одновременно с Чеховым – стремился вернуться к истокам театра, что приводило к сопоставлению западной культуры с далекими от нее культурами[21].
Думается, что действительное сближение двух художников касается не их мышления и их театральных концепций, а именно их актерского творчества
Обобщая идеи «активной культуры», способы воздействия энергетических сил, сжигание форм и рождение тени, Арто использует противопоставление заинтересованной и незаинтересованной (фр. «desinteressee») культур:
Подлинная культура противопоставляет нашей пассивной и незаинтересованной концепции искусства свою концепцию, магическую и безудержно эгоистическую, то есть заинтересованную (IV, 15).
Арто называет современную культуру «незаинтересованной», но выдвигает идею незаинтересованного действия, то есть своего рода активности, преодоления покоя, но все же «незаинтересованного».
Вероятно, под идеей незаинтересованного действия подразумевается тенденция развития европейской культуры рубежа XIX–XX веков, выраженная, в частности, в концепции «статичного театра» М. Метерлинка. Арто, типологически связанный с французским символизмом, глубоко воспринял принципы этого художественного направления: отказ от внешнего действия способствует раскрытию крайне напряженного действия внутреннего, объектом внимания оказываются не внешние факты, а событийный ряд глубинного трагического конфликта. Арто в предисловии к метерлинковским «Двенадцати песням» писал:
Действие является принципом самой жизни, Метерлинк соблазнился оживить эти формы состояния чистой мысли. Пелеас, Тентажиль, Мелисанда – это зримые фигуры таких необыденных чувств (I, 217).
Прозревая театр будущего, Арто видел в основе его действие. Именно с его помощью театр способен открыть смысл жизни, саму жизнь.
Надо верить, что Театр может вернуть нам смысл жизни, преобразив его; тогда человек станет бесстрашным владыкой того, что еще не существует, и поможет ему обрести существование (IV, 18).
3
Здесь и далее ссылки на собрание сочинений А. Арто приводятся в тексте. Римская цифра обозначает том, арабская – страницу. Цитаты приводятся по изданию: Artaud A. CEuvres completes. Т. 1. Paris: Gallimard, 1956; Т. 2 – 1973; Т. 4 – 1974. Статьи из сборника «Театр и его Двойник» – в переводе Г. В. Смирновой.
4
Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993. С. 298. Это издание воспроизводит перевод ранней редакции текста. В позднейших редакциях этот текст отсутствует. Так, нет его в современном переводе (Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., Мысль, 1993), выполненном с немецкого издания 1924 года.
5
Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 155.
6
Там же.
7
Борхес X. Л. Письмена бога. М., 1992. С. 389.
8
Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. С. 189.
9
Метерлинк М. Поли. собр. соч.: В 4 т. Т. 2. СПб.: Товарищество А. Ф. Маркс, 1915. С. 30.
10
Там же. С. 31.
11
Там же. С. 30.
12
Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 312.
13
Там же. С. 318.
14
Юнг К. Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного. М., 1994. С. 311–312. Подробнее о концепции мана-личности речь пойдет в связи с артодианским понятием «Двойник».
15
Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. С. 143–144.
16
См: Неизвестная Россия. XX век: Вып. 2. М., 1992. С. 156.
17
У Ницше: «Та тень, которую отбрасывают все предметы при свете познания, – эта тень тоже я» (Ницше Ф. Странник и его тень. М., 1994. С. 271.)
18
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 145.
19
Театральная жизнь. 1988. № 12. С. 29.
20
Неизвестная Россия. XX век: Вып. 2. М., 1992. С. 159.
21
Бюклинг Л. Михаил Чехов в западном театре и кино. СПб.: Академический проект, 2000. С. 109.