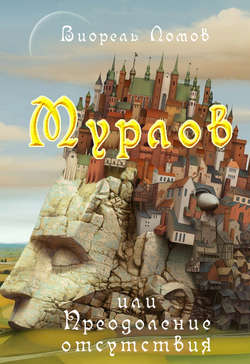Читать книгу Мурлов, или Преодоление отсутствия - В. М. Ломов - Страница 11
Мурлов, или Преодоление отсутствия
Глава 8. Слово берет Рассказчик. На земле Древней Греции
ОглавлениеСушу мы нашли довольно скоро, в разграбленной кем-то кладовке. Решили отдохнуть, а потом уже искать белый свет и пропитание. Сестра с ребенком сразу уснули. Уснул и Борода. Нам с Рассказчиком не спалось.
– Ну что, Шахерезада, заводи свои дозволенные речи, – сказал я.
– Я ждал этого соизволения, – промолвил Рассказчик. – Слушай же. Кстати, тебе не кажется, что мы идем по следам крайне прожорливого и всеядного зверя? Все разграблено, сожрано, уничтожено… В прошлый раз, как ты помнишь, мы кончили на том, что ребенок приходит в семью, как варвар в Рим, и, как варвар в Риме, растворяется в ней. Но это потом. А характер человека формируется в первые шесть месяцев. Период внутриутробного развития я, по понятным причинам, не рассматриваю, хотя он-то и есть дверца из вечности. Шесть месяцев детеныш карабкается от звериных инстинктов к человеческому разуму. А может, то-то безвозвратно теряет? – вдруг задумался Рассказчик. – И этот путь он проделывает в одиночку – ни его никто не понимает, ни он никого. Взрослый человек для него лишь ориентир, не более того. Своего рода солнце в пустыне, данное ему от века. А теперь слушай внимательно. Чем ближе он подбирается к солнцу, тем милосерднее должно быть оно: не обжигать, не покрываться тучами, не исчезать. И если это так – характер у человека будет ровным и милосердным. Да-да, именно так. Слушай еще внимательней. До шести месяцев этот карабкающийся звереныш понимает больше, чем вся наша бестолковая орава в этом вот нашем вонючем мире, но только не понимает его никто и всяк переделывает на свой лад. Оттого сейчас у большинства детей родители вдруг стали бездетными…
* * *
Как-то в июньское воскресенье Мурловы набрали еды, питья и с утра поехали на пляж… Тут необходимо маленькое отступление. Димка в садике как-то сказал воспитательнице: «Почему это вы требуете от меня, чтобы я руки мыл перед едой?» Воспитательница опешила: «Как почему?» – «Да, почему? Если даже апостолы не омывали рук перед трапезой?» Ничего не ответила воспитательница, только Димку с тех пор в садике стали звать «апостолом».
Так вот, как-то в июньское воскресенье Мурловы поехали на пляж. Народу было много, и они ушли подальше от суеты, туда, где к воде подступали густые деревья. Возле воды стоял длинный шест с веревочной петлей наверху. Обычно пацаны привязывали к петле за шнуровку мяч и били по нему кулаками, стараясь пробить оборону друг друга. Мяч дергался, метался, кружился вокруг шеста, как живой. Сейчас ребята торчали в воде. Припекало.
Димка, остановившись возле шеста, неожиданно сказал:
– Это была виселица в Древней Греции.
– Разве здесь была Древняя Греция? – удивился отец.
– Да, тут везде была Древняя Греция. Везде, – заявил сын, с вызовом глядя на родителей.
– Может, правда, была, – сказала мать, вопросительно глядя на отца.
– Ты сомневаешься? – негодующе спросил сын. – Вот тут приставали корабли. А вон там на квадратных кострах сжигали мертвых. А здесь, где мы стоим, лежали убитые овцы, быки, собаки.
– Зачем? – обмирая, спросила мать.
Сын не ответил, «зачем». Он оглядывал это ничем не примечательное место так, словно это была Троя, Фермопилы или еще какие развалины из курса древней истории.
«Вундеркинд или…» – шептались родители ночью. Все-таки восемь лет всего, дитя дитем, а что выкинул: часа в два или в три, когда солнце жгло немилосердно, вдруг отбросил небрежно в сторону кораблик из щепки, притворно зевнул и молвил:
– Нет, родители, скучно мне с вами жариться здесь, как барану, тощая будет бессмертным богам из меня гекатомба. Подвигов много, еще не свершенных, свершить предстоит мне. Я, пожалуй, поеду домой на трамвае – то воля Зевеса.
В трамвае он расплющил нос о грязное стекло, за которым проползали, дергаясь и исчезая за поворотами, нескончаемые улочки Воложилина, с серыми деревянными заборами и тучными абрикосами, вишнями, грушами, яблонями и сливами. Скоро пойдут вишни, потом абрикосы… Лето в разгаре. Пора отпусков, каникул, витаминов и безделья. Такая благодать! Димка пел «По долинам и по взгорьям». Отец с матерью молча глядели на него, как на секретаря обкома, утирали пот с лица и улыбались, как два идиота.
А вечером Димка захныкал и у него поднялась температура. Он перегрелся на солнце. Ночью он часто просыпался и кричал: «Мамочка! Где ты? Куда тебя дели?» Мария прижимала его к себе и гладила по голове, а в глазах ее стояли слезы. «Прямо богиня-мадонна с младенцем», – подумал Мурлов старший и удивился этой своей мысли. Чем больше он общался с женой и сыном, тем больше его удивляли посещавшие его мысли. Они, эти мысли, словно приезжали к нему откуда-то издалека и заходили радостные и слегка возбужденные, как к старому другу.
Когда Димка поправился, его увезли к деду с бабкой – Василию Федоровичу и Акулине Ивановне Косовым – в Ростовскую область, на тихий хутор, утопающий в зеленых садах, весь залитый синью неба и золотом солнца. Хутор пересекала прозрачная до дна река, от одного берега которой к горизонту уходили поля пшеницы и арбузные бахчи, а от другого круто поднимался каменистый Шпиль, поросший бессмертниками и шиповником, через который была самая короткая дорога к ближайшей станице.
Димку потом возили на хутор каждое лето. Надо ли говорить, что от осени до весны Димка грезил одним: летними каникулами. Ему казалось, что на хуторе он меняет кожу, а в детской душе его были такой мир и покой, что впору было позавидовать зрелым мудрецам. И если бы видели его в эти дни отец с матерью, ничего странного в нем они не заметили бы. Никакой такой гекатомбы.
* * *
– Не спишь? Смотри, могу рассказать про что-нибудь другое, – Рассказчик выжидающе смотрел на меня.
– Сказал а – не будь б…
– Что ж, извольте. Несколько эпизодов из детства. С подзаголовками, если позволите. Это так же, как есть гузно, а к нему свои подгузники, так и к заголовку есть свои подзаголовки.
ВОСПОМИНАНИЕ 1. Гришка.
В первый же день, подойдя к реке, Димка увидел рыжего мальчишку, лихо тащившего на веревке здоровенную козу. Коза упиралась и не хотела заходить в воду. Мальчишка, заметив Димку, наклонился и стал что-то собирать в ладонь. Когда Димка с ним поравнялся, рыжий шмыгнул носом и задиристо спросил:
– Косовский?
– Чего? – не понял Димка.
– Звать как?
– Димка.
– А меня – Гришка.
– А что ты собираешь?
– Да так. Конфеты, драже. Просыпал. Зойка дернула. Хочешь? – он протянул ему на ладони несколько коричневатых шариков, напоминающих по виду фасоль. – Бери.
Димка взял на пробу одну и раскусил. Конфета была горькая, противного вкуса.
– А ты что это мне дал? – спросил Димка и стал отплевываться. – Конфета, говоришь?
– Шоколадная! – рассмеялся Гришка. – Зойка готовит.
– Ах, ты! – закричал Димка, и оба мальчишки, сцепившись, покатились под ноги козе, мутузя друг друга. Зойка спокойно глядела на них, трясла бородой и сосредоточенно жевала сорванную травинку. Ей нравилось, что ее никуда не тащили.
Битва вскоре закончилась, и оба, тяжело дыша, пригрозили друг другу: «Теперь ты будешь знать!» – и разошлись в разные стороны – Гришка, шмыгая носом, потащил козу через речку, а Димка пошел купаться.
* * *
– Это эпизод первый, – сказал Рассказик. – Между первым и вторым Димка с Гришкой стали друзьями.
ВОСПОМИНАНИЕ 2. Настенка.
– Ну, сегодня поймаю этого паразита Гришку и выдеру, как козу, – думала Настенка, выбирая в зарослях крапивы кусты побольше. – Должен сегодня залезть, обязательно должен.
Два раза она обожглась, и от этого злость в ней вскипела пуще прежнего, даже правое веко задергалось. «Этот паразит Гришка» – нахальный, вечно сопливый пацаненок, с выпученными, как у рака, глазами, уже который год не дает покоя Настенке да и всем хуторским бабам: то в сад залезет, то на огород заскочит, а в последнее время до того обнаглел, что забрался даже в погреб к Дуське, умял там полбанки сметаны и хоть бы подавился. А вдобавок спер три жирных рыбца. Дуська-то подумала, что это кошка нашкодила, и отлупила бедную зазря. Кошка даже по-человечьи заорала: «Не я-а-а!» Потом уже досужая молва приписала, что будто бы Дуська выскочила из погреба, злая-презлая, красная-прекрасная, потная-препотная, а на завалинке кошка ее рыжая-бесстыжая флегматичная Мурка сидит, щурится-жмурится на солнце и дразнится-умывается. Дуська – руки в бока, и в голос: «Матерь божья! Сметану поела! Царица небесная! Облизывается!» – и, скинув тапок, тапком бедную кошку, тапком, по спине, по спине. Долго хуторские бабы над ней потом подтрунивали: «Ну, как там, Дусь, матерь божья – сметану поела? Царица небесная – облизывается? Тапком ее, тапком! А царица ей – не я-а-а!» Ребятишки же соседские видели, как Гришка вылезал из погреба – в соплях и сметане – и донесли об этом Дуське. Потерпевшая, опять помянув матерь божью, но уже в другом контексте, помчалась к бабке мальчишки, но та, глухая, как пень, ничего не поняла из справедливого Дуськиного негодования, а только кивала, как утка, котелком и, прощаясь, прошамкала: «Да, бог ее знает. Поди на грех, может, и не будет боле ее, потравы… Ты, Дусь, кобеля на цепь посади, да не корми его пару дней, а то и верно – худоба колхозная голодная ноне. Так и норовит залезть во двор. А кобель – он и в Африке кобель, а? Ха-ха!» У Дуськи в глазах позеленело, она стукнулась крупным лбом о притолоку низенькой землянки – чуть не развалив ее – и, чертыхаясь, выскочила от карги вон. «Африка», а!
Короче, Гришкины проделки бабам надоели. Они уже стали приписывать ему чуть ли не все, что случилось на хуторе худого еще с довоенной поры. При этом у них чесались не только языки, но и руки. Создалась классическая революционная ситуация.
Наконец Настенка набрала достаточное количество крапивы и любовно оглядела ее. «Славный букетик», – подумала она, для тренировки помахав им, словно шашкой. Ух, попади ей сейчас под руку Гришка – несдобровать ему, несдобровать! На прошлой неделе «паразит» смял у нее грядку с крупной морковью, всю изрыл ее, как крот, и истоптал ногами. На этом терпение Настенкино лопнуло, и она решила отомстить – и за себя, и за Дуську, и за весь хутор. «Ляд с ним, иродом проклятым, пропадет день, да я своего добьюсь! Исполню миссию», – решила она.
Настенка спустилась к реке, умыла жаркое свое лицо теплой водой, погляделась на зеленое свое отражение, поправила завиток над ухом, подоткнув его под косынку, и схоронилась в буйных кустах терновника, да еще прикрылась лопухом, похожим на слоновье ухо. Сообразив, что белая косынка будет заметна с тропинки, ведущей в огород, она стянула ее с головы, перемотала ею стебли крапивы, нагнула голову и настроилась терпеливо ждать.
А тут, как на зло, сосед Мефодий со своим дружком, пьянчугой Кондратием Зыкиным, откуда-то взялись и вконец настроение изгадили. Кондратий заприметил ее и рыгочет, тычет культей:
– Гля! Настенка в кустах сидит! Га-га-га! Писает!
– Катитесь вы отседова! – огрызнулась Настенка и, встав, оправила платье и нервно прошлась туда-сюда, пока гогочущие мужики не скрылись под вербами по краю Мефодиева огорода.
Настенка в расстройстве помянула недобрым словом и Мефодия с Кондратием, и Гришку сопливого, и всю его родословную, и чуть-чуть успокоившись, снова забралась в помятые, как ее чувства, кусты и стиснула зубы, чтобы не ругаться вслух. Астропрогноз сбылся. Черта только помяни – Настенка, перемогая себя, заерзала, услышав шлепанье босых ног и паскудное сопливое шмыганье. На тропинке появились двое. Первый озирался по сторонам и часто хлюпал своим конопатым, будто мухами засиженным, носом. Это был Гришка. Второй Настенке был незнаком. Он шел автономно, не глядя по сторонам, как к себе домой, и даже что-то насвистывал. «Да их тут уже целая банда!» – вознегодовала Настенка. Она с воплями ринулась из кустов, но запуталась в них, зацепилась за что-то, растянулась и обожгла себе правую щеку и шею крапивой. «А-а-а-а!» – рявкнуло в прибрежной зоне, и все на мгновение замерло возле реки. Кондратий, который в это время на Мефодиевом огороде «потреблял, в свою очередь, оную из горла», поперхнулся и закашлялся, и замотал рукой – луку, мол, луку дай скорей, заесть.
Димка ничего не успел сообразить, как Гришка уже был за поворотом. Димка увидел поднимающуюся с карачек разъяренную женщину, вырывающую из бурьяна ноги. Ему еще не привелось в своей жизни видеть разъяренных женщин – это воистину страшное зрелище, и не только для ребенка. Но у него тут же сработал чисто мужской инстинкт, и он, не раздумывая, чесанул вслед за приятелем. Настенка неслась по пятам, и мальчишки холодели от ее страшного крика: «Догоню – убью! Догоню – убью!» Димка бегал быстрее Гришки, но сейчас ни на шаг не приближался к нему и даже стал позорно отставать. И главное, свернуть было некуда – по обе стороны сплошь огороды да непролазные заросли тальника.
Кондратий с Мефодием, выйдя на тропинку, молча смотрели на зеленый коридор, где только что было столько шуму, и долго жевали перышки лука. Казалось, этим коридором от них окончательно ушла война…
* * *
Василий Федорович и Акулина Ивановна сидели на завалинке, молчали, любовались знакомым до мелочей незатейливым видом: рекой, песчаной косой, вербами и еще чем-то неуловимым, чему и слов-то нет. Они молчали, как молчит всякий, на кого мягко, с любовью опускается теплый летний вечер, опускается уже шесть десятков лет.
Акулина Ивановна думала о чем-то. О чем? Вряд ли она сама знала – о чем. Думал и Василий Федорович. Подумает и замурлычет тихонько. Грустно, но светло как-то, по вечернему грустно, по вечернему светло: «Ты воспой, ты воспой, в саду соловейка. Ты воспой, ты воспой, в саду, голосистый… Я бы рад, я бы рад тебе воспевати. Я бы рад, я бы рад тебе воспевати…» Попоет вот так и снова думает. Хо-ро-шо…
Жара спала, и речка пахла камышом и илом. Красивая речка Косма! Как гибкий тонкий зверек, она упруго потягивается, готовая в любой момент стремительно броситься в сторону, а через минуту свернуться кольцом и забыться в кратком отдыхе. Так бы и глядел на нее издали, не нарушая ее блаженного одиночества. И чтоб еще к тебе не лез никто. Хорошо! Глядишь на нее, и кажется, что уже видишь всю до дна, и все ее тайны, как на ладони…
По дороге вдоль реки пылили двое мальчишек, а за ними по пятам дула орущая баба.
– Никак Димка наш, – сказала не по годам глазастая Акулина Ивановна. – И Гришка Пухов. Вот нехристи, опять залезли к Настенке.
Дед, услышав о Настенке, приосанился и отвлекся от дум:
– Похоже, она. Эк газует!
Курень Косовых, вместе с землянкой, погребом, сараем и прочими застройками, и двор почти на двадцать соток – размещались на пригорке, опоясанном старой расплывшейся дорогой, на которую спустя минуту и вылетела удалая тройка.
– Куда?! – напрягая голос, крикнула Акулина Ивановна. – Куда вас черти несут?
Димку и впрямь будто черти несли: он летел с разинутыми глазами и ничего не видел, кроме пыльной дороги да Гришкиных пяток – и те уже были где-то впереди. Услышав бабкин окрик, он смекнул, что с правого бока его дом, а значит и защита, и мигом очутился у своего двора и юркнул в калитку. Акулина Ивановна вскочила с завалинки и бросилась за ним:
– Я те!.. Стой! Стой, я кому сказала!
– Чего, Настен, в Мельбурн готовишься? Передохни малость от тренировки.
Василий Федорович разгладил усы и выпрямился. Настенка приостановилась, перевела дух и звонким сильным голосом прокричала:
– Эти чертенята мне все грядки истоптали! Второй-то ваш? Он тут не заводила. Это все сопля рыжая! У-у! Он их всех хороводит. Ну, проклятущий! – взяла она снова с места в карьер. – Догоню – убью!
Василий Федорович смотрел ей вслед, и ему стало тепло, как от наркомовской, и он подумал шаловливо: «За мной бы кто так погонялся…» Не иначе, как эти мысли внушила ему полная луна, выкатившая засветло прямо напротив их дома.
Гришка заскочил на свой двор. Дома и впрямь стены помогают. Вслед за ним туда ворвалась Настенка. Слышно было, как загремели ведра и с громким кудахтаньем разлетелись куры. Залаял линевский Бирон, а за ним и косовские собаки. Тем временем Акулина Ивановна хитростью поймала внука и за ухо притянула его к завалинке.
– Полюбуйся, дед, на грабителя! Ну, что там с Гришкой натворили? Рассказывай! Чтоб больше с ним я тебя не видела! Увижу – выдеру! А пожалится кто – моментом к родителям отправлю! Срам-то какой! Мне такого сраму не хватало! За всю жизнь ничего и близкого не было! Вот Настенка обратно пойдет – объясняйся с ней сам. А то герой выискался. Не разевай рот на чужой огород!
– Ничего я не разевал. Сдался мне ваш огород! Меня Гришка вел гнездо лисье показать.
– Ага, «гнездо». Рассказывай! То-то Настенка, как оглашенная, вон сколько перла за вами!
– Ладно, бабка, понял малый все. Чего наседать зря?
– А ты не встревай, – отмахнулась Акулина Ивановна, однако отпустила внука. Димка, весь в противоречивых чувствах, побрел во двор. «Еще раз за ухо схватит – уеду! – решил он. – А Гришка – гад! Завел и первый деру дал».
* * *
Настенка неторопливо шла обратно и обмахивалась веточкой. Обшарила она весь двор, но «паразит» как сквозь землю провалился: ни в саду, ни в хате, ни в землянке – нигде не было. Хотела попенять Гришкиной бабке, та упоенно рылась в куче угля, да вовремя одумалась и не связалась с глухой тетерей, от которой была бы только лишняя накрутка нервов. Крепко сплюнув, она пророкотала: «Чтоб вы тут сгорели все!» – выехала со двора, громко хрястнув калиткой.
А вечер был славный. «И чего это я, дура?..» – подумала Настенка. От бега в ней заиграло здоровье и стало радостно. Красное солнце спряталось за холмом, но было еще светло. Даже странно как-то, обычно темнело очень быстро. Луна вон какая. Пропала куда-то и Настенкина злость, и вечерний зыбкий свет стал наполнять ее своей истомой. И воздух был необыкновенно вкусный.
– Догнала? – спросил, ухмыляясь, Василий Федорович.
– Не-а, – мотнула головой Настенка, остановившись у завалинки.
– Что же так? – полюбопытствовал Василий Федорович.
Акулина Ивановна, уловив оживление мужа при виде Настенки, отвернулась в сторону и вроде бы даже запела себе под нос, потом встала, одернула юбку и с подчеркнутым достоинством супруги направилась во двор, но возле калитки остановилась, повисла на ней и стала разглядывать Настенку. В груди она чувствовала тяжесть и думала о том, что это нехорошо.
– Да из-за мужиков разве догонишь? – игриво сказала Настенка. – На мужика раз взглянешь – на версту отстанешь.
– Каких мужиков?
– А которые на завалинках сидят. Задержалась вот давеча возле вас и не догнала, – Настенка улыбалась им обоим.
– Что ж, мужикам и посидеть нельзя? – подмигнул Акулине Ивановне Василий Федорович.
– Да они-то, поди, уже ни на что больше и не сгодятся! – ухмыльнулась Настенка и, круто повернувшись, пошла прочь, напевая.
Василий Федорович посмотрел на жену, потом вслед Настенке, почти пропавшей в сумерках, снова на свою старуху и, ничего не сказав, пошел к летнице.
Акулина Ивановна осталась у калитки, задумалась и, пожалуй, впервые за последние двадцать лет вспомнила свою молодость, но не знала, как же ее пригнать к сегодняшнему дню.
ВОСПОМИНАНИЕ 3. Кто сам молодец – у того и петух храбрец.
Вдоль каменной кладки, в тени акаций, не спасавших, однако, от полуденного зноя, маялись куры. Обжоры и побирушки, они, растопырив крылья и раскрыв клювы, забыли про свои ненасытные желудки. Круглые глаза их осоловели от жары.
Пестрый, голенастый, уже отяжелевший красавец-петух гордо ходил по двору Косовых и выискивал съестное. Найдя какую-нибудь крошку, он брал ее в клюв, вновь клал на землю, наклонял голову набок, словно показывая, куда положил, и начинал созывать несушек. Когда же они подходили, петух сам склевывал эту крошку и удалялся от них на новые поиски. Обиженным хохлаткам оставалось лишь созерцать лохматые петины ляжки и его роскошный рыцарский хвост с красиво изогнутыми перьями. «Ко-король, ко-король», – делились они впечатлениями.
Обманув кур в очередной раз, петух распустил крылья и стал кружить вокруг белой курицы. Покружил-покружил и вдруг бросился на нее.
Димка, испугавшись, ворвался на веранду, где бабушка сидела со своими подружками, и закричал:
– Бабушка! Там петух заклюет курицу!
Бабки переглянулись, с трудом скрывая улыбки, и одна из них, которая потолще, не выдержала и рассмеялась:
– Ничего с ней не случится!
– Забьет он ее, скорее, бабушка, пошли! – торопил мальчик, с недоумением поглядывая на такую непонятливую толстую бабку.
– Ага, забьет! – согласилась толстая и, нагнувшись к другой бабке, что-то сказала ей на ухо. Та по-девичьи стыдливо прыснула и прикрылась фартуком.
Акулина Ивановна встала из-за стола и вышла за внуком.
– Где? – спросила она.
Петух спокойно ходил по двору, как ни в чем не бывало, все куры были живы и здоровы, а пострадавшая белая несушка усердно долбила хлебную корку. Димка почувствовал себя неловко, будто он нарочно соврал. Бабушка вернулась на веранду – и оттуда послышался громкий смех.
Проводив своих товарок до калитки, Акулина Ивановна вспомнила, что давно собирается проверить одну пеструю хохлатку – несется она или нет. Жрать-то она мастерица, вперед всех лезет, а вот кудахтать – ни разу не кудахтала. Может, больная какая, спаси господи, заразит всех курей! А вообще-то курице всегда помнить надо: перестала нести яйца – не снести головы!
Акулина Ивановна вынесла из кухни чугунок с остатками борща и размокшими корками хлеба, поставила его на землю и стала созывать кур. Те ватагой бросились к ней, окружили чугунок, жадно выхватывая из него куски, и клевали друг друга. Петух галантно кружился вокруг их хвостов, выискивая брешь. Интересующая бабку курица черной лапой вцепилась в край чугунка, чтобы ее не отпихнули подруги, и быстро молотила клювом.
– Ну да, как жрать – так первая! – возмутилась Акулина Ивановна.
Акулина Ивановна, конечно же, была не права, так как судила курицу с человеческой, а не с куриной точки зрения. Она осторожно, мелкими шажками, приблизилась к чугунку, схватила пеструшку и стала ее ощупывать. Куры, опрокинув чугунок, с кудахтаньем бросились врассыпную. Чугунок придавил ногу одной курице, и та судорожно пыталась освободиться.
Петух налетел на ноги Акулины Ивановны, но, получив пинок, вместе с бабушкиным тапком отлетел в сторону. Бабка продолжала изучать пленницу. Та хрипела и вдруг, закатив глаза, отбросила навзничь голову, дернулась и замерла.
– Свят, свят, свят! Никак околела? – обмерла Акулина Ивановна. Она положила курицу на землю, брызнула на нее водой. Петух бочком приблизился и осуждающе выкатил на хозяйку глаза, грозно шевеля длинными перьями хвоста. Бабка же не обращала на него никакого внимания и хлопотала вокруг пеструшки. Она приподнимала ей голову, крылья, оттягивала ноги, щипала, гладила, брызгала водой, дула на нее, тыкала клювом в блюдечко с водой, но курица лежала без чувств. Через четверть часа пеструшка пришла в себя, встала, оправила перышки и пошла, пошатываясь и вяло квохча. Петух повел свою семью со двора и столкнулся у калитки с Гришкой. Тот гавкнул на них тихо, и куры разлетелись.
* * *
Димка был недоволен петухом и рассказал Гришке, как он бессовестно напал на одну из кур, а другую после бабкиного пинка сразу же раздумал защищать. Насчет того, что петух без объявления войны напал на блондинку, Гришка Димку успокоил, посвятив его в истинный смысл нападения:
– Петух на ту нападает, что зад подставляет. А вообще-то он точно трус.
– Гриш, давай нашего петуха водкой напоим для смелости. Это ж не петух, а так себе. Баба, а не человек. Позор двору нашему! Утром соседский петух опять его с дороги гнал. Помнишь, парни напоили водкой пса на кузне, и он лаял всю ночь, пока в него дед Тихон с ружья не бабахнул.
Косовский пестрый петух и точно был петухом не из храброго десятка. Он имел и мощную грудь, и мощные лапы, и роскошный гребень, но был лгун, трус, лентяй и обжора. Все пороки, отпущенные петушиному роду, воплотил в себе. Когда он выводил свой гарем на дорогу, из соседнего двора Линевых с шумом перелетал ограду красный петух, за ним бежали его хохлатки с цыплятами. Увидев их, пестрый петух удирал к себе во двор, не принимая боя с соседом.
И ребята решили вдохновить его на подвиг, помочь петуху обрести смелость.
Они опустились в погреб, слили из бутылки остатки мутной браги в миску и накрошили в нее хлеба. Димка помешал приготовленное зелье пальцем, облизал его и передернулся:
– Ну и гадость! Теперь, Гришка, надо это, бр-р, скормить петуху. Давай его в сарай загоним и закроем там одного.
– А петух будет это жрать? – засомневался Гришка.
– Должен, кобель же сожрал.
Гришка с миской скрылся в сарае. Димка, кидая крошки, поманил кур за собой: «Цыпа, цы-ы-па…» Куры осторожно потянулись за ним, но остановились в нерешительности у темного входа. Петух выдвинулся вперед, зашел на полкорпуса в сарай, повертел головой и пропал в темноте. Димка тут же захлопнул дверь. С потолка посыпалась солома, куры разлетелись, а в сарае заметался петух. В щель протиснулся Гришка. Друзья привалили к двери большой камень и отошли в сторонку, чтобы петух успокоился.
Петух побегал, покричал и впрямь успокоился. Видимо, наткнулся на миску. Пацаны приоткрыли дверь, и Димка протиснулся внутрь. После яркого света он ничего не видел, только чувствовал духоту и паутину на лице. Приглядевшись, он увидел петуха возле пустой миски. Димка присел рядом и погладил петуха по голове. Тот дернулся, но с места не тронулся.
– Сидит, – испуганно сказал Димка другу. – Может, того, а? Шею взъерошил и ни гу-гу.
– Давай его выгоним.
Они открыли дверь. Петух вышел на свет, огляделся и пошел по дорожке, перед самым носом растянувшегося на земле Прута. Возле кухни он вдруг истошно заорал.
– Началось, – шепнул Гришка. – Захмелел.
Прут приподнял голову, огрызнулся на муху и внимательно поглядел на обнаглевшего петуха. Петух созвал хохлаток и стремительно повел их развернутым флангом на границу. Все шло как по маслу.
– Я тебе говорил! – торжествовал Димка. – Сейчас драка будет. Наволочку готовь для красных перьев.
Едва петух Косовых показался на дороге, появился и его противник – красный линевский петух. Он поиграл перьями, блеснувшими медью в лучах закатного солнца, и яростно почесал лапой затылок. Затем он смело подошел вплотную к пестрому трусу, с намерением проучить нахала. Но тот неожиданно, как коршун, прыгнул на заклятого врага, выставив вперед когти. Линевский петух отскочил в сторону, но тут же был сшиблен с ног. В ход пошли клювы, когти и многолетняя ненависть. Красные, рыжие, серые, белые перья полетели во все стороны, и не успели они еще осесть на землю, как красный петух оказался на своем дворе.
А пестрый петух, впервые познав вкус победы, долго еще стоял на дороге и ошалело орал.
Вернувшись во двор, он направился к миске Прута и стал созывать к ней кур. Когда он влез ногами в тарелку, Прут, чтобы не искушать себя, встал и направился к своей конуре. Путь его лежал мимо петуха, но тот спокойно продолжал клевать собачью еду, как свою собственную. Прут, не стерпев такой откровенной наглости, оскалился и отхватил нахалу полхвоста.
ВОСПОМИНАНИЕ 4. Как вороная кобыла стала белой.
Гришка дня не мог прожить без приключений и как-то предложил Димке побелить старую вороную кобылу Версту. Верста доживала уже второй десяток лет, от солнца она приобрела грязно-бурую окраску, но голова и ноги были черные, и лишь местами белели седые волоски – так называемая масть вороная, в загаре, стариковская масть. У кобылы хватало сил только на еду и сон. Чтобы не делать лишних телодвижений, поев, она засыпала стоя, а если проснувшись лежала, то старалась и поесть тоже лежа. Обычно она паслась возле дома своих престарелых хозяев – Глазыриных, живших в самом конце хутора, за речкой. За их убогой хаткой, крытой соломой, начиналась степь и уходила вдаль песчаная дорога. Казалось, эта дорога уходила так далеко, что стоило старикам немного отдохнуть, набраться сил и отправиться по ней вместе со своей любимой лошадкой – рано или поздно они добрались бы таки до собственной юности.
У стариков детей не было, и кобыле перепала вся теплота их добрых сердец. К ней они относились как к члену семьи.
Старик Глазырин лет пятнадцать тому назад, когда ему было только шестьдесят, ездил на ней в станицу и даже любил изредка пускать ее в галоп. Верста вела свою родословную от местной казачьей кобылы и персидского жеребца-гастролера, и отличалась в молодости сухостью сложения, была энергична, имела быстрые аллюры. Самой примечательной частью экстерьера у нее была голова с узкой мордой, тонкими губами и изумительной красоты умными печальными глазами. У лошадей спина не такая гибкая, как у человека, поэтому они всю жизнь и везут кого-то. И к двадцати годам стареют, бедняги. К старости и Верста, конечно же, стала иной, но для стариков Глазыриных она оставалась все маленькой игривой девочкой. Они души в ней не чаяли и любую пищу делили на четыре части: две – себе, две – кобыле.
Гришка притащил ведерко с побелкой, кисть на длинной ручке и гребень.
– А известкой не сожжем ей кожу? – спросил Димка.
– Это глина, обычная побелка.
Димка захватил горбушку хлеба, закатанный кусок сахару, самый большой огурец, и они пошли за речку. Время было послеобеденное, старики спали, закрыв ставни от зноя.
Под огромной грушей, в тени, спутанная Верста подбирала падалицу. Ребята осторожно приблизились к ней. Кобыла подняла голову и замотала ею, отгоняя мух.
– Верстушка, Верстушка, – погладил ее храп Гришка, – моя хорошая. Мы тебя сейчас причешем и ты станешь красавицей, – и он стал гребнем расчесывать гриву и выбирать из нее репьи. Версте было очень приятно вновь услышать слово «красавица» еще из чьих-то уст, помимо хозяйских. – Димка, дай-ка огурец! И начинай белить ей бок.
Гришка с хрустом откусил пол-огурца, а другую половину дал Версте. Димка окунул кисть и боязливо коснулся лошади. По коже Версты пробежала дрожь, словно на нее сели слепни и мухи. Димка стал смелее водить кистью. Похоже, что Версте нравилась прохлада от побелки, и она стояла, не двигаясь. Гришка продолжал гладить кобылу, расчесывать ей гриву и хвост, выдирать из них репьи, поделился с ней хлебом, дал кусок сахару, а Димка тем временем, войдя в азарт, кончил белить и второй бок кобылы.
– А как же с мордой и ногами?
– Бели и их.
Димка выбелил Версте голову. Морду. Остался черным один нос, и было смешно, когда кобыла вдруг оскалила желтые стершиеся зубы, точно потешаясь над своим преображенным видом.
– А ноги?
– Ноги давай я побелю сам, – сказал Гришка. – Тут надо умеючи. Она хоть и старушка, да все равно ноги о-го-го! – он взял кисть, быстро и уверенно выбелил кобыле ноги.
– Может, хвост оставим черным – для красоты? Спереди нос черный, а сзади – хвост, – предложил Димка.
– Не надо красоты. Надо, чтобы она была похожа на обычную лошадь.
Под вечер из избы вышел, потягиваясь, дед Глазырин. Хотел напоить кобылу, но ее нигде не было. У двора дремала под грушей чужая белая лошадь. Старик подошел к ней, внимательно осмотрел ее плохо видящими глазами – и не признал.
Узнав о пропаже, бабка запричитала, подошла к Версте и тоже не признала ее. Кобыла приветливо махала им белой головой, но те оставили ей ведро с водой, отвернулись и ушли в избу.
Весь следующий день старики провели в безуспешных поисках пропавшей лошади. Осмотрели берег реки, заходили во все дворы, но никто не видал их Версты и не мог помочь им. Опечаленные старики сидели на завалинке, глядели на пасущуюся белую лошадь и горевали о своей Версте. Приблудной лошадке перепало с их стола, что послал им в этот день господь.
К вечеру ветер нагнал тучи, и ночью разразилась гроза с ливнем.
Утром Глазырины, еще не вставая с постели, загадали: если белая лошадь ушла, Верста непременно найдется. Глазырин растворил дверь и увидел напротив, в лучах восходящего солнца, как в ореоле, свою вороную кобылу.
Не веря глазам своим, он подошел к ней, обнял за шею и заплакал. Осматривая лошадь, он заметил в гриве куски белой глины. Дед потрогал их, и пальцы стали белыми. Он все понял, выругался незлобиво: «Проклятые!» – потом засмеялся и поспешил сообщить радостную весть своей старухе.
ВОСПОМИНАНИЕ 5. На реке.
Проснулся Димка поздно. Ставни были уже закрыты от солнца. О темное стекло билась муха. Два солнечных луча из щелей ставни пронизывали наискось комнату, и в них кружились пылинки. Пахло укропом и овчиной. В чулане было прохладнее и глухо, как в валенке.
Мальчик вышел на крыльцо и зажмурился от яркого света. Белый полдень слепил ему глаза и жег голову, макушка была горячей, как песок. Все вокруг замерло, только под ногами шевелилась и поскрипывала рассохшаяся половица.
Во дворе было пусто. Воздух, мерцая, волнистыми струйками поднимался к высокому небу. От ночного дождя не осталось и следа. Дождевая вода сбежала, оставив на земле желтую пену и грязный мусор. Илистая почва возле реки уже высохла и покрылась сеткой трещин. Привяла и поседела трава. Небо в зените было прозрачно-голубым, а к горизонту – светло-синим. Нестерпимый блеск реки и раскаленный песок наводили Димкины мысли на то, что небосвод под солнцем стал плавиться, как смола, и стекать в реку, а от самого солнца отвалился, как от раскаленной печи, кирпич. Он упал на землю и рассыпался на миллионы огненных золотых песчинок, которые жгли ему босые ноги.
На песке лежал Гришка.
– Пошли ловить рыбу, – предложил он.
– Жарко, – сказал Димка. – Я охолонусь.
Гришка ловил рыбу в тени вербы, а Димка, раз окунувшись, забрался на это же дерево, ствол которого лежал низко у поверхности воды, устроился поудобней в его развилке и, болтая ногами, стал смотреть на речку, на Гришку, на редких прохожих, измученных зноем.
В его воображении игра световых бликов на поверхности воды постепенно стала восприниматься как калейдоскоп голубых, зеленых и желтых огней, развевающихся на ветру знамен, под которыми яростно сшибались древние воины. Рябило в глазах от несметного множества кольчуг, сверкали щиты и латы, мечи и кинжалы, развевались зеленые конские гривы.
У Димки заблестели глаза, лихорадочно летело в неведомые дали его воображение. Ему хотелось соскочить с дерева и ворваться в самую гущу сечи. От неосторожного движения он свалился на сидевшего внизу Гришку, и оба полетели в воду.
* * *
– О чем беседа? – спросил проснувшийся Борода.
– Да так, ни о чем, – ответил Рассказчик. – Я все больше прихожу к выводу, что все окружающее нас – и вот этот потолок, и твои ноги, Борода, и мой бурчащий желудок, и линии судьбы на твоих ладонях, Рыцарь (у тебя совсем разные руки, будто тебе предназначены две судьбы), – все дает нам ежесекундно какой-то сигнал, знак, но мы его не понимаем. Не видим. Как слепые котята. Обидно.
В кладовке мы провели два дня, делая радиальные вылазки в поисках еды, но все безуспешно. За два дня у нас маковой росинки во рту не было, и круто соленый селедочный хвост вспоминался все с большей нежностью, и все сильнее росло убеждение, что Хаврошечка в своей критике сферы общепита был не прав. Отправившись с Рассказчиком в очередной поход, мы захватили, как обычно, банку для воды и металлический прут, на всякий случай. Забыл я правило: все, что берется на всякий случай, этот случай и порождает на всякий случай.
На этот раз мы забрели дальше, чем обычно. В коридоре была мертвая тишина, тишина тупика. Так оно и оказалось – дальше идти было некуда.
– Смотри, крыса, – шепнул Рассказчик. – Еще одна. Еще! Черт! Сколько их!
Я схватил Рассказчика и взвалил его себе на спину.
Крысы окружили меня и прыгали, стараясь вцепиться в ноги Рассказчику. Мой железный пирожок с мясной начинкой их, похоже, не интересовал по причине бесперспективности, что говорило об их очень высоком интеллекте: даже люди, облачившись в рыцарские доспехи, бестолково проводили время в изнурительных побоищах, не нанося никакого урона друг другу.
Я лупил прутом вокруг себя без разбору. Прут то лязгал по полу, то попадал в мягкое податливое тело крысы, наполненное интеллектом и душераздирающим визгом. Крысы без особой охоты ушли, бросив убитых и недобитых на мой произвол, то и дело оглядываясь на нас и останавливаясь. Когда в темноте окончательно погасли огоньки их глаз, Рассказчик сполз с меня.
– Да-а… Спасибо тебе, славная крепость Измаил. Наколотил ты их, однако… Щелкунчик.
Мы подобрали несколько крыс за хвосты и вернулись к своим спутникам. Женщина что-то рассказывала ребенку. Борода сидел и молчал, как сыч.
– Борода, кинь спички. Дроф настреляли.
– А почему они с хвостами? – спросила Сестра.
– Ты, прямо, как Красная Шапочка: почему да почему? – сказал Рассказчик. – Ты видела птиц без хвоста? Без хвоста далеко не улетишь.
– Это чтоб от охотников след заметать, – сказал Борода.
– А перья где?
– Да облетели.
– Свежевать будем или так… с перьями? – спросил Рассказчик.
– Если можешь, освежуй, освежувай, освежувовывай.
Рассказчик отошел в угол, «чтобы не летела чешуя», и застыл в раздумье. Борода подошел к нему:
– Дай-ка я. Мне сподручнее. Не отягощен чрезмерным воображением. А ты пока нащепи лучинок и разожги костерок.
«Дроф» подвесили на проволоке и поджарили. Рассказчик кашеварил. Кушанье готовилось с треском и паленой вонью. Когда жаркое было готово, он пригласил всех к столу.
– Вот вам вилочки, – он протянул заостренные палочки, похожие на зубочистки, – а ножик один, – он первый поддел «дрофу» и, закрыв глаза, откусил. – Хм, вкусно… Крылышко, наверное. Божественно! Парижане в семьдесят первом ели. Если не глядеть, не нюхать и не жевать – как в столовке – очень даже ничего. Я, пожалуй, даже добавки попрошу. Я в детстве добавку подавкой называл. Хороша подавка!
Борода и я, ободренные примером Рассказчика, не потерявшего говорливость после снятия пробы, тоже приступили к трапезе. Сестра так и не притронулась к еде, а мальчику предложить «дроф» мы не решились.
– Ему рано, пусть подрастет, – сказал Рассказчик. – Это пища мужчин. На его век хватит.
– Ну, что ж, господа, пора возвращаться к нашим баранам, – сказал я.
– Лучше бы к их няням, – крякнул Рассказчик.
Борода недоуменно посмотрел на нас.
– У него литературные ассоциации и реминисценции, – пояснил я Бороде. – Это профессионально: истоки поэзии искать в Арине Родионовне.
– Вы этих… дроф возьмите с собой, пригодятся еще, – сказала Сестра, указывая на остатки пиршества.
Мы вернулись к нашим баранам. Терпение – их вечный удел.
Очередь не менялась во времени, как Дориан Грей. Было заметно, что Рассказчика преследует эта литературная мысль. Мне же другое пришло на ум. Пожалуй, лучшей организации и большего порядка, чем очередь, не знали даже римские легионы. Понадобилось два тысячелетия, чтобы достичь в управлении человеческой стихией такого совершенства. Вертикальная и горизонтальная иерархия, ячеистая структура, где каждой i-й ячейке соответствует j-й член, и никакой другой… Именно очередь сближает нас с такими гениальными архитекторами, как пчелы и муравьи. И именно она, и только одна она доказывает, что разум присущ в равной мере этим насекомым и человеку. Только они – от него идут, а мы – к нему приходим. Если успеваем.
А у наших была новость: сыграли свадьбу Боба с его новой знакомой – у нее сразу же прошел вывих ноги, а рот стал еще чувственней. Со свадебного стола и нам достались крохи – молодая жена протянула мне черствый кусочек (у нее в сумке, за подкладкой, завалялись с мирных времен три ванильных сухаря, они еще источали, хотя и слабо, приятный запах ванили). Я отдал этот кусочек Сестре. Она отщипывала невидимые крошки и бережно клала их ребенку в рот. А Бобу мы подарили в качестве свадебного подарка жареную птицу, которую он принял с ревом восторга.
– Друзья! Выпивка за мной!
– Чего там! – махнул рукой Рассказчик. – Не к спеху. А вот тебе не мешает подкрепиться.
* * *
А жизнь, как говорят журналисты, не стояла на месте. Жизнь – не цапля. И бурлило не только в животах, бурлило в умах, бурлило в людских сердцах. Во время двухдневной стоянки, пока мы отсутствовали, начался грибной сезон: образовалось сначала две, потом еще две, потом сразу пять партий, каждая со своим уставом, программой, сторонниками и лидерами.
Лидеров, как всегда, отличало страстное желание: во имя счастья ближнего идти вместе с ближними своим особым путем, до далекого общего конца, а по пути метать обещания, как икру. Сторонников отличала непоколебимая ничем вера в исполнение этих обещаний и удивительное отсутствие мозгов. Что касается программы, привлекательность ее зависела от трех составных частей: литературных способностей авторов, умения абстрагироваться от окружающей жизни и научной глубины освоения священных писаний. Устав же подбирали, как одежду, по фигуре и вкусам. О вкусах не спорят: одни любят ходить, как шотландцы, в юбках, а другие – без штанов. Разумеется, у каждой партии была своя касса, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся все-таки кассой общей.
Регистрация партий проводилась в порядке живой очереди, на красном ящике с надписью «ПК», выдранном из стены. Регистрировал их круглый мужчина с прической под горшок, как у Емельяна Пугачева в учебнике истории. Он сидел на свернутом пожарном шланге, подтачивал мелок и аккуратно и торжественно выводил маленькие буковки на щите из оргалита, как на скрижалях истории. И хотя щит ничем не был похож на щит Ахиллеса, а в секретаре всех партий самой воинствующей частью была упомянутая челка a’la Пугачев, все-таки приходили на ум строчки Пушкина о народном бунте.
За три дня зарегистрировалось 22 партии и одна подпартия (что это было такое, не знали, как водится, и сами учредители). Тут же решили провести Первый объединенный Учредительный съезд всех партий. И тут же стали его проводить. Понятно, образовался бедлам, понятие сугубо русское, как бы ни оспаривали это англичане. Он продолжался до тех пор, пока кто-то не рявкнул: «Кончай соплежуйство!» Соплежуйство прекратилось. Началось соплепийство.
– Ты смотри, а ведь ни одной женщины нет среди всех этих бесноватых, – сказал Рассказчик.
– Как нет? – возразил Боб. – А вон, ничего даже…
– Которую за волосы по земле таскают?
Я напомнил Рассказчику, что все женщины сейчас находятся либо в султанском гареме, либо на раздаче в столовке, либо на экскурсии по Эрмитажу.
Весь этот, и впрямь, бедлам вряд ли скоро бы кончился, если бы всех не переорал заскучавший Боб Нелепо. Наверное, у всех его предков были могучие голоса.
– Друзья! – гаркнул он, пригладив разом все шумы и выкрики. – Други! У нас с вами все впереди! Исключая, разве, уважаемых представителей секс-меньшинств. Раз так – вперед к победам! А тыл нам прикроют голубые!
И, ввернув несколько крепких слов и смачных выражений, Боб заразительно захохотал. Захохотал вслед за ним и съезд. Обстановка разрядилась настолько, что первое заседание учредительного съезда 22 партий и одной подпартии пошло, вопреки стараниям лже-Пугачева, к черту.
– Жаль, протокол не вели, – сказал Рассказчик. – Внукам было бы интересно почитать. Взять бы…
– Взять бы сейчас все партийные кассы да набрать в кабаке жратвы с выпивкой – ох и съезд получился бы! – крякнул Боб на голодный желудок. – А то голова, как фанера, никаких фантазий. Все фантазии в животе бурчат. Всю жизнь не мог понять этих орущих олухов – о чем кричат, к чему призывают, куда ведут?
– Слепые поводыри… – начал откуда-то взявшийся священнослужитель в черной хламиде.
– Совершенно верно, батюшка! – поспешил согласиться с ним Боб. – Слепые, как Гомер. Олухи царя небесного, – он ткнул пальцем вверх, потом, присмотревшись к бороде духовника, вытащил из нее какую-то веревку. – Ведь они ничего не знают, ничего не умеют, ничего не видят, ничего не слышат, ничего не чувствуют – у них нет ни одного органа, через который можно было бы с ними общаться (надо сказать об этом сексуальным меньшевикам). И вообще они – ни взад, ни вперед… – Боб помрачнел. – Все эти лидеры, все эти орущие матероидеалисты, давно перековавшие плуги и мечи на «орало», с пустым желудком и жидким задом, – зачем они рвутся осчастливить меня, мою бессмертную душу? Да чтоб им лопнуть от потуг!
– Боб, ты не прав, – предупредил Рассказчик. – Лопнув, они все для тебя и устроят. Не рад будешь…
– А что мне, шею им подставлять? Слуга покорный!
«Слуга покорный. Покорный слуга. От перемены мест слагаемых – результат один», – подумал я.