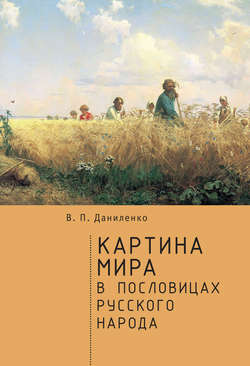Читать книгу Картина мира в пословицах русского народа - Валерий Петрович Даниленко, В. П. Даниленко - Страница 5
1. Теоретические предпосылки
1.3. Языковая картина мира
ОглавлениеИстоки понятия языковой картины мира восходят к учению Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835) о внутренней форме языка. Его автор различал две формы языка – внешнюю и внутреннюю.
Под внешней формой того или иного языка В. Гумбольдт имел в виду его звуковое своеобразие, а под его внутренней формой – смысловое (семантическое) своеобразие (см. подр.: Даниленко В. П. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. М., 2010).
Термины внутренняя форма языка и языковая картина мира следует расценивать как синонимические, поскольку В. Гумбольдт интерпретировал внутреннюю форму языка как мировидение, заключённое в языке. Он писал: «Всякий язык в любом из своих состояний образует целое некоего мировидения, содержа в себе выражение всех представлений, которые нация составляет себе о мире, и для всех ощущений, которые мир вызывает в ней» (Радченко О. А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Ч. 1. М., 1997. С. 64).
Любой язык отображает мир, но отображает его с определённой точки зрения – той точки зрения, с которой смотрел на него народ, создавший данный язык. В любом языке, таким образом, представлен универсально-объективный аспект (он связан с отражением в языке объективной реальности как таковой) и субъективно-национальный (идиоэтнический), который отражает уже не мир как таковой, а точку зрения на него со стороны носителей этого языка.
Элементарный пример: французы, немцы и англичане, в отличие от русских, вербализуют руку не целиком, а деля её на две части: main-bras; Hand-Arm; hand-arm. Выходит, что на руку они смотрят с разных точек зрения. Если же суммировать разные точки зрения на один и тот же мир во всех языковых системах, то и выйдет, что в каждой из них заключено не что иное, как особое мировидение.
Переход от одного языка к другому представлялся В. Гумбольдту как смена одного языкового мировидения на другое. Он писал: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М, 1984. С. 80).
Термина языковая картина мира мы не найдём у авторов гипотезы Сепира-Уорфа. Но отсюда не следует, что у них не фигурировало само понятие языковой картины мира. Это понятие, в частности, вырисовывается в таких выдержках из работ Эдварда Сепира (1884–1939):
1. «Мир языковых форм, взятый в пределах данного языка, есть завершённая система обозначения… Переход от одного языка к другому психологически подобен переходу от одной геометрической системы отсчёта к другой» (Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 252).
2. «Каждый язык обладает законченной в своём роде и психологически удовлетворительной формальной ориентацией, но эта ориентация залегает глубоко в подсознании носителей языка» (там же. С. 254).
3. «Языки являются по существу культурными хранилищами обширных и самодостаточных сетей психических процессов» (там же. С. 255).
Термин «языковая картина мира» (sprachliches Weltbild) был введён в науку Лео Вайсгербером (1899–1985). Он приписывал языковой картине мира шесть существенных признаков – словоцентризм, системность, своеобразие, изменчивость, действенность и сложность.
Словоцентризм языковой картины мира, по Л. Вайсгерберу, состоит в том, что любой язык по-своему ословливает (вербализует) мир, т. е. делит его на те или иные явления, обозначаемые с помощью слов. Так, словесное поле родства в разных языках по-своему делит подведомственную ему область. Например, в немецком языке – в отличие от сербохорватского, как и русского, – нет слов для обозначения тестя и свекра. Немцы вынуждены говорить о них с помощью словосочетаний – отец жены и отец мужа.
Языковая картина мира есть системное, целостное представление о мире. В этом состоит ее второй признак. Это означает, что каждый язык изображает по-особому весь мир, а не только отдельные его фрагменты. Неслучайно вслед за В. Гумбольдтом Л. Вайсгербер писал: «Язык позволяет человеку объединить весь свой опыт в единую картину мира» (Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М., 1993. С. 51).
Языковая картина мира своеобразна у каждого народа. В этом состоит её третий признак. Так, разные языки по-разному делят цветовой спектр. Например, в немецком, как и в английском и французском, нет специальных слов для обозначения синего и голубого цветов. С другой стороны, во вьетнамском имеется 13 наименований для разных видов бамбука, тогда как в европейских языках они отсутствуют.
Четвёртый признак языковой картины мира – её изменчивость. Л. Вайсгербер пояснял это на примере словесного членения животного царства в современном языке и в его истории. Оказалось, что языковая картина животного мира в разные периоды развития немецкого языка оказалась разной. Так, в древности немецкий язык классифицировал животных на пять групп: домашние животные, бегающие дикие, летающие, плавающие, ползающие. В современном же языке картина мира животных у немцев иная.
Пятая черта языковой картины мира – её действенность в отношении познавательной и практической деятельности человека. Л. Вайсгербер настаивал на господстве языковой картины мира в сознании человека над другими картинами мира – мифологической (религиозной), научной, политической и т. п. С его точки зрения, именно язык направляет познание по определённому руслу со значительно большей силой, чем это делают другие картины мира. Он писал: «Человек, который врастает в некий язык, находится на протяжении всей жизни под влиянием своего родного языка, действительно думающего за него» (там же. С. 168).
Шестая черта языковой картины мира, по Л. Вайсгерберу, – её сложность. Она состоит в том, что она слагается из четырёх её разновидностей – словообразовательной, словесной, морфологической и синтаксической. Каждая из них изображает мир, однако возможности словообразовательной, морфологической и синтаксической картин мира в моделировании мира не идут ни в какое сравнение с аналогичными возможностями словесной (лексической) картины мира. Лексических единиц в любом языке намного больше, чем словообразовательных, морфологических и синтаксических. Вот почему именно лексика, а не другие единицы языка, позволяет изобразить мир в достаточно адекватном виде (см. подр.: Даниленко В. П. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. М., 2010. С. 120–123).
«Словарный запас конкретного языка, – писал Л. Вайсгербер, – включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях определённую картину мира и передаёт её всем членам языкового сообщества» (Радченко О. А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Т. 1. М., 1997. С. 250).
Обобщению современных представлений о лексической картине мира посвящена книга Олега Александровича Корнилова «Языковые картины мира как производные национальных менталитетов» (2-е изд. М., 2003). Её автор анализирует в этой книге лексико-семантические поля (ЛСП) рыб, звукоподражаний и др.
Если у Л. Вайсгербера излюбленными были поля цветообозначений и родственников, то у О. А. Корнилова таким полем стало ЛСП насекомых (энтомосемизмов). Он называет это поле лексико-семантической группой (ЛСГ). При этом он сравнивает эту группу с соответственной научной (биологической) классификацией.
О. А. Корнилов насчитал в русском языке 79 наименований насекомых, но только 9 из них вошли в ядерную зону соответственного ЛСП. О. А. Корнилов пишет в связи с этим: «Полевую структуру ЛСГ энтомосемизмов, по нашему мнению, можно представить в виде ядра, группы наименований, примыкающих к ядру, и периферии. Ядро ЛСГ составили девять наименований: муха, пчела, оса, стрекоза, кузнечик, жук, бабочка, комар, муравей. Именно эти наименования (и в таком порядке) включены в «Лексическую основу русского языка» под редакцией В. В. Морковкина» (указ. соч. О. А. Корнилова. С. 30). В эти слова надо вникнуть поглубже! Из них следует, что в ядерную зону ЛСП энтомосемизмов в русском языке входят наименования только девяти (!) насекомых. Только и всего! Сразу напрашивается предположение о количественной разнице между ЯКМ и научной. Это предположение подтверждает О. А. Корнилов.
На 29 странице он помещает схему, в которой представлены наименования отрядов насекомых. Вот что показывает эта схема: в ней всего 28 наименований. Все они входят в научную классификацию энтомосемических отрядов. При этом только 10 из них входят не только в эту классификацию, но и в соответственное ЛСП в русском языке. Эти 10 энтосемизмов такие: тараканы, термиты, пухоеды, вши, клопы, жуки, блохи, мухи, ручейники и бабочки.
Мне кажется, цифру 10 здесь надо уменьшить, по крайней мере, на два наименования – пухоеды и ручейники. Они явно неизвестны русскому носителю обыденной (языковой) картины мира. В любом случае эта небольшая группа слов, вошедших в картину мира русского языка, соседствует в научной картине мира, по мнению О. А. Корнилова, с 18-ю (с 20-ю – по моему мнению) неизвестными широкой публике научными наименованиями отрядов насекомых. Вот только некоторые из них: прямокрылые, эмбии, кожистокрылые, трипсы, вислокрылые, верблюдки, сетчатокрылые, перепончатокрылые, скорпионницы и др.
На данном примере прекрасно видно, что язык в области терминологии явно отстаёт от науки. Между ними существенная количественная разница. ЯКМ усвоила намного меньше терминов, чем научная картина мира.
Но между ЯКМ и научной имеется не только количественная, но и качественная разница. Она состоит в том, что дефиниции научных терминов и терминов, вошедших в ЯКМ, далеко не всегда совпадают. Вот как это объясняет О. А. Корнилов: «Обиходные значения отличаются от научных понятий не просто объёмом, но и "качеством", т. к. языковое сознание может приписывать слову элементы значения, не соответствующие научному знанию о называемом объекте» (там же. С. 37).