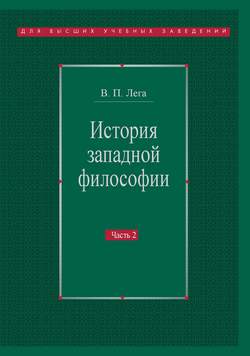Читать книгу История западной философии. Часть II. Новое время. Современная западная философия - В. П. Лега - Страница 3
Раздел четвертый
Философия Нового времени
Глава I
Философия XVII в. Возникновение науки Нового времени
§ 1. Галилео Галилей
ОглавлениеГалилео Галилей (1564–1642) происходил из знатного, но бедного флорентийского рода. Закончил медицинский факультет Пизанского университета, впоследствии преподавал математику там же, а еще позднее – в Падуанском университете (до 1610 г.). Изучал античную математику и философию. В 1609 г. изготовил подзорную трубу, а в следующем году результаты наблюдений над небесными телами опубликовал в работе «Звездный вестник». У Галилея крепнет убежденность в правоте Коперниковой системы, и в 1632 г. он издает свою наиболее известную работу «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой». По поводу публикации этой работы в 1633 г. состоялся суд над Галилеем, на котором он отрекся от высказанных в книге астрономических воззрений.
Однако упрекать Галилея в отходе от веры было бы совершенно неправильно. Галилей исповедует теорию двойственной истины: есть одна истина, но открывается она двояким образом – как истина, изложенная в Священном Писании, и как истина, изложенная в книге природы. Они не противоречат друг другу, поскольку Священное Писание является книгой Божественного откровения, а книга природы – книгой Божественного творения. Но познавать эти две книги мы можем разными способами. Обе они самостоятельны: познавая Священное Писание путем откровения, путем веры, или познавая книгу природы путем разума, мы приходим в конце концов к одним и тем же положениям. Священное Писание, по мысли Галилея, безошибочно, ошибаются его толкователи. Здесь Галилей занимает антисхоластическую позицию. Библию не следует понимать буквально; главное в понимании Библии – аллегорическое ее исследование. Но когда человек изучает природу, он должен изучать именно природу, а не Библию, иначе происходит подмена методов и пользы от такого исследования не будет. «И Писание и Природа исходят от Бога. Писание продиктовано Им, а Природа – верная исполнительница Его велений. Писание, убеждая в истинах, необходимых для спасения, языком, доступным даже людям необразованным, нередко говорит иносказательно. А прямое значение слов было бы богохульством, когда, например, говорится о руках и глазах Бога, о его гневе и сожалении, о его забывчивости и незнании будущего. Природа же, никогда не нарушая законов, установленных для нее Богом, вовсе не заботится о том, доступны ли человеческому восприятию ее скрытые причины и способы действия. Бог наделил нас органами чувств, языком и разумом, чтобы с их помощью мы сами могли получить знания об устройстве Природы. Поэтому, когда мы узнаем нечто о природных явлениях, опираясь на опыт своих чувств и надежные доказательства, это знание не следует подвергать сомнению, опираясь на фразы из Писания, которые кажутся имеющими иной смысл. Это особенно относится к явлениям, о которых там всего несколько коротких фраз. Ведь в Писании не упомянуты даже все планеты»[1], – пишет Галилей в письме Бенедетто Кастелли.
Главная заслуга Галилея в создании основоположений современного научного естествознания. В чем же состоит та революция, которую он совершил?
Обычно, особенно в атеистической литературе, смысл ее сводится к нескольким положениям: что новая наука отошла от умозрительных принципов средневековой науки и стала больше опираться на опыт, она перешла от созерцания к деятельности и, главное, она стала материалистической и перестала зависеть от религии и Церкви. Но это не совсем верные утверждения, поскольку основное отличие науки Нового времени от науки средневековой и античной состоит в другом.
Современная наука возникла именно в XVII в. трудами Галилея и многих его последователей. Это факт, не подлежащий сомнению: науки в современном смысле не было ни в Средневековье, ни в Античности. Конечно, переворот, который совершил Галилей, был сделан не в одиночку. Во многом его положения существовали уже в работах Николая Кузанского, Николая Коперника, Леонардо да Винчи и многих других. Галилеевская наука пришла на смену науке аристотелевской. Авторитет Аристотеля, и так весьма высокий, еще более вырос после работ Фомы Аквинского, который фактически «воцерковил» Аристотеля, так что многие положения физики Аристотеля стали считаться христианскими положениями. Именно в этом следует искать причину того, почему борьбу с аристотелизмом в науке многие стали считать борьбой с христианством. В действительности же произошла элементарная подмена понятий, и сами ученые – творцы новой науки – это прекрасно понимали и полемизировали именно с Аристотелем, а не с христианством.
Одно из главных положений современной науки состоит в утверждении однородности пространства, однородности всего мира. Античная и средневековая физика всегда рассматривала мир иерархически. Скажем, по Аристотелю и томистской физике, принципы движения на земле и на небе совершенно различны: в эфире возможно совершенное – круговое и вечное – движение, а на земле движение несовершенно, ибо невечно. Галилей и до него Николай Кузанский и Джордано Бруно полностью отвергают такую точку зрения, утверждая, что все части мира подчиняются одним и тем же законам. Одним из следствий этого античного и средневекового принципа было представление о естественных и неестественных местах. Как объяснял Аристотель и вслед за ним средневековые физики падение тела? Тело движется вниз, поскольку низ является естественным местом тела. Почему огонь поднимается вверх? Потому что верх является естественным местом огня, там же находится эфир (огнеподобная сущность, квинтэссенция, пятая субстанция). По Галилею же, естественного места не существует. Все предметы ведут себя одинаково, независимо от того, где они находятся – на земле или на небе. Доказательством этому являются астрономические наблюдения Галилея, показавшие, что на Луне, как и на Земле, есть горы, на Солнце есть пятна, следовательно, оно несовершенно, а Венера меняет фазы, как и Луна.
Физика Аристотеля и его средневековых продолжателей была наукой качественной, изучающей умопостигаемые сущности явлений. Недаром Аристотель именовал физику «второй философией». Математическое познание не имеет никакого отношения к природе. По аристотелевской классификации наук, физика изучает подвижные сущности, существующие самостоятельно, а математика изучает неподвижные сущности, существующие несамостоятельно. Поэтому математика и физика разделены по своим предметам. Как может неподвижное число относиться к подвижным предметам? В природе не существует ни точки, ни прямой линии, ни окружности, это удобные абстракции, придуманные человеком. Математика не имеет к природе никакого отношения.
Галилей исходит из другой концепции – пифагорейско-платоновской. Галилею, родившемуся и выросшему во Флоренции, традиции флорентийской платоновской Академии были хорошо знакомы. Он изучал труды Платона, блж. Августина, знал работы флорентийских платоников. Эти идеи Галилей сформулировал таким образом, что человек познаёт мир посредством числа. Свое отношение к учению Платона Галилей сформулировал вполне однозначно. Так, в знаменитой работе «Диалог о двух системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» он пишет: «То, что пифагорейцы выше всего ставили науку о числах и что сам Платон удивлялся уму человеческому, считая его причастным божеству потому только, что он разумеет природу чисел, я прекрасно знаю и готов присоединиться к этому мнению»[2]; «То, что я думаю о мнении Платона, я могу подтвердить и словами, и фактами. При рассуждениях, имевших место до сих пор, я не раз прибегал к объяснению при помощи фактов; буду придерживаться того же способа и в данном частном случае, который затем может служить вам примером для лучшего уяснения моего понимания приобретения знания»[3].
Вспомним платоновский диалог «Тимей», в котором говорится, что первоэлементы мира состоят из правильных геометрических фигур. Казалось бы, странное положение. Однако если вспомнить, что античная математика не знала другой математики, кроме арифметики и геометрии, то как еще Платон мог выразить пифагорейскую мысль, что в основе мира лежит число? Не какие-то качественные демокритовские атомы, а именно число, которое человек может познавать, а познавая числа, человек познаёт природу. Поэтому Галилей формулирует принцип, согласно которому книга природы написана на языке математики: «Философия написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту»[4]. Именно от Галилея и берет свое начало современное математическое естествознание. До Галилея само понятие физической формулы, описывающей движение, было просто бессмыслицей. Если число и может что-то выразить, согласно аристотелевской физике, то лишь некую статику, сосчитать неподвижные предметы, но описать движение – это противоречило определению. Кроме того, геометризация природы выглядела бы в глазах Аристотеля полнейшей чушью: реальные вещи не имеют ничего общего с идеальными геометрическими фигурами – в природе не существует ни точки, ни окружности, ни прямой. Для галилеевской же физики такие выражения, как «материальная точка», «движение по прямой или по окружности», – вполне обыденны.
Поэтому Галилей возрождает демокритовское учение о первичных и вторичных качествах: материальные тела объективно содержат в себе первичные качества (протяженность, размеры, вес и плотность), а вторичные качества (цвет, запах, вкус и т. п.) самим вещам не присущи, они возникают в человеке в результате воздействия предметов на его органы чувств. Ведь только первичные качества можно описать математическим языком, а вкус и запах – категории качественные, математическому языку неподвластные. «…Я думаю, – пишет Галилей, – что вкусы, запахи, цвета и другие качества не более чем имена, принадлежащие тому объекту, который является их носителем, и обитают они только в нашем чувствилище. Если бы вдруг не стало живых существ, то все эти качества исчезли бы и обратились в ничто»[5].
Аристотелевская физика исходила из опоры на чувственное познание. Аристотеля не устраивала платоновская теория идей, и он стремился вернуться к миру чувственных вещей. Вся средневековая физика вслед за Аристотелем была также физикой, ориентированной на полное доверие чувственному познанию. О чем нам говорят чувства? Мы видим, что предмет, оставленный сам по себе, покоится и может быть приведен в движение лишь тогда, когда на него подействует какая-то сила. Кроме того, мы видим, что Земля покоится, а Солнце движется. Это полное доверие органам чувств и было одним из основных принципов аристотелевской и средневековой физики. Галилей формулирует принцип противоположный, опирающийся на большее доверие разуму, чем чувствам. В описании механизма движения этот принцип принимает вид принципа инерции: любое тело, приведенное в движение, будет находиться в состоянии движения до тех пор, пока какое-нибудь тело не выведет его из этого состояния. То есть наоборот: толкни тело – и оно будет вечно двигаться.
Какое из этих положений основано на здравом смысле, а какое является идеалистическим вымыслом? Мы никогда не увидим, как тело движется бесконечно по прямой линии. Поэтому Галилей фактически отходит от принципа полного доверия чувственному познанию и придерживается принципа рационалистического познания. Если Галилей, рассуждая, приходит к выводу, что движение должно продолжаться бесконечно, значит, так оно и должно быть. Галилей в данном случае является последователем парменидовско-зеноновской традиции: если разум противоречит чувствам, то нужно отдавать приоритет разуму. И к какому бы странному выводу мы ни пришли в результате анализа движения, предпочтение мы все равно должны отдавать разуму. По сути, Галилей не совсем доверяет опыту. Фактически он исходит из принимаемого аксиоматически положения об удивительной математической упорядоченности и красоте природы. Как пишет известный физик XX в. В. Гейзенберг, «искажая и идеализируя таким способом факты, он получил простой математический закон, и это было началом точного математического естествознания Нового времени»[6]. То есть новая физика начинается не с отказа от умозрительных построений Средневековья и доверия фактам, как обычно считается, а фактически наоборот – с некоего недоверия фактам в пользу умозрительных математических конструкций. Ведь любой человеческий опыт всегда будет ограниченным и субъективным, сколь много раз его ни повторяй, он все равно не сможет объять бесконечность. Поэтому опытное познание не сможет привести человека к познанию абсолютной божественной истины. Математика, в отличие от опыта, дает разуму этот несомненный способ познания истины: «Я утверждаю, что человеческий разум познаёт некоторые истины столь совершенно и с такой абсолютной достоверностью, какую имеет сама природа; таковы чистые математические науки, геометрия и арифметика; хотя Божественный разум знает в них бесконечно больше истин… но в тех немногих, которые постиг человеческий разум, я думаю, его познание по объективной достоверности равно Божественному, ибо оно приходит к пониманию их необходимости, а высшей степени достоверности не существует»[7].
Утверждая, что любое тело движется только тогда, когда на него действует другое тело, аристотелевская физика сталкивалась с одной трудностью – трудностью объяснения движения летящего тела, например брошенного камня. Почему летит брошенный камень, ведь на него ничто не действует? Аристотель утверждал, что камень летит, потому что на него действует воздух, который его толкает. Если бы камень был брошен в безвоздушном пространстве, движения не было бы. Но природа не терпит пустоты (другой аристотелевский принцип), потому движение и возможно.
Галилей говорит, что камень летит по инерции. По инерции же движется и шар, если он катится по плоской поверхности, в то время когда его не толкает никакое другое тело. Более того, шар двигался бы вечно, если бы ему не мешали силы трения, сопротивления воздуха и т. п. Откуда он взял этот парадоксальный принцип? Все помнят его эксперименты со знаменитой Пизанской башней: бросая предметы, Галилей замерял скорость их движения, ускорение и т. д. Однако камень летит слишком быстро, замерить время его падения крайне трудно (особенно во времена Галилея при помощи водяных или песочных часов), поэтому Галилей начал делать эксперименты на наклонной плоскости. Это именно эксперимент, а не просто опытное наблюдение. Прежде чем начать наблюдение, Галилей выдвигает свою гипотезу и строит для ее проверки экспериментальную установку. Таким образом, если Галилей и доверяет опыту, то только опыту разумному, заранее продуманному, т. е. эксперименту. В эксперименте Галилея если шар движется по наклонной плоскости вниз, ускоряясь, то всегда можно вычленить его вертикальную и горизонтальную составляющие и посчитать, за какое время он пройдет эту вертикальную прямую. Соответственно если тело будет двигаться вверх, оно так же будет двигаться по вертикальной и горизонтальной составляющим с уменьшающейся скоростью. Если вниз по наклонной плоскости тело движется, ускоряясь, а вверх – замедляясь, то, если расположить плоскость горизонтально, тело должно двигаться по ней без ускорения, т. е. с одной и той же скоростью. Опыт этому противоречит: любое тело, двигаясь по горизонтальной плоскости, рано или поздно остановится, – но Галилей настаивает, что в идеале тело будет двигаться вечно. Поэтому Галилей формулирует принцип инерции фактически наперекор чувственным данным, более доверяя математическим расчетам, чем наблюдению.
Итак, вклад Галилея в построение современного научного естествознания можно свести к следующим положениям:
1) метод науки независим от религиозных положений, хотя и не противоречит им; наука, таким образом, самостоятельна в своих исследованиях; 2) научные положения можно согласовать с христианскими путем аллегорического толкования Священного Писания; 3) пространство однородно, природа предметов во всей Вселенной одинакова; 4) языком описания природы является математика; 5) следует доверять не простому наблюдению, а тщательно продуманному эксперименту.
Галилей лишь начал процесс создания новой науки. В его научных взглядах пока нет понимания социальной роли науки, да и само здание науки без таких фундаментальных понятий, как закон природы, сила и другие пока еще достроено им не до конца. Продолжат дело Галилея по формированию новоевропейской науки Ф. Бэкон и Р. Декарт.
1
Galileo Galilei. Opere. Vol. V. Firenze, 1968. P. 282.
2
Галилей Г. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1964. С. 107.
3
Там же. С. 290.
4
Галилей Г. Пробирных дел мастер. М., 1987. С. 41.
5
Галилей Г. Пробирных дел мастер. С. 223.
6
Гейзенберг В. Значение красоты в точной науке // Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 274.
7
Галилей Г. Избранные произведения. Т. 1. С.201.