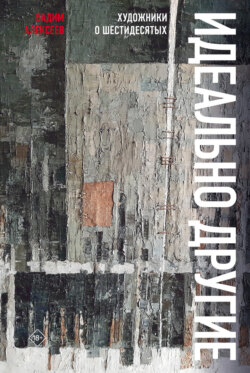Читать книгу Идеально другие. Художники о шестидесятых - Вадим АЛЕКСЕЕВ - Страница 5
Лидия Алексеевна Мастеркова
ОглавлениеЛида, расскажите про детство, где вы родились?
Я родилась на улице Горького, на пятом этаже дома 45, квартира 10. Место для меня священное, незабываемые годы жизни. Я вижу, как будто все это существует. Потрясающий доходный дом, какие окна, стены, потолки! В свое время это были очень хорошие, дорогие квартиры. У нас была большая, 32 метра, комната. В моей памяти большая прихожая, огромный коридор, еще дореволюционная, ар-нуво, вешалка с керамическими вставками, прекрасные двери, тяжелые, красивые. Теперь вход со двора, а был с улицы Горького. Недавно я пошла посмотреть, можно ли войти, интуитивно набрала код, и дверь открылась, когда из моего окна высунулась женщина: «Что вы там делаете?» У нас было три больших окна, и, когда я смотрела на них с обратной стороны, света не было, оказывается, у них не было электричества. Я позвонила в дверь, и вышла женщина, чуть ли не в трусах, в какой-то рубашонке, полупьяная, потом мужчина, тоже пьяненький. Немножко поговорили, вышла девчонка с кошкой из квартиры нашей соседки. Квартиры теперь отдельные, все перестроили, перекроили.
Как вам вспоминается довоенная жизнь?
Мы были молоды и по-другому все воспринимали. Никакого ощущения подавленности, враждебности у нас не было. Мы были смелыми, а так как не были ни комсомольцами, ни какими-то деятелями, то чувствовали себя свободными. И вообще жили свободно, какая бы Россия ни была. Мы ходили в прекрасные школы, вечером свободно заходили в свой подъезд, и нас никто не трогал. В этой советской Москве я ничего не боялась, не опасалась. Иногда возвращалась домой в три часа ночи на самосвале, в прекрасной шубе и роскошной шапке, с одной стороны шоферюга, с другой подобный ему. За три рубля они меня довозили до дома, и никто меня никогда пальцем не тронул. Но я была спортсмен и ни с кем не знакомилась. Я очень любила Парк культуры, было недалеко и добираться очень просто, туда можно было ехать на троллейбусе, «Б» или «10». Ходила на каток, сначала на дорожки, потом на фигурный. Были знакомые, которые нашли мне фигурные коньки. Когда я каталась на стадионе юных пионеров, приходили взрослые хоккеисты смотреть, как я катаюсь. А я была девчонкой лет двенадцати-тринадцати, сорвиголова. Я каталась на ломовых извозчиках, прицепившись к ним, прыгала на ходу с трамвая, с опасностью для жизни. У меня была подружка, тоже Лида, рыженькая, замечательная девчонка! И мы с ней вместе хулиганили. Для меня мчаться на катке было удовольствием, я могла и назад и вперед, потом выделывала разные фигуры, прыгала на коньках. Меня даже звали в женскую хоккейную команду. Но меня и во МХАТ звали – способная была.
Музыкальные способности проявились у вас прежде художественных?
Родители заботились, учили нас музыке. Когда была маленькая, я занималась пением, пела даже в детском государственном хоре, и это имело для меня большое значение. В Театре юного зрителя собирался наш хор, там же пели моя сестра и двоюродная сестра. Потом мы из хора ушли, чтобы заниматься в театральной студии. С девяти лет я играла на сцене, любила театр как не знаю кто. Был такой Транспортный институт на Палихе, замечательный, огромный зал на много мест – я читала со сцены Катюшу Маслову, долго не могла заснуть. Там была детская выставка, и мне запомнились не реалистические вещи, а похожие на суперобложки для книг. Студией руководил Василий Константинович Новиков, близкий ученик Станиславского, он преподавал и в студии МХАТ и очень меня звал, поступить мне туда ничего не стоило. Но я знала, где моя сила!
А какие спектакли вы видели во МХАТе до войны?
«Синюю птицу», да все спектакли, Вадим. Я очень люблю театр и всем интересовалась. Я очень любила Качалова, даже подражала ему, единственному – его эмоциям, прекрасному голосу. Вы Качалова уже не застали, конечно. Мама, отец, сестра, все ходили в театр, все были театралы. Даже во время войны, лет в тринадцать-четырна́дцать, мы каждый день ходили в филиал Большого театра и слушали оперу. Во время войны был только филиал, а другие театры работали как Художественный. Филиал – бывший театр Зимина и когда-то Мамонтова. Тогда мы им жили, дышали. Это был наш второй дом, билеты стоили гроши, можно было покупать на неделю или на весь сезон, мы сидели, конечно, наверху. Я не была «поклонницей», мне не нравились Лемешев или Козловский. Жадана я плохо помню, только фамилию, и истории, как он ушел с немцами, не знаю. Но не думаю, что он как-то устроился за границей. Другой наш артист уехал, но славы так и не сыскал. Его воспоминания печатались в журнале «Возрождение».
Как вы стали профессионально заниматься вокалом?
Однажды отец повел меня к Ольге Алексеевне Нестеровой. В свое время она была примой Большого театра, пела даже с Шаляпиным. Евгения Сидоровна Панкратова ее звала «Шаляпин в юбке». Ее заменили совершенно непонятной певицей, Большой театр превратился в пристанище коров и быков. А она стала учительницей для дефективных детей, преподавала им пение. Революция громила великих артистов, великих мастеров. Но я никогда от них не слышала: «Мы были, а теперь преподаем пение дефективным детям в школе». Такой была моя учительница, очень верующая, любящая, добрая, и дети для нее были как сокровище. Тогда было распространено оканчивать два факультета консерватории, как Скрябин, композитор и пианист. Так и она, замечательная певица, владела инструментом, а потом преподавала и пение, и фортепиано, и с чем она осталась. Бывшая прима Большого преподавала дефективным детям. Но, думаю, была довольна и счастлива – она очень любила детей, своих у нее не было. Дети ее обожали и называли Китенькой. У меня есть работа, ей посвященная, я бы не решилась ее продавать.
А как у вас появилось фортепиано?
В России были братья Дедерихс, уникальные люди, невероятные любители музыки – в доме Шаляпина стоит рояль с бронзовой табличкой «В дар великому русскому певцу Федору Ивановичу Шаляпину от братьев Дедерихс». Я разгадала их хитрость: братья Дедерихс были поставщики фирмы Бехштейн, сами делали корпус, а всю механику привозили из Германии и собирали инструменты. В России такого качества инструмента не могло быть – не было такой техники и таких знаний. Моя учительница музыки, будучи еще ученицей консерватории, получила от них в дар пианино, немножко старше, чем это. Когда мой отец купил это пианино и привел его в порядок – на нем такое пианиссимо можно было делать, что-то невероятное! Когда я бросила квартиру и без копейки денег уехала в Англию, Игорь привез мои картины и наше еще московское пианино, которое за 30 лет от сырости испортилось. Иногда я на нем играю, вспоминая былые дни.
Кого вы слушали в консерватории, филармонии?
Я с 13 лет каждый день ходила в симфонический концерт, мы обожали Чайковского, симфонии и фортепианные концерты. Я сама занималась пением много лет, знаю все его романсы, как и Рахманинова, Шуберта, Шумана. С Володей Немухиным мы часто ходили в концерт, мне было 15 лет, ему 17. Иногда мы ходили в Зал Чайковского, во время войны и после. Приезжали дирижеры интересные, как Вилли Ферреро, очень артистичный, пластичный, незабываемый. Что касается российских, Кондрашин был сильный дирижер. Я ходила на репетиции, на генеральные репетиции, мне путь был открыт. Моя сестра дружила с одной девочкой, ее звали Женя, она у нас только не ночевала. Отец был в лагере, мать, Изабелла Константиновна, работала в Зале Чайковского билетершей и, когда я приходила, всегда говорила: «Проходите, пожалуйста!» Мы много слушали симфонических концертов, даже передовых, которые еще мало исполняли, – мы были довольно подкованны.
Помните свое первое художественное впечатление?
В 11 лет моя матушка повела меня и мою сестру Нину в Третьяковскую галерею и поставила перед картиной Иванова – мы были поражены, потрясены так, что не ходили в школу, а каждое утро отправлялись в Третьяковскую галерею и там проводили все учебное время. Я собирала открытки, репродукции – тогда можно было легко и просто купить французов в букинистических. Как и книги – у меня была даже небольшая библиотека, связанная с искусством. Было раннее развитие, как музыка или литература. В 13 лет у меня было два кумира – Лев Толстой и Бетховен. Школа была уже продолжением моего кредо – я восторгалась Крамским или Врубелем, хотя он в другой стезе. И я жила уже своей жизнью, убеждением, искусством. Мне многое дано было от рождения!
Лида, а как вы начали рисовать?
Я начала рисовать в 12 лет и рисовала без остановки, за год сделала больше ста вещей. Мои родители были просто на верху блаженства. До войны я поступила в среднюю художественную школу, сдала экзамены и должна была начать заниматься. Моя учительница музыки, которая была мне как вторая семья, тоже принимала в этом участие. Еще до революции ее отец был художником, и живопись ей была близка. Но началась война, школа эвакуировалась в Уфу, и меня не отпустили родители. Господь спас, и я в этой школе никогда не училась. Туда по блату брали высокопоставленных деток. Там училась Ира Шевандронова, дочь архитектора, – позже они купили дом в Прилуках. Во время войны здание школы было разрушено. Все военное лето 41-го года мы прожили в деревне и ходили рыть яму. На Москву летели самолеты, и мы узнавали «Юнкерсы» по характерному прерывному гудению. Как только мы слышали, уже знали, что Москву летят бомбить. Мы не ощущали всего ужаса войны, я была совсем еще девчонкой. Мы выходили на улицу и смотрели на трассирующие пули, летящие по небу, и абсолютно ничего не боялись. Конечно, мы ходили в бомбоубежище, когда начиналось: «Граждане, воздушная тревога!» Позже я познакомилась с человеком, который делал эти объявления. Он вел концерты, звали его Николай. Всю войну рисовала, и в холод, и в голод, при свечке, при лампе керосиновой, в шестиградусном холоде, даже при замерзших лужах на полу, я все время продолжала свое дело. Даже маслом начала писать. Замерзшая на полу вода, мороз в комнате, а я сидела и писала. Но я такой, видимо, родилась, во мне этот огонь творческий никогда не угасал.
Семья
Лида, ваша фамилия – от мастеровых, и вы все умеете делать своими руками. Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
Человек рождается со знаниями, которые идут от бабушки, деда, прадеда. Я была из семьи мастеров, маэстро, понимавших, что хорошо и что плохо. В нашей семье умели делать все, все работали своими руками. Так что мне очень повезло. Моя фамилия от мастера – мой прадед получил это звание, и отец мой был великий мастер. А мастер – выше этого слова ничего нет. На Западе звание мастера считается очень веским, как раньше в России. Такой породы рождались люди, искавшие философский камень. Таким людям нечему учиться, настолько они от рождения наполнены знаниями. И умение: мы все умеем делать. Искавшие золото древние алхимики никогда не открыли бы людям тайны, которые они знали, настолько высокое было у них сознание. А сегодня многие ученые открывают свои тайны и ведут людей к погибели и разрушению. Я общалась с людьми высокого ранга, нас воспитывали, учили музыке, всему. Люди были в высшей степени интересные. Времена были другие, удивительные, сейчас все вульгарно, весьма несимпатично. Люди опростились, а раньше даже простые люди, которые университетов не оканчивали, знали так много. Я жила среди таких людей, выросла среди самородков. Это были порядочные люди, великие еще до революции.
Нашу деревню Кузянино под Рузой я расшифровывала как «Кузя» и «Нина». При моем прадеде крестьяне еще были крепостные, а потом все деревенские мужчины поехали работать в Москву, а семьи остались. Многие родились уже в Москве. Мы приезжали туда каждое лето и жили уже в новом доме, который мой отец построил. Деревня была не бедная – прекрасные дома, покрашенные разными красками, густые сады. Люди вокруг были очень интересные, непростые. Рядом с нами жил старик-толстовец, другой сосед целый день читал огромную Библию. Даже в деревенском доме были замечательные вещи – библиотека, поставец XVII столетия, иконостас с потрясающими иконами. В доме деда стоял старый тарантас. Туда клали сено, вещи, там спать даже можно было, четыре колеса на рессорах. В деревнях все это еще, наверное, сохраняется. Помню лошадиные дуги с колокольцами – такими, что я с ума сходила. И когда мы их сняли с гвоздя, раздался удивительный звук, какого я потом не слышала.
Прадедушка, фабрикант, красил шерсть, ее обрабатывал и ткал из нее не просто материи, а узорные, художественные вещи, декоративные ковры. Детьми мы залезали в огромный сарай, и чего там только не было. Челноки были, на которые наматывали шерсть, отполированное буковое дерево – мы делали донышко, ставили парус, но не пускали на пруд, ставили на воду, обязательно с ниткой, чтобы не потерять модель, как скульптуру. Были лампады, серебряные, с эмалями, недоделанные, во время революции сеном переложили, так в сарае все это и лежало. Он платил оброк за всю деревню, выкупал крестьян талантливых и давал работу на своей фабрике. Все собирались, денежек ни у кого нет, а он выносил и кричал: «Идите все по домам!» Ездил в гости на тройке с бубенцами, лихой был мужик, добряк с широкой душой. Моя тетка была такой же доброй. Накормить человека было для нее высочайшим удовольствием. Отец был таким же. Прадед ходил в лес разговаривать с волками, брал с собой внучку, мою тетку, набирали провизии и шли. Потом как-то сник и не очень хорошо кончил, стал выпивать. Сначала он не пил ничего, как и мои деды по отцу и матери, абсолютно трезвые люди – дед иногда курил махорку, но спиртных напитков не пил. Была зима, прадед гнал на тройке по Москве-реке, лед проломился, и он провалился в омут. Я этот омут очень хорошо знаю – мы никогда близко не подходили. Он вылез, но тройку свою потопил. Прибежал в деревню полусумасшедший и такое натворил, что чуть не поджег свою фабрику. Но это свойственно русским людям. Не знаю, какого он был ума и понимания, но у меня такое впечатление, что он не был русским, пришел к нам из Индии.
Сначала была германская война, потом революция, и многие люди просто прятались в деревне, не ахти какие богатые, но имевшие дело или, как мой дедушка по матери, два дома в Москве. Он все потерял с революцией и никогда уже не вернулся в свой дом. Мои родственники по бабушке были люди небедные, но они своими руками заработали все, что имели, они были мастера, революция все у них отняла, дома и деньги. Но когда ваши предки теряли все, что у вас было, заработанное честным путем, никто об этом не говорил. Произошла революция, мы же не будем собирать крохи и выяснять, почему она произошла, хотя многое знаем. Отец моей мамы был из старинного рода, барчук, человек очень начитанный, верующий, имел отношение к ювелирному искусству. Братья его были золотых дел мастера. Но дедушка был барского происхождения, таким и остался до конца. Он больше размышлял, сидел и смотрел, как работают другие. Перед домом был сад, липовый сквер. На лето они всегда уезжали в деревню, никогда не жили в Москве. В начале войны они остались – там было хозяйство, лошадь, корова. Дедушка и бабушка разводили пчел, были большими специалистами и, конечно, никогда бы не уехали, ничего бы не бросили, но надо было уезжать. А корова – это вся жизнь для человека, вся еда, кроме мяса и хлеба! Масло, молоко, творог, простокваша. Когда мы маленькие приезжали, бабушка пекла лепешки на сметане. Грибы собирали, солили, сушили. Собирали землянику, варили варенье – какое было подспорье. Хлеб даже сажали. Люди голодали, когда у них рук не было. В деревне сколько всего можно собрать для жизни. Такие у меня воспоминания от этого остались! Немцы ужасно к нам относились, когда пришли – вилами разграбили соты и все сожрали, потом все сожгли. Во время войны бабушку взял брат моей матери, а дедушка жил у нас и у нас умер. Такая нелегкая судьба.
По своей квалификации и знаниям мой отец был выше главного инженера на заводе, хотя был слесарь-лекальщик. Он очень любил свою работу, хотя в детстве мечтал быть скульптором и много лепил из глины. Но нисколько не жалел, что стал слесарем. Все его пресс-формы были отделаны с таким микронным допуском, что напоминали скульптуры, которых никогда ни у кого не было. Он учился на заводе Юнкерса, у немцев, и познал всю немецкую точность и любовь к металлу. Дореволюционные концессии были очень интересны. Отец вместе с дядей ночью входили в цех, влезали наверх и смотрели, как работают англичане. Когда отец ушел на пенсию, он решил делать мастихины. Когда-то у того же Лефранка были замечательные мастихины, и мой отец сказал: «Я сделаю лучше Лефранка!» И сделал лучше. А сделать настоящий мастихин – большой труд, потому что кончик этого ножа должен быть доведен до состояния кисти, тогда вы можете работать широкими мазками. Он работал и был очень увлечен этими мастихинами, потому что это уникальный инструмент, как музыкальный. Без этого фермента я лично не могла бы существовать. Сталь должна быть хорошая, металл нужно закалить, опустить в масло. Он был посвященный в металл. Знал трансмутацию металла – что даже объяснить нельзя. Ведь это не просто так, целая наука!
Вся Масловка работала его мастихинами, он ходил туда и продавал всего по пять рублей. Но денег у него никогда не было, хотя он хорошо зарабатывал, но всегда все отдавал семье, никогда себе ничего не оставлял. Однажды отец мой оставил на собачью выставку пять рублей – и то у него эти деньги стащили. Такой был человек. И прадед, и дедушка, и отец – на карточках все с животными. У сестры здесь один щенок, под мышкой другой. У отца очень дорогая собака была, на поводке. Ее у него потом украли. Все на Масловке его знали и спрашивали: «Это ваша дочка, замечательная художница?» А он был очень недоволен, потому что ему не нравилось, что я писала абстрактные картины. Мой отец не любил абстрактную живопись, хотя поначалу восторгу не было предела. Когда я начала рисовать, отец заказал мне этюдник, своими руками – он был великий мастер! – сделал мне прекрасный мольберт, раздобыл краски, принес и подарил. Мои родители были очень щедрые – отец достал во время войны целый набор масляных красок. Моя семья очень мне помогала, все были счастливы, что художник в семействе, может быть, я была как исключение, ведь приходилось и какие-то деньги зарабатывать. Родители часто думают: «Чем жить будет?», «Чем будет зарабатывать?». Ведь художник – от слова «худо»! Но это были другие люди, немеркантильные.
Люди тогда жили по-другому. Музыка для них была чем-то невероятным, дядя, которого звали Петр Николаевич, был знаменитый бас по всей округе. Дедушка тоже пел и очень хорошо понимал, что настоящее, что нет. Бабушка, Наталья Митрофановна, пела так, что по ее голосу скрипку строили. В 13 лет я услышала ее, и никогда мои уши не забудут этого звука. Звук должен растягиваться как резина, это зависит от дыхания, а дыхание у нее было натуральное, как у Шаляпина, у которого голос был поставлен от природы – его бы никто так не научил петь. Моя мать в девять лет была регентом хора, руководила им уже в школе. Знала все церковные песнопения, потому что ходила со своим отцом в церковь с малых лет. Моя мама не имела педагога, но настолько понимала и чувствовала музыку, театр, что можно было только удивляться. Игорь и Рита учились музыке, и моя матушка никогда не говорила, как говорят даже профессиональным музыкантам: «Перестаньте, когда это кончится, нашел бы себе другое помещение!» Ей все звуки были радостны для души, даже когда они играли упражнения, она все с удовольствием впитывала.
В моей семье люди были эстеты, они любили все красивое, даже если говорить об одежде. Вкус, одежда – все это можно рассказывать весьма долго. Мой отец для нас делал абсолютно все, одевал и обувал в самое лучшее, что только могло быть. Сестра Надя вообще всегда ходила королевой, так одевалась и обувалась. Да и я тоже. Кто там только не ходил, кто не поджидал на Горького. Моя зубная врачиха, Лариса Малик, говорила всегда: «Лидочка, нет человека на улице Горького, кто бы на вас не оглянулся!» Сейчас так женщина не скажет, тогда люди говорили друг другу комплименты. Моя подруга детства вспоминала, как любила, когда моя мама, Мария Павловна, им что-то шила, их было три сестры, они приходили и просили ее. «Какой вкус, какая красавица!» – говорили они. Какие замечательные платья были у моей матушки, как моя тетка принимала дома гостей, была простая женщина, но на какой высоте, уму непостижимо. Как моя тетка всегда была одета, какая была подтянутая. Я никогда не забуду ее зеленое шерстяное платье, бархатный зеленый воротничок, зеленые манжетики, камеи в ушах и на пальцах – люди любили красоту! А какое пальто у нее было!
Моя тетя Нюся, всегда, когда я ее вспоминаю, образ ее – прекрасная одежда и невероятная любовь к животным. Тетка была феноменальная женщина, спасительница всех утопающих. При мне в Сочи спасла девочку – все купаются, а она целеустремленно идет все дальше, глубже, пропадает и выносит девочку. Так же спасла и моего двоюродного брата. В Индии таких людей называют бодхисатвами, они отдают себя на служение, не умирают, остаются – накормить, напоить человека, купить ему одежду, если у него нет, было для нее самое большое удовольствие. Наверное, у меня всегда такие отношения с людьми, но я очень доверяю людям. В другом человеке я вижу частицу самой себя. Ведь каждый человек достоин доверия, отношения без каких-то границ. Даже в деревне, с мальчишками, девчонками, все очень просто. Есть люди очень скованные, боязливые, закрытые. У меня этого нет, я всегда иду напролом. Я плохого никогда никому не желала и всегда готова поддержать, когда человек попал в беду. Как птицу, кошку, собаку. Но бывает, что один человек доконает другого.
Чудовка
Лида, как вы поступили в художественную школу? Кто были ваши преподаватели?
Был 43-й год, немцы уже отошли, и мне прислали открытку, что открывается новая художественная школа и я могу туда поступить. И я отправилась на Крымскую площадь, на Большую Чудовку. Школа на Чудовке была образована чудом, каким-то непонятным образом, все преподаватели состояли в черных списках и не могли нигде найти работу, кроме как там. Все они были отринуты: Перуцкий, Хазанов, Фальк. Я поступила, стала заниматься, моим педагогом был Михаил Семенович Перуцкий. Приходила туда, и потом в училище, как к себе домой. Наши классы находились на втором этаже. Напротив была школа. Дома теперь нет, в нем было отделение милиции, а потом его сломали совсем. Это был второй дом, где меня любили, обожали, хвалили и относились просто потрясающе. Директором школы стала Нина Николаевна Кофман, уникальная женщина. Нина Николаевна была человек удивительный. С ней я не особенно дружила, да и некогда уже было. Другие дружили, справляли все ее дни рождения – не каждый так может собирать вокруг себя людей. Она дожила до 90 с лишним лет, и наши девочки, Таня Второва, Ася Спектор, каждый год были у нее на дне рождения. В 46-м году наша школа стала училищем, и она возглавила его. В Московское городское художественно-декоративное училище она тоже пригласила художников, которые были в черных списках. Как ей это удалось, не знаю. Соцреализм не разрешал ничего другого, и она чудом открыла училище, где были преподаватели, которые не могли работать нигде. Я приписываю это невероятному, ненормальному стечению обстоятельств.
Что лучше вам удавалось – портрет, натюрморт?
Первый натюрморт, написанный в школе, был оформлен и повешен в кабинете директора. Язык от мольберта я прятала в ее кабинете, в книжном шкафу. Однажды я влетела – она смотрит и ничего понять не может: «Что вы тут делаете?» Поздоровалась, бегу к шкафу, достаю свой язык – она мне ни слова не сказала. Когда мы начинали писать портрет, мой учитель, Михаил Семенович Перуцкий, всегда говорил: «Посмотрите, как у Лидочки!» Я потом не ходила в училище целый месяц, так мне было неудобно. Он меня обожал и всегда обо мне спрашивал, когда я пропадала. Фанаберии во мне никогда не было. Может быть, единственный раз, когда мне было лет девятнадцать и у меня было вдруг чувство, связанное с Рафаэлем, его эпохой. Но скоро взяла и поработила высшая сила, мы работали, думали, совсем не о пустяках. Жили после войны бедно, Перуцкий приходил с какой-то стеклянной баночкой, жена ему клала туда кашки, хлебушка. Это были люди другого времени, из 20-х годов, и отношения между профессором и учениками были другие, была замечательная внутренняя связь. Никто никого не подозревал, все было открыто. Художники были очень хорошие, настоящие. Особенно, я думаю, Перуцкий. В 48-м году была выставка на Кузнецком, где были его работы. Мне кажется, что он тогда уже не был членом МОСХа. Я никогда не забуду одну работу – очень красивый, импрессионистически написанный пейзаж Москвы-реки с трубами, из которых шел дым.
Как пришел импрессионизм? Вы застали Музей нового западного искусства?
Моисей Тевельевич Хазанов был человек образованный, талантливый, интеллигентный, замечательный педагог, но тоже был не в фаворе в МОСХе, хотя у него и была мастерская на Масловке. Развиться по-настоящему как художник он тоже не мог, все было закрыто. Он был не очень старый, тогда ему было лет сорок, Михаил Семенович был постарше. Мы больше были как друзья и сподвижники, потому что оба любили французскую живопись, а в то время крест на этом можно было поставить. Хазанов был приверженец школы импрессионистов. Очень щедрый человек, рассказывал замечательные вещи, когда мы вместе ходили на выставки. Мы были как сообщники и мыслили одинаково. Я с 15 лет любила импрессионистов до потери сознания, просто с ума сходила по Сислею и другим. Импрессионисты, постимпрессионисты, много что еще. Музей нового западного искусства был закрыт в 48-м году, на его месте теперь дирекция Академии художеств. Я была там только один раз по каким-то административным делам, видела стеклянные щукинские потолки, но картин уже не было, большинство было перенесено в Пушкинский музей, который играл большую роль – там была прекрасная коллекция барбизонцев, не только импрессионистов. Но я никогда никому не подражала и всегда была сама по себе.
Лида, а кто преподавал рисунок?
Был замечательный Владимир Акимович Рожков, который преподавал рисунок. Он был очень скромный. Потом рисунок преподавал у нас Соломон Бойм. Замечательный преподаватель, он вообще очень хорошо понимал рисунок. Владимир Акимыч был немножко деликатный. Он никогда не говорил что-то в упор. Как рисунок там немножко больше почеркушечка. А здесь уже по-другому, какие-то плоскости, я это помню хорошо. Были другие отношения, обстановка у нас там была домашняя, я ходила как к себе домой, это был мой второй дом. Такие люди окружали меня в то время и так меня любили. Другие педагоги скорее исполняли свои обязанности. Мы часто ходили в Парк культуры. Ездили в Останкино, в Донской монастырь. Коля Вечтомов в это время много пейзажей писал. Там было много интересных могил, памятников, туда я приходила как к себе домой, люди становились своими. Но мы не очень предавались этому, больше портрету, натюрморту.
Кумиром культурной Москвы в те годы был Фальк.
Фальк преподавал только в школе, в училище нет. Хазанов всегда приходил и смотрел, как я работаю, – всегда у окна вставал. И как-то вдруг, это было в самом начале, когда я пришла в училище, он спросил – Лида, а каких художников вы любите? А я и сказала – люблю Осмеркина, люблю Фалька, еще кого-то назвала из этой группы. Он так удивился, откуда девчонка восемнадцати лет их знает, – это что-то невероятное! Но одни интересуются чем-то, другие нет, я много чем интересовалась. И он со мной стал немного по-другому разговаривать. В те времена люди были осмотрительными. И однажды Хазанов повел меня к Фальку – был, наверное, год 46–47-й. Мы много говорили, он показывал много работ, все было прекрасно, и дом, и Фальк. Потом я раза два бывала у него, но не подружилась. Я так много открывала для себя сама в это время, что мне это и не нужно было. Замечательный до сих пор для меня художник. Но он камерный все же. Ему требуется какое-то особое отношение.
А кто были самыми яркими вашими соучениками?
Заводилой был Мишка Рогинский. Мишка был прелестный парень, еще мальчишка, умный, остроумный, талантливый – замечательные делал натюрморты, и по цвету, и по рисунку. Рогинский в школе учился, но мы были в разные часы, он приходил позже – и встретились уже в училище. Мишка был очень веселый парень, моложе меня на четыре года, и распевал все время: «Не нужен нам Борька Турецкий и Африка нам не нужна!» – к нему приставал Турецкий, не знаю, что ему нужно было. Есть такие виртуозы, как отец моего сына, не самая лучшая страница моей жизни – Володя Холин был невероятный виртуоз в училище, талант огромный, как Зверев, но вспыхнул на миг, на час и угас. В нем даже больше, чем у Зверева, было. Еще был Володя Аксенов, талантливый мальчик. Ленька Новичков, бывший матрос. Еще один Коля, забыла фамилию. Володя Немухин почти не ходил, был уже «маститый». Потом у него появилась какая-то фанаберия, что он уже очень знающий, умеющий живописец, а мы необразованные, и он из училища ушел. Он очень ошибался. А другие были среднего калибра. Коля Вечтомов, например, нам казался очень сомнительным. А у Рогинского было что-то фундаментальное, шедевральное. У него все было замечательно, а рисунок вообще был на большой высоте. Миша считался очень талантливым парнем. Прекрасные рисунки, маслом писал очень хорошо. А когда вырос, все исчезло. Был тонкий художник, а потом попал под влияние сумасшедшего, очень неприятного Турецкого и стал рисовать поп-арт.
А чем Турецкий притягивал Рогинского?
Вообще, он оказал очень плохое влияние на Рогинского, все эти американские влияния пошли от него. Мишка, наверное, сам никогда туда бы не заглянул. Вынужденная непонятная деятельность, а заложено в нем было очень многое. Поп-арт – американское изобретение, не так, может, и плохо, но при таком таланте рисовать керосинки, бутылки и всякую дрянь – не его дар, дающийся художнику. Когда человек специализируется на керосинках, у него не получится нарисовать хороший пейзаж. После училища мы вообще не общались, Турецкий захватил его со всеми потрохами – как делают люди душевнобольные. А когда кто-то из талантливых, как Миша, людей подпадает под такое влияние, он может потерять очень много. Турецкий был не просто больной человек, в нем не было доброго начала, все злое. Потом, он все время выставлял какие-то национальные проблемы. Он был вообще никто, а держался так, будто он герой. В новой Третьяковке была выставка Турецкого – страшные, ужасные вещи, конец его поисков – женское нижнее белье, трусы, чулки, бюстгальтеры, навешанные в пакетах.
А как появился Коля Вечтомов?
Коля появился уже в училище, в 46-м году. Коля Вечтомов был постарше года на четыре и считал себя бывалым. По сравнению с ним мы были щенки. Он был на фронте, горел в танке, бежал из немецкого плена, скрывался у родственников в Чехословакии. Коле крупно повезло – после Чехословакии он попал к какому-то генералу, который узнал его историю и не послал в тюрьму, а направил в часть. И из войны он вышел человеком без всякой компрометирующей биографии. Это было просто счастье от Бога. Тогда это было очень опасно, он мог получить 10 лет тюрьмы, он ведь как бы выбыл из армии и жил у дяди в Праге. У нас был знакомый, тоже художник, Филиппов, сын приятеля моего отца. Хороший мальчишка, постарше, 19 лет, его взяли в часть, он попал в плен и потом отсидел 10 лет. А Коле Господь помог избежать нашего плена. И Коля очень кичился, сознавая, что прошел такой путь. Но мы этого ничего не знали и не очень его любили. Я не очень поначалу с Колей дружила, а Володя и Коля сошлись сразу, несмотря на многие их в жизни недоразумения и передряги. Коля был закрытый и высокомерный. А мы – шпана́. Мы иногда доходили до хулиганства, бросались палитрами, невероятно! Помню, Мишка Рогинский и Коля поссорились: «Сопляк, куда ты лезешь!» – «А ты – дурак безмозглый длинноносый!» И подрались. Коля был маститый, а Мишка совсем мальчишка. Такой скандал устроили, знаменитый на все училище! Это был 46-й год. Коля в училище не показал себя, нам это казалось немножко примитивно. Но у него было уже свое прирожденное кредо, уже в этюдах и пейзажах он проявлялся как сюрреалист. Теперь, когда смотришь его работы, видишь это, у него была своя стезя. И вот что получилось: такой талантливый человек, как Рогинский, ничего не сделал, а Колина звезда взошла. И будет еще больше.
Как вы воспринимали официальное искусство?
В то время, во время расцвета советской действительности, все чего-то боялись, мы не боялись ничего. В то время МОСХ и соцреализм все поглотили. Когда сейчас смотрю какие-то вещи, я удивляюсь, кому интересно начинать картину с одного угла и кончать с другого, хотя искусства там в принципе никакого нет – сюжет, который надо начать и закончить. Вообще отношение мое к официальной живописи было самое отрицательное. Были, конечно, «Бубновый валет», Кончаловский, сильный художник, но были, как Михал Семеныч, оказавшиеся между небом и землей. С Кончаловским я была знакома очень шапочно, но мой отец был с ним знаком, они вместе охотились – и спали на сеновале. Потом начали подкапывать под наше училище. Я всегда работала мастихином, мне Перуцкий достал немецкий замечательный мастихин у какой-то вдовы художника, я так любила им работать. Вдруг Хазанов пропищал: «Лида, бросьте мастихин, бросьте мастихин!» Я ничего не могла понять, и вдруг появляется комиссия во главе с каким-то Щербаковым, которого я, конечно, не знала, и училище закрывают.
Началась ждановщина, борьба с формализмом!
Училище долго не трогали, а потом, в один прекрасный день, все кончилось, и нас разогнали. И надо было идти учиться в Московское областное художественное училище памяти 1905-го года. Это было скорее ремесленное училище, его оканчивал Плавинский. Но мне опять повезло – там преподавал Виктор Алексеевич Шестаков, известный в свое время художник, тоже отверженный. С третьего курса мы делали декорации, а до этого была живопись, рисунок, история искусств, общеобразовательные предметы для тех, у кого образования не было. Все люди были замечательные, уникальные. Таких уже не найдешь. Борис Николаевич, читавший историю искусств, тоже был из отринутых – интереснейший, обаятельнейший, прелестный человек. Нашим начальником был Сергей Алексеевич Лучишкин, довольно значительный художник – неопримитивист, его работы есть даже в Третьяковской галерее. Родоначальником неопримитивизма был Штеренберг, и у меня есть работа Михаила Кузнецова, который тоже принадлежал к этому течению. Мы Лучишкина встретили потом, когда работали на Сельскохозяйственной выставке, рисовали и делали плакаты. Так кончилось мое образование, потом начались разные поиски. Началась личная жизнь, на которую я никогда так и не разменялась.
Вашим мужем стал однокурсник, художник Владимир Холин.
Об отце Игоря мне говорить неприятно. Моя личная жизнь с Володей Холиным не сложилась, настоящего брака не было, но появился Игорь. Володя не был в нашей компании, с ним дружил Коля и очень его почитал, они познакомились в училище. Коля, думаю, сыграл здесь не очень хорошую роль, он Володьку науськивал на меня – мне было тогда 21 год, а я была совершенно невинная девчонка и понятия не имела, какие бывают общения с мужчинами. Я была замкнута, абсолютно одна, и никакие парни меня не интересовали до 21 года. Я была абсолютно наивная, ничего не понимала в человеческих отношениях. Другие люди были для меня неприкасаемые. Тут моя мама очень маху дала – но она думала, что все такой нравственности, как она, как было раньше, когда выходили замуж, все по ранжиру. Конечно, она была из другого общества. А тут получилось шутя, глупо, даже вспоминать это не могу. Мы никогда не жили вместе. Мне пришлось с ним заключить брак для своих родных, не для себя. Он был безответственный, не хотел работать, не хотел зарабатывать деньги, потому что он лихой казак, как и его отец, директор фабрики, очень нехороший парень. Я тогда не понимала, что к таким людям не надо близко даже подходить. А мать его была прелестной, гречанка, очень образованная женщина, Ольга Павловна, и этот человек ужасающий вогнал ее в гроб, она умерла от рака груди. Никогда о нем не вспоминаю и не хочу, потому что это была ужасная история в моей жизни.
Но талант был как Зверев, помню у Коли его сангины из зоопарка.
У Володи были феноменальные способности. И потрясающее понимание. Надо не только уметь рисовать, но понимать, что ты делаешь. Помню, в Пушкинском музее Игорь делал вавилонский обелиск, я ему все объясняла. Начинаю учить, они это все в себя вбирают, как Анука, моя внучка, в ней есть какой-то напор, откуда – в Володе не было силы. Был немножко авантюрный характер, любил выпить, а это бич для художника. И когда я вижу, что Игорь чем-то похож на Володьку, хотя внешне он похож, меня просто разрывает на части от обиды, как я могла это сделать? И вот теперь оказалось, что Игорь также получил такой огромный талант, как Володька, – и ни в какой мере не смог его реализовать. И ничего не взял, а сколько дано было. У него золотые руки, даже бриллиантовые, он может потрясающе реставрировать все что угодно, даже труднейший фарфор. У Игоря есть гениальные рисунки, я так не нарисую. Он очень талантливый человек, но не тот человек, который все время работает. Когда Махрова предложила ему выставку в Гонконге, в хорошей галерее, он отказался: «Я не меркантильный художник». Может быть, он правильно поступает, отказавшись от этой иллюзии, но у каждого по-своему. Сволочь, как Люда Смирнова говорила! Конечно, я много переживала за Игоря. Но когда Белый писал «Котика Летаева», он говорил, что все эти распри между отцом и матерью давали ему невероятный подъем чувства. Когда тишь да гладь, люди обычно вялые и летать не умеют.
Лида, а как сложилась ваша жизнь после училища?
У меня был один знакомый, приятель моей сестры, симпатичный парень, устроил меня в штаб ВВС, где начальником был сын Сталина, Василий. Мне пришлось написать какой-то праздничный плакат. Знакомый не был летчиком, был простым офицером – но я мало разбиралась между небом и землей. Я проработала там две недели, а потом меня «ушли». Но я, конечно, и сама бы ушла оттуда, это мне было чуждо. Моя сестра работала в «Британском Союзнике» – и ушла оттуда, потому что ее заставляли продать жену одного англичанина. Она сверху налетела на бобика, как звали тех, кто следил, и чуть не сбила его. И на следующий день подала заявление, сломала себе всю карьеру, но ушла, не стала закладывать. Конечно, англичанин так не будет поступать. Одно время я работала в музыкальной школе, писала объявления – чтобы не писать никаких плакатов – туда меня устроил художник, работавший до меня, потом в филармонии, составляла программы лекций и концертов. Это был клубный отдел филармонии, где давали работу музыкантам и певцам. Мне надо было, чтобы вокруг была музыка, я дружила с лекторами, но мы никогда не вели политических разговоров – мне это было неинтересно. В филармонии я всех приглашала на лекции и концерты, которые делала. Там много было хороших артистов. Там я могла много слушать музыку, всех известных музыкантов, бывших в России. Музыкантов я знала очень многих. Помню, пригласила Михайлова – знаменитый был бас. Он был великой октавой Елоховского собора. И он брал октавой ниже другого баса, а тогда были специалисты, хоровики. У меня на концерте он пел Сусанина и сказал: «Я ведь только к вам, так бы я ни к кому не поехал!» Я ко всем отношусь открыто, и вдруг такой человек, как Михайлов!
Как вы вернулись к живописи?
Для меня это был очень роковой момент. Тогда я сменила жизнь и пошла своей дорогой. Были трудности, связанные с рождением Игоря. Начался трудный период, совсем молодая была, но именно здесь я оставила все свои другие увлечения и занялась живописью. Правда, я уже раньше стала писать натюрморты. Однажды прихожу домой, вхожу в комнату и вижу: Володя Немухин, Коля Вечтомов, Саша Кузнецов из нашего училища. Молодцы, вспомнили обо мне и позвали с собой работать! В 54-м году Коля нашел халтуру в Царицыне, где теперь музей, а было какое-то военное ведомство, где мы делали физические карты, ставили города, раскрашивали. Володя с Колей были мастаки, а мне все это было тогда чуждо, я была в своей живописи. Рафинированные Володя с Колей дружили еще с училища. В детстве и юности Володя жил в Ермолаевском, Коля в Южинском, у них была небольшая комната, метров тринадцать, я на улице Горького, порой мы ходили в ресторан «Киев» обедать. В обеденное время с ним и Володей сидели, разговаривали, было приятно встречаться. Стоило все это очень недорого, брали борщ с пампушками, натертыми чесноком. Замечательный был ресторан, все было очень по-домашнему. Мы все время дружили.
Лида, как вы перешли от пейзажей и натюрмортов к абстракции?
В 56-м году, независимо от какой-либо выставки, я уже писать пейзажи не могла. В 57-м году я уже делала абстрактные вещи, свои квадраты, простые совсем по форме. Когда мы работали на ВДНХ, я пробовала писать гуашью какие-то красивые по цвету фигуры, розовые, фиолетовые, белые вещи, которые потом стали абстрактными. На следующий год я уже начала их мастерить. На выставке я уже начала делать что-то типа эскизов, сочетая гуашь с белилами, получались интересные сочетания, пятна, отсюда пошла абстракция. Мы ничего сугубо официального не делали – я рисовала какие-то плантации помидор, растения, украшения, много реставрировала, писала разные плакаты с растениями, быстро находила темперу. Там было много разных красок, гуашь, акварель, темпера, мне даже нравилась эта работа. Возникали какие-то цвета, розовые, фиолетовые, зеленые. Особенно нравилась мне гуашь на разбел, какие-то такие красивые тона, что-то собиралось для меня и во что-то вышло. Как-то сходилось, и думаю, у меня от этого пошло другое понимание формы. Не предмет, который я вижу и изображаю в натюрморте, портрет, что я писала раньше, а другое. Пришла новая форма извне, и я ее схватила. Так вышло, само собой, внутренне, объяснить это невозможно. Я жила искусством, любила величайших художников мира, и понимание, осознание того, что я делала, было внутри. Внутренняя жизнь отражается и в цвете и в форме. Цвет может быть серый или голубо-серый или зеленый – абстракция дает большую свободу в творчестве. Я не могла повторяться и делать одно и то же, мне нужно было углубляться в творчество: петь веселые песни, как птица, – прекрасно, но мне этого не хватало, я искала свою форму.
Немухин
Двум художникам, единомышленникам, соперникам непросто быть вместе. Как вы познакомились с Володей Немухиным? Как повлияли друг на друга?
С Володей Немухиным мы становились вместе, шли рядом плечом к плечу, а теперь совсем разошлись. Зная Володю с юности, я могу сказать, что такого юношу, как он, я больше никогда не встречала. Я человек открытый, Володя обо мне так никогда не скажет. В юности он был необыкновенным. Он горел искусством, был привержен ему невероятно. Немухин с юности знал гораздо больше меня, что касается живописи, он родился с такими знаниями, которые другие пять лет учат в институте, но знания сами по себе в одного входят, в другого не войдут никогда. Французов открыл мне Володя. Он знал импрессионистов, через него я их тоже узнала и влюбилась до потери сознания – замечательные художники! Ему было 17 лет, мне 15. Мы были очень молодые, но серьезные. Покупали книжки, составляли библиотеки, тогда у букинистов можно было купить потрясающие книжки, то, о чем теперь даже подумать нельзя. У него была целая библиотека книг по искусству. И люди, которые просвещали его, у него было много знакомых. Он учился у Петра Ефимовича Соколова, у него были замечательные картины, но времена заставляли художников их просто сжигать. Куда после смерти пошли оставшиеся картины, я не знаю.
История нашего знакомства простая, но интересная. Во время войны, когда мне не было и 15 лет, мы с сестрой устроились на завод, где работал мой отец и где его очень ценили. Я получила справку в Доме Союзов, что мне разрешают пойти работать, а вечером я ходила в школу рабочей молодежи. Мы проходили физику, чтобы стать контролерами приборов и получать рабочие карточки. А Немухин работал на этом заводе мастером – в 17 лет он уже имел звание мастера! Он ведь все умеет, на все руки мастер. Тогда совсем молодой, замечательный юноша, очень красивый и милый, лучшего юноши я не встречала. Он приходил к нам, дружил с моей сестрой, мы были близко знакомы, во время войны ведь совсем молодые были. Но у нас не было романа, Володя был женихом моей неродной двоюродной сестры. Володя к ним часто ходил, моя тетка его очень полюбила, всегда ему что-то дарила, на праздник подарила ему серый, очень красивый костюм, ведь он был очень бедный. У моей тетки не было детей, и она взяла из приюта рыженькую нерусскую девочку, совсем другую по личику и фигурке. Рыжие волосы, скорее каштановые, Надя была хорошенькая, высокая, стройная, тонкая кость, с красными пухлыми губками. Очень музыкальная, она не была способная, как мы, и не отличалась особенным умом или знаниями. Но была очень хитрая, могла обвести вокруг пальца запросто. Она была Володина первая любовь, а он ее, они были как жених и невеста. Но если бы они поженились, куда им было идти, спать на глазах у родителей, я бы так не смогла. Вышло все очень скверно. Сестру мою двоюродную он бросил в войну, обездолил, она никогда уже не вышла замуж.
У Володи молодость была очень трудная, тяжелая, мать всегда от него что-то прятала, даже во время войны. Если мне отец готов был покупать все ящиками, то у него ничего не было. Меня родители всегда опекали, как в детстве, отец краски мне покупал, мольберт мне сделал, этюдник мне заказал. Володя все добывал себе сам, и краски и подрамники. У Володи была небольшая комната на троих, его сестра умерла, дом совсем рядом с МОСХом, его потом снесли. Я даже не знаю, как они ухитрялись так жить. Напротив был особнячок, где жила Ирина Богданова, она его заманила, он изменил моей сестре, женился на Ирине, родилась дочь, все было ничего, потом разладилось, она полюбила другого, и Володя остался один, без руля и ветрил, мыкался и очень сильно пил. Ирина с ним разошлась, найдя другого мужчину. Все это было от семейства, куда он попал. Отец Ирины был профессор, врач, мать – гинеколог. У нее была квартира, у Нади с матерью только комната, правда довольно большая. Семья моей тетки была слишком простая для него, никаких профессоров там не было. Володю это не привлекало, его всегда тянуло к званиям. Совсем молодые мы виделись у тетки и снова встретились уже в училище, это был 46-й год, как только поступили и его приняли на скульптурное отделение, в один год со мной. Помню, Володька пришел, и у него было обручальное кольцо. Я пришла к ним, когда он только женился на Ирине, и у меня никакого чувства к нему не было. Я иногда приходила, мы обменивались книжками, были абсолютно товарищеские отношения.