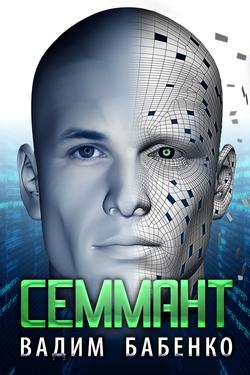Читать книгу Семмант - Вадим Бабенко - Страница 7
ОглавлениеГлава 4
К его созданию я шел издалека – плутая и сбиваясь, но не теряя ориентира. Попав из Пансиона в тихий Шеффилд, я быстро убедил администрацию в своей склонности к точным наукам. Меня перевели в Манчестер, в хорошее место с давними традициями. Там царило товарищество, не отравленное высокомерием Оксфорда или Кембриджа. Все было красиво, добротно и комфортно. Куда ни глянь, в ответ улыбались юноши и девушки из хороших семей. Это была идеальная университетская среда – но мне вдруг стало невыносимо скучно.
Потому меня все время выпихивало на периферию. Я сходился не с теми, с кем следовало, отдавая предпочтение андерграундно-маргинальному. Вместо шумных факультетских вечеринок я посещал сомнительные бары, где напивался, порой жестоко, с темными личностями из предместий. Иногда связывался с отпетой шпаной, ходил драться с фанатами футбольного клуба. Пару раз ночевал в полицейском участке. Курил траву – с гитаристами-рокерами и санитарами городского морга. Не то чтоб мне было интересно с ними – я лишь искал спасения от лубочной безысходности общепринятого. Я страшился ее – подсознательно – и бежал от нее со всех ног. Вместо воспитанных студенток из кампуса у меня заводились прыщавые неформалки. Одна из них наградила меня дурной болезнью. Это произвело впечатление – я потом долго обходил девиц стороной.
Бывал я и груб, бывал вспыльчив. Внутренняя нестабильность, проявившаяся после, уже тогда давала о себе знать. Как-то раз, в общежитии, я с криком набросился на консьержа – вызвав у того непритворный испуг. Потом, во время теннисного матча, затеял с соперником драку – прямо на корте, перепрыгнув через сетку. Случай получил огласку, меня исключили из команды факультета. Но до большего не доходило, я оставался на неплохом счету. Тем более что в учебе мне не было равных.
Довольно скоро я попал в поле зрения сразу нескольких кафедр. Одному из профессоров удалось меня завлечь – большой наукой, миром квантов, полей, частиц. Мне показалось, моя судьба предрешена, и я взялся за дело, проявив завидное трудолюбие. Теоретики составляли особую касту, круг их проблем был по-настоящему велик. Мой профессор любил повторять: «Мы бросаем вызов самому Богу!» Так оно и было, вопрос о высших силах решался в наших тетрадях. Свойства пространства определяли все ответы. Анизотропность или симметрия, случайность или замысел свыше… Такой взгляд на вещи дисциплинировал разум. Хоть, признаться, почти все из нас были чуть-чуть мистиками в душе.
Я влился в сообщество, проникся его духом. Физика микромира, фантастичная на первый взгляд, оказалась реалистичнейшим из учений. Точность ее предсказаний не имела себе равных. Многое в ней завораживало не на шутку, а особенно – высшая из свобод, существование во всех точках одновременно, пока не захлопнется ловушка детектора. И еще: любая попытка заглянуть внутрь неизбежно разрушала магию – в этом мне виделся глубочайший смысл. Виделась тайна, хранимая предельно строго: нельзя получить ответ, не «наследив», не выдав себя… Во мне проснулся азарт познания, а потом и азарт свершения. Я примеривался, вполне всерьез, к главной проблеме – к коллапсу волновой функции, к исчезновению всех и всяких свобод. Тут же вспоминались сутулый Брэдли и мой значок с веткой акации. Одно к одному, – говорил я себе. – Связь очевидна, я на верном пути.
А потом наступило время диплома и все изменилось – круто и навсегда. Мир квантов позабылся в один миг, уступив без борьбы абстракциям и сетям нейронов. Шустрый скаут, рекрутирующий таланты, сбил меня с «пути» за какие-то четверть часа. Ему перепал большой заказ, и я клюнул на его посулы одним из первых. О чем никогда потом не жалел.
Искусственный интеллект – это было ново. Меня тянуло к новизне, как и всех из Пансиона – некоторых даже слишком. Я чувствовал перспективу – и искусственный разум уверенно доминировал в ее центре.
С легкой руки скаута я попал в Базель, в известный концерн-гигант, занимавшийся всем на свете, кроме положенных ему таблеток и вакцин. Меня заполучил начальник-австриец, энергичный и жадный до успеха – я даже и не мог представить, что у австрийцев может быть столько амбиций. Он задумал смелую вещь – создать образцовое предприятие будущего, для чего следовало первым делом упразднить несколько отделов, выгнать бездельников, подменив их электронным мозгом, заставить компьютеры делать то же, но лучше – думать быстрее, не уставать и не требовать прибавок к зарплате. Называлось все это громко – инженерия знаний. Наивность затеи перекликалась в чем-то с наивностью мечты директора Пансиона. Потом, когда все кончилось, это стало ясно как день, но тогда еще никто не знал достаточно и австриец задурил голову боссам, выбрав беспроигрышный аргумент.
Нам дали карт-бланш, а вместе с ним – половину нового здания, неплохие деньги и всю технику, какую может пожелать душа. Нас было двенадцать – все молодые и полные желания перевернуть мир. Троих я помнил по Брайтону, и один из них, невысокий чернявый Энтони, скоро стал негласным лидером – к удивлению и даже ревности амбициозного австрийца. Это он придумал жесткие правила, внесшие порядок в начальный сумбур, это его методики были названы потом именами других – названы и забыты или даже запрещены как негуманные.
Прочие из Пансиона тоже выделялись изрядно. Нас объединяла общая страсть – что-то гнало вперед, не позволяя даже оглянуться. Мы увлекали с собой других, понукали их и торопили, не отвлекаясь на эмоции. Во главе стояли замысел и прогресс, да и к тому же, лишь только мне становилось кого-то жаль, я вспоминал брайтоновские волны или бродячий цирк и сердце под опилками, а еще почему-то потертый фрак Симона и его птичий профиль. Этого было достаточно, чтобы не иметь сантиментов – если вы понимаете, о чем я.
Те, кого потом предстояло уволить – без малого несколько тысяч человек – не были осведомлены о целях проекта. Из них отобрали «специалистов» – лучших из лучших, авторитетнейших, умнейших. Именно из их голов нам предстояло вытянуть все стоящее – а что потом случится с ними, нас не волновало ничуть. Мы доводили их и себя до крайнего утомления, выпытывая нужные сведения, собирая фрагменты в целое, сравнивая, систематизируя, связывая друг с другом. Приходилось хитрить, в дело шли и «метод неверия», и «метод множественных повторений», и даже «изнурительный допрос», при котором активная часть сознания немеет, а язык выбалтывает то, что лежит где-то глубже, дальше, охраняется строже…
Понятно, что это нравилось не всем, но поначалу никто не роптал в открытую. «Специалисты» боялись лишь, что наши усилия выявят в них пустоту и фальшь, как оно и получилось – скоро мы увидели, что пустоты зияют на каждом шагу. Порой их невежество потрясало. Казалось, они никогда как следует не учились ни одной из наук. Их «экспертиза» заключалась в выжимании соков из молодых и жадных, хватких, способных мыслить. Таких использовали, а потом задвигали подальше, чтобы не наплодить соперников. Некоторых, правда, задвинуть не удавалось, они ожесточенно пихались локтями. И, со временем, сами вырастали в «специалистов», теряя в процессе умение работать головой…
Наши надежды рушились одна за другой, свершение обращалось пустышкой. Расстроенные донельзя, мы пытались найти выход – и трудились еще интенсивней, покрикивая на отстающих. Всем пришлось несладко, раз за разом приходилось прибегать к «изнурительным допросам», чтобы преодолеть лень, косность, элементарный испуг. В результате испытуемые решили, что с них довольно. Объединившись, они организовали заговор, засыпали руководство жалобами и доносами. Получилась чуть ли не забастовка – в масштабе всего концерна. Скандал набрал силу, и лавочку прикрыли, выместив все на австрийце, а вовсе не на Энтони, который, кстати, переживал сильнее всех.
Совесть моя была спокойна, но первое сомнение поселилось червоточиной. Я узнал достаточно, чтобы разочароваться – в человеческом разуме, а заодно и в человеческой сути. Я увидел, как человек останавливается на полпути. Как жажда познания оказывается на поверку лишь стремлением пустить пыль в глаза. Чуть копни поглубже, и там – не продуманное тщательно, а разрозненное и отрывочное, наспех связанное кое-как, замазанное недосказанным, прикрытое пустословным. Каждый из «экспертов» больше всего стремился защитить свой дорогостоящий статус – как правило, присвоенный незаслуженно. Всех волновал жирный кусок, но не истина, не ее поиск. Миру было не до свершений, мир хотел лениться, потреблять, развлекаться. Само по себе это не было плохо. Плохо было то, что больше мир не желал ничего.
Я хотел, чтобы меня убедили в обратном – и был в смятении, мне требовались перемены. Вскоре подвернулось интересное место и я сменил без сожалений и область деятельности, и страну. Мне очень хотелось взять с собой Энтони, но тот отказался, а через год перемудрил с дозировкой какой-то дряни в чужом бунгало на острове Крит. Его список претензий к мирозданию как-то сразу оказался чересчур обширен.
Новое занятие – наисложнейшее, сулящее неожиданности – сразу пришлось мне по вкусу. Мистерия живых молекул захватила меня с головой, да и осень Парижа была в тот год мягка и романтична. Я подумал, что излечение – вот оно, рядом. Меня окружали увлеченные люди, мы вновь работали как проклятые и были счастливы, ибо были еще очень молоды. Я женился на французской художнице, полюбил Мане и Боннара, стейк тартар и красное бордо. И однако же сомнение точило, как червь. Все было нестойко – я чувствовал это кожей, помнил даже во сне.
Художница, светловолосая Натали, стала первой из женщин моей мечты. Она была в точности такой, о которой я грезил с юности. Она даже пахла знакомо – горьким осенним ветром, желтой листвой. Вот она, гармония, убеждал я себя, взмывая на седьмое небо – и она тоже не чаяла во мне души.
Работа была трудна, почти никто не отваживался тогда забираться в те же дебри. Я создавал новые миры – строил модели «кирпичиков», составляющих человеческое тело, образы клеток, их колоний, хрупких, но неслучайных групп. На экране моего монитора рождались странные гибриды – уродцы, призванные дать новую жизнь, клубки белковых цепей, обрывки переплетенных нитей, «буквы» и еще «буквы», складываемые по три, содержащие вечный код – код Вселенной, думали мы тогда и, быть может, были правы. Таинства живой материи раскрывались вплоть до элементарных актов, раскладывались по полочкам, выщелкивались кадр за кадром. Это было красиво – это было величественно, прекрасно! Музыка и поэзия были там – я воистину ощущал себя творцом.
Натали не понимала происходящего у меня в голове, но что-то чувствовала, и это ее пленило. Ночью она просыпалась вдруг, смотрела на меня и восклицала: – Как странно!.. Думая, что я сплю, водила пальцами по моему лицу и шептала чуть слышно: – Откуда в тебе столько, как ты это можешь?
От ее рук тянулись нити тонких энергий. Она вся светилась, как чуткий проводник, и я был счастлив недолгим счастьем. А затем, месяцев через шесть, ее интерес иссяк. Она устала и сделалась обычной – крикливой, склочной, ленивой душой. Я пришел в отчаяние и страдал так, как не страдал до того никогда. Потом я ее прогнал. И разуверился во всем.
Даже живые молекулы вдруг сделались мне противны. Я стал лениться, потом уволился, не доведя начатое до конца. Продолжать за мной было некому, мой труд пропал зря. Целый месяц я бездельничал, почти не выходя из дома. А потом вдруг опомнился, устыдился и решил начать заново – все, все, все.
Это получилось – куда успешней, чем можно было ждать. Страсть к свершению оформилась и окрепла – четыре коротких года я с удвоенной прытью следовал ее воле, оттачивая процедуру, метод. Я скитался от лаборатории к лаборатории, нигде не задерживаясь надолго, тщательно выбирал проекты, не прельщаясь ни престижем, ни деньгами. Хватался за самое сложное, аморфное, рыхлое и – загонял в формальные рамки, учитывал неучитываемое, программировал то, что запрограммировать никто не брался. Работал бок о бок с медиками и химиками, климатологами и фармацевтами, астрономами, лингвистами, капитанами кораблей… Всем им нужно сказать спасибо, они расширили мой кругозор. Я познал подоплеку самых разных вещей, никакие учебники не помогли бы мне в этом. Множество составных частей находили свое место, как в гигантской головоломке. Что-то похожее на целостную картину обещало вот-вот появиться на свет. Это была иллюзия, картины не существовало – в тех приближениях, в которых я работал. Но моя хватка становилась все цепче.
Пансион приучил меня не бояться сложного, настырно лезть в самую глубь. Я бросался на штурм проблем, для которых не существовало решений, презирал упрощения, уходил в сторону от «правильных» линеаризованных систем. Порой коллеги шептались за спиной, полагая, что я зря теряю время. Им рассказали в никчемных школах, что из правильных систем состоит мир. Их научили никчемные учителя, что неустойчивое, не поддающееся аналитике – это экзотика, которой можно пренебречь. Но я-то видел: все вовсе не так. Реальный мир описывается нелинейностями, он шероховат, неровен, нерегулярен. Малейшие различия в начальных данных часто приводят к непредсказуемой «раскачке». И на это нельзя закрывать глаза.
Я узнал связь между аритмией сердца и странной музыкой высоковольтных сетей, понял принципиальную непредсказуемость циклонов, причины внезапного бешенства телефонных линий. Оказалось, не каждую вещь можно разобрать и потом собрать заново – как бы кто ни старался. Я увидел, как простая алгебра, над которой посмеялся бы аспирант-середняк, вдруг порождает хаотических монстров неисчислимо сложного нрава. Само действие, будучи совершено, часто меняло правила игры, по которым ему положено совершаться. Последствия не мог предугадать ни один самый мощный компьютер. Это был настоящий вызов – вызов хаоса космического масштаба. Он смутил меня, но не остановил. Насторожил, но не выбил почву из-под ног. Я все еще верил во всесилие разума, лишь досадуя на несовершенство реалий.
Понемногу я привыкал к роли создателя – проводя аналогии, смелее которых нет. Как там было в квантовом микромире, столь беспечно покинутом мною? В теориях, проливших свет на невиданно тонкую калибровку?.. В разнообразии взаимодействий, в их хрупком балансе кто-то подогнал мировые константы так, чтобы разуму было из чего родиться. Теперь я расценивал это как урок. Всегда, всегда все зависит от горстки основополагающих величин – и я научился выделять их из беспорядка. Подбирал их значения – бережно, терпеливо, чувствуя, как базис искусственной мысли обретает гармонию, готовясь обрасти плотью. Следом, как ток в кончиках пальцев, приходила уверенность: есть, попал! В этих параметрах мой новый мир обречен на развитие, не на гибель. И я растил его, усложнял, перекраивал, делал непротиворечивым…
Потом механика квантов вновь напомнила о себе – когда я почувствовал, что суть кроется еще глубже. Пришлось обложиться книгами, изучить биофизику мозга, узнать строение нейронных мембран и механизм работы синапсов. Тут-то меня озарило – то есть я открыл, как случаются озарения. Как случается понимание, происходит творческий акт. Нелинейное, невычислимое нашло свое место – в квантовой «запутанности», в связанности состояний. Сотни тысяч нейронов «ощущали» друг друга, образуя будто одну семью – пусть на кратчайшую миллисекунду. Я представил это воочию – и, противореча классикам, предположил, что это и впрямь возможно в живых клетках. Нейронный слой моих моделей кишел мириадами сочетаний, безмерным множеством вариаций, пляшущих бешеный танец. Он все убыстрялся, и когда-то наступала развязка – волны коллапсировали, частицы размыкали объятия. «Семья нейронов» производила мысль!
Я понял: в квантовом коллективизме таятся особенности сознания, не подвластные алгоритмам – интуиция и прозрение, свобода воли и здравый смысл. Оставалось додуматься, как же именно происходит фиксация, что ответственно за мгновенный выбор. Коллапс альтернатив я больше не считал проблемой, он был неизбежен – по крайней мере, в моих схемах – и вскоре мне стал ясен самый естественный его источник. Что, как не само пространство – своей геометрией, кривизной – определяет, когда и как упорядочить возникший хаос. Свойство мироздания – защищать себя от дисгармоний, от локальных неправильностей структуры. И когда хаоса становится слишком много, оно будто говорит – хватит! Молекулы мозговых клеток сдвигаются на микроны, утверждая: вот так – верно. И – да! – рождается мысль.
Так я сформулировал сам принцип, осталось вычислить определяющие коэффициенты. Волнуясь, зная свою вину, я позвонил глубокой ночью тому самому профессору из Манчестера, что когда-то первым в меня поверил. Профессор не обиделся – ни на поздний звонок, ни на мое былое ренегатство. Идею «метрической» регуляции мысли он воспринял с неожиданным жаром, подсказал полезные вещи – про изменение кривизны пространства при микроскопическом смещении масс. Концепция гармонии, оберегаемой самой Вселенной, явно пришлась ему по вкусу. Я понял – он стареет и боится смерти. Как бы то ни было, его расчеты очень помогли. Через месяц у меня была готова полная математическая модель. Я видел: это прорыв – за горизонт, за предел обычного. Искусственный интеллект стал связан с устройством мира!
И тут случилась очень глупая вещь, я ввязался в несвойственное мне дело. По забавному стечению обстоятельств, обо мне прослышали в высших научных сферах. Прослышали и позвали – на симпозиум, собравший всех корифеев. Это был шаг к признанию – в тех кругах, куда я никогда не рвался. Я не верил в них, и вполне справедливо. Но вот – отчего-то, я расценил приглашение как хороший знак. Мне не нужна была слава, но я решил, что именно там сделанное мною обретет жизнь.
Помню, с какой тщательностью я готовился, делал слайды. Это был новый опыт, выступать на таком уровне мне еще не приходилось. Я предвкушал дискуссии, споры, схватку мнений, интеллектуальный штурм. Но вышло иначе – меня просто отвергли. Нанесли мне удар, едва не ставший роковым.
Стояло лето, небывало жаркое для Европы. Мегаполис, где проходило событие, задыхался от страшного зноя. Задыхался от дыма – горели леса вокруг, тлели торфяники, смог был вязок и плотен. Но меня не пугали – ни жара, ни грязный воздух.
Прямо из аэропорта я примчался в зал заседаний – мой доклад был одним из первых. Помню свое нетерпение, потом легкую дрожь – когда председатель объявил мое имя. Я стал рассказывать, все с самого начала, про синопсы и нейроны, про семью «запутанных» квантов – и вскоре с удивлением услышал в зале недовольный гул. Мне показалось, мои слайды недостаточно подробны. Я стал рисовать на доске суперпозиции квазичастиц, векторы их состояний, направления квазиспинов. Гул перешел во враждебное молчание, в тишину перед грозой или взрывом. Когда я выписал уравнение Шредингера – чисто для пояснения концепции – на меня стали смотреть так, будто я издал неприличный звук. А уж когда я заговорил о мнимых числах и даже начертил схему Арно, корифеи не выдержали и сорвались с цепи. И набросились – всей стаей – распознав во мне нешуточную опасность.
Сплоченный коллектив законодателей мод удивительно походил на «специалистов» из Базеля. Наверное, подумал я тогда, они будут мстить мне вечно – за десятки «изнурительных допросов». Хотя, конечно, меня атаковали не из мести. От меня защищали – свою территорию, ее богатства. Гранты, статус, интерес публики, щедрую благосклонность аспиранток – от пришельца, от чужака. Давая понять: им и так мало, они ни с кем не собираются делиться.
Так бывает в любой науке, где результаты не доказуемы математикой. Корифеи стоят насмерть, рвут когтями и грызут зубами. Если бы я пришел с чем-то блеклым, с чем-то обычным и не претендующим на многое, меня бы встретили по-отечески радушно. Быть может пожурили бы, а может и приголубили мимоходом, разрешили бы приткнуться где-то с краю. Но я метил в самую сердцевину – придя из ниоткуда, не известный никому. Вся ярость власть имущих обрушилась на меня, сконцентрированная в разящий луч. Дискуссии не было, мне не давали вставить слово. Меня громили изощреннейшей демагогией, подтасовывая, называя черное белым. А потом изгнали – просто отключив микрофон. Следующий докладчик уже мялся у проектора. Мое время вышло, регламент неумолим!
После я брел к стоянке такси сквозь пелену ядовитого дыма – в городе, который и без того увяз по горло в своих отбросах. Мне казалось, произошло ужасное. Я раздавлен, унижен – и не только я. Сделанное мною подверглось осмеянию. Мне доказали, что мир не нуждается во мне – ничуть!
Впервые я ощутил полнейшую безнадежность. Познал отчаяние, к которому оказался не готов. Раскаленное солнце стояло почти в зените, размытое маревом, но не знающее пощады. Я понял тогда: вот так, наверное, выглядит космический катаклизм. Мы будто падаем на свою звезду, сойдя с орбиты, не справившись с притяжением. Или она, вопреки расчетам, прямо сейчас решила полыхнуть предсмертной вспышкой водородного термояда. Так или иначе, времени больше нет. Его и всегда-то было – сущие крохи. Все усилия, все потуги напрасны и нужны не будут – никогда, никому.
И я почувствовал, что вселенский хаос – это не абстракция и не шутка. Он настойчиво, беспардонно вмешался в мою жизнь. Я видел его во всем – в непреодолимой косности, в жаре, удушающей все живое, и даже, после, в потоках воздуха под крыльями лайнера, несущего меня прочь. Я представлял, что вот-вот, сейчас, внезапная турбулентность ввергнет нас в штопор. Сидел и каждую секунду ждал катастрофы…
Лишь через час после взлета я попытался привести себя в чувство. Попробовал успокоиться и разложить все по полочкам. И даже сформулировал для себя то, что сказал недавно доктору в клинике для психов.
«Никаких обид – им не повезло, ты все равно счастливей их всех!»
«Ты знаешь свою силу, что тебе еще нужно?»
«Нельзя таить зло на бездарных, слабых. Нельзя ненавидеть их и презирать!..»
Тот день изменил многое – и во мне, и в моей жизни. Я убедил себя не злобствовать, и это была ошибка. Моему куражу стало не на что опереться. Ощущение безнадежности поселилось в сознании, обживалось, отвоевывало пространство. Даже страсть к свершению поутихла на его фоне.
С горечью вспоминалась белокурая Натали – почему-то чаще, чем остальное. Я пытался найти ей замену, знакомился с женщинами, но бросал их сразу, с некоторыми не успевая даже переспать. Где бы я теперь ни работал, все кончалось скандалом. Меня брали с охотой, ждали от меня панацеи, и я начинал как всегда резво. Но вскоре предмет набивал оскомину, а коллеги становились противны. Я устраивал сцены, шел на прямой конфликт. Несколько раз, как во Франции, пришлось уйти, не получив результата. Что-то надломилось во мне, я сделался нетерпим и груб. Приятели отшатывались один за другим, и начальники больше не знали, как со мной ладить. Я устремился по спирали вниз – и спираль сужалась, и не за что было уцепиться. Разрушительный импульс, не сдерживаемый ничем, зрел внутри и рвался наружу – мне в нем виделась глубина, мощь мутной волны.
Хотелось ссориться со всем миром, крушить все на своем пути. Я много пил и ввязывался в пьяные стычки, мог легко оскорбить любого без всякой на то причины. Обо мне поползли плохие слухи, и многое было правдой. Меня перестали приглашать в проекты, на собеседования, вообще куда бы то ни было. Дошло до того, что я с трудом зарабатывал себе на жизнь, пробавляясь частными уроками – для сыновей арабских шейхов и отпрысков нуворишей из России. Именно русские подтолкнули меня к самому краю – и оставили там, на краю, балансирующего едва-едва.
Это были двойняшки, совсем еще девчонки, откуда-то из Восточной Сибири. Они не хотели учиться, но обожали джин-тоник и развязную любовь втроем. Мы проводили страстные часы в моей парижской квартире – и меня сводили с ума их одинаковые розовые попки и точеные ножки. Я забывал с ними обо всем – это было милосердно, даже вихрь разрушения будто терял власть и силу. Мне хотелось лишь, чтобы это время длилось и длилось, не кончаясь – потому что за ним, я чувствовал, ждет что-то страшное, с чем уже не смириться.
Я жил тогда в аттике на рю Бушери, и химеры Нотр-Дама поглядывали на нас сквозь неплотные занавески. Дни неслись в каком-то угаре, мы виделись каждый день и становились все ненасытней. Двойняшки сделались для меня одним целым, неотделимые друг от друга. Они клялись мне в любви, и я отвечал им тем же. Отвечал и тоже хотел стать – неотделимым, неразлучимым…
А потом я почему-то оказался с ними в Марселе. Там они бросили меня, связавшись с греческими моряками, и уплыли куда-то, не сказав никому ни слова. Мне звонил их родитель и грозил страшной карой, хоть я был вовсе ни при чем. Химеры высовывали свои рожи уже из-за каждого угла, и отчаяние душило ватным комом. Казалось, вселенная рушится – вихрь и импульс взяли вверх. Затем, в порту, меня ограбили какие-то проходимцы, пырнув к тому же ножом – по счастью, вполне безобидно. Мироздание будто не принимало меня и больше не хотело со мной знаться. Я вновь увидел, что хаос везде; и я понял: хаос – это смерть. Может, понял не до конца, но всерьез задумался об этом.
Мелькнула мысль о том, чтобы расстаться с жизнью, и я обмусоливал ее несколько часов, лежа на продавленном диване в номере, за который мне нечем было платить. Однако я ошибался, мироздание имело на меня еще много видов. Поздней ночью раздался звонок и я услышал голос Люко Манчини. Мой путь к роботу по имени Семмант сократился на тысячу миль.