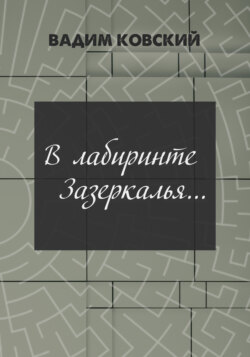Читать книгу В лабиринтах Зазеркалья… - Вадим Ковский - Страница 4
1.
Через утопию – к террору
Идеалистические прорехи Маркса
ОглавлениеИзучение идеологии большевизма в качестве органической части новой, советской культуры максимально приближено к изучению собственно советской истории, ибо речь идет о совокупности идей, определивших, независимо от нашего к ним отношения, весь ход исторического процесса в России ХХ века. Идей, пусть и страшной ценой, но практически реализованных, воплощенных в действительность. Вне идеологии большевизма история общественной жизни, общественного сознания, русской культуры ХХ века лишается какого–либо стержня и объяснения.
Думские коммунисты выступали однажды, как я слышал, с любопытной законодательной инициативой – ввести изучение идеологии в школьную программу. Это свидетельствует о новой актуальности, которую набирает тема (в Москве, оказывается, существует даже «Центр исследований идеологических процессов»). Правда, говоря о необходимости изучать идеологию, коммунисты всегда готовы посмотреть в «зеркало» советской истории не впрямую, а как‑то «сбоку». Поэтому в поле их зрения, в первую очередь, попадает не собственный вдохновенный портрет, а фашизм как идеология наиболее вредоносная и радикальная. Кто спорит, врага надо знать в лицо, и с этой точки зрения изучать философские, социальные, психологические основания фашистской идеологии действительно полезно. И, конечно же, коммунизм отличается от фашизма, в первую очередь, отсутствием расовой теории. Но не пора ли по некоторым признакам и «на себя оборотиться?»
Согласно фундаментальному онтологическому постулату материализма Маркса и Энгельса сознание по отношению к бытию имеет лишь вторичный, следственный, а не причинный, характер. Изменение мира как чисто практическая деятельность в задачу философов не входит. Однако, с другой стороны, учение марксизма фактически начинается с «одиннадцатого тезиса о Фейербахе»: если раньше философы объясняли мир, то теперь их дело – изменить его. И успешная деятельность идеологов и политиков в этом направлении убеждает нас, что в процессе изменения мира главенствующую роль играет как раз не бытие, а сознание.
Когда юношеское увлечение философией Гегеля еще не было вытравлено в Марксе идеологией и политэкономией, да и много позже, особенно в третьей части «Экономическо–философских рукописей 1844 года», посвященной анализу коммунистических преобразований общества, Маркс увлеченно пишет о «богатом и всестороннем, глубоком во всех его чувствах и восприятиях» человеке, «нуждающемся во всей полноте человеческих проявлений жизни», и резко полемизирует с «грубым и непродуманным коммунизмом», прилагающим к человеку некую материальную, «ограниченную меру», сводящую богатство человеческого мира к «неестественной простоте» и духовной «грубости».
Это уверенно прочерченная Марксом, еще не перевернувшим, согласно ленинским утверждениям, Гегеля «с головы на ноги», связь частной собственности со всесторонним культурным развитием индивида, обвинение «непродуманного коммунизма» в «зависти и жажде нивелирования» оказались, видимо, столь чуждыми большевистской идеологической доктрине, что «Экономическо–философские рукописи» были частично опубликованы в СССР лишь в 1927 г., а полностью – в 1956‑м (и это при том, что Маркса начали переводить на русский язык с конца 60‑х гг. прошлого века!).
Избавившись от всех идеалистических увлечений, Маркс, однако, в идеологии до конца сохранил свой «человекоцентризм» и несколькими десятилетиями спустя высмеял нечаевский «Катехизис революционера», по существу, с тех же самых, исполненных юношеского восхищения богатством человеческой индивидуальности, позиций: «Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма! Всё тут есть: общие столовые и общие спальни, оценщики и конторы, регламентирующие воспитание, производство, потребление, словом, всю общественную деятельность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безымянный и никому неизвестный «наш комитет».
Любопытно, что «Манифест Коммунистической партии» уже обличал «немецкий, или «истинный» социализм» как раз за то, «что он отстаивает… вместо интересов пролетариата – интересы человеческой сущности, интересы человека вообще». Философской метафизике, полной идеалистических прорех, марксизм то и дело противопоставлял самым резким образом выраженную классовую точку зрения: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».
Широко известно учение основоположников о двух фазах исторического движения общества к никому не ведомому «коммунизму» – «низшей» и «высшей». Между ними должен был лежать некий «переходный» период. Характеристика «высшей» фазы выглядит как чистая утопия. Перечитайте «Манифест»: «Когда исчезнут классовые различия», на смену «классам и классовым противоположностям придет ассоциация, в которой свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех». В предисловии к «Критике Готской программы» (1875) Маркс как бы возвращается к «Экономическо–философским рукописям»: там, впереди, в свободной бесклассовой ассоциации, труд станет творческой потребностью людей, исчезнут различия между трудом физическим и умственным, городом и деревней; там «все источники общественного богатства польются полным потоком», воздавая каждому «по потребностям»…
«Высшая фаза» с этой точки зрения, пользуясь выражением Мандельштама, не тянет даже на «полразговорца» – пусть себе когда–то и «польются». Наиболее острым и содержательным объектом анализа и полемики между марксизмом и ленинизмом оказались как раз контуры намеченного Марксом и Энгельсом «переходного периода», лежащего между двумя этими фазами. Честно говоря, об этом «переходном периоде» основоположники имели весьма слабое представление: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе». Несмотря на эпитет «революционного», тут же следует существенная оговорка: социальная революция не может быть «изобретена», произведена, форсирована до тех пор, пока для нее не созрели все общественно–экономические предпосылки.
В предисловии к «Критике политической экономии», являющейся первоначальным вариантом «Капитала», Маркс формулирует эту закономерность следующим образом: «эпоха социальной революции «наступает лишь с изменением экономической основы», «более или менее быстро», когда «на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями… внутри которых они развивались».
В этом классическом определении обращают внимание следующие моменты. Закон имеет всеобщий характер – он не «подогнан» именно под пролетарскую революцию. По его схеме рушится рабовладение, феодализм сменяется капитализмом, должно прийти к финалу и буржуазное общество. С «естественно–научной точностью», как полагает марксизм, фиксируется лишь общая материально–экономическая подпочва революции, а не те «юридические, политические, религиозные, художественные или философские, короче – идеологические формы, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение».
Футурология и прогностика марксизма строилась на идеях постепенности, эволюционности исторического процесса. Отсюда все эти неопределенности: «на известной ступени», «более или менее быстро» и т. п. Сначала «пролетариат вовлекается в политическое движение», причем в большой степени – с помощью самой буржуазии, которой он нужен в роли союзника, когда разворачивается борьба с наиболее экономически и политически консервативной частью общества. При этом в результате развития способа производства «пролетариат не только возрастает численно»: «он скопляется в большие массы», вбирая в себя даже вытолкнутые из «прогрессирующей промышленности» «целые слои господствующего класса». Получается, я бы сказал, нечто невообразимое – революция совершается пролетариатом вместе с буржуазией! Но опять‑таки обращает внимание подспудная мысль, что революция, составляющая главное содержание переходного периода, ничего общего с революционным насилием и строительством баррикад не имеет.
Коммунистическое будущее, утверждает марксизм, предстоит лишь высокоразвитым буржуазным странам, и надежды авторов «Манифеста» в конечном счете связаны не с ужасами и уродствами капитализма, а его неслыханными экономическими и техническими достижениями: современное буржуазное общество, – пишут они, – обладает «слишком большой цивилизацией, имеет слишком много жизненных средств, располагает слишком большой промышленностью и торговлей»; оно «походит на волшебника» и «менее чем за сто лет своего классового господства создало более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые». Таким образом, пролетарская революция становится следствием не разрушительного, а созидательного процесса, формой достижения новых соответствий, баланса, гармонизации в общественно-экономическом строе.
При этом к буржуазии Маркс и Энгельс, как ни парадоксально, испытывали стойкое отвращение (в своём «якобинстве» они презрительно именуют её «трусливой»), отвращение, разумеется, чисто идеологическое, классовое, а не личное, человеческое. Ещё бы! Энгельс был сыном крупного фабриканта и сам фабрикантом, а Маркс, происходивший из зажиточной адвокатской семьи и женатый на сестре прусского министра внутренних дел, благополучно процветал бы после защиты диссертации о философии Эпикура на профессорской ниве, не приведи его революционные идеи к необходимости стать на довольствие у богатого Энгельса.
Столь же стойкую неприязнь испытывали основоположники и к крестьянской массе, полагая, что пролетарской революции от нее будет мало толку. В конце концов, ведь приписываемая Ленину формула относительно «идиотизма деревенской жизни» принадлежит не вождю мирового пролетариата – она взята из «Анти–Дюринга». Есть у основоположников и формулы похлеще: «тысячелетия отупения» крестьянства… Но на этом небольшом плацдарме конкретных симпатий и антипатий сходство ленинизма с марксизмом, пожалуй, заканчивается…