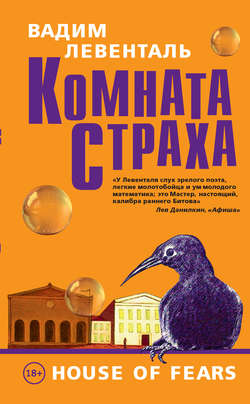Читать книгу Комната страха (сборник) - Вадим Левенталь - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Комната страха
Carmen Flandriae
ОглавлениеА. Г.
Даже отсюда я слышу часы на ратуше, эти страшные часы. Говорят, часовщик-итальянец повесился на них, когда узнал, что ему не заплатят за работу. Веревка была сырая и плохо затянулась, он долго дергался, извивался, пока не обессилел, и кованая стрелка стала после этого кривая, как змея, и вместо мелодичного перезвона каждый час с башни несется страшный клекот, как будто это не часы бьют, а кричат с крыши каменные горгульи. Как же ему нужны были деньги!
Я видел эти часы прямо из окна лавки, каждый день. И тогда тоже, когда она пришла в первый раз. В ее черных как смола волосах, показалось мне, мелькало что-то зеленое, но я тогда не придал этому значения. Как она зашла в лавку, я не видел: хозяин отправил меня принести отрез самита, показать покупателю, жирному, как он сам, Самсону-ростовщику. Я принес, развернул – и тут увидел ее. Хозяин был так увлечен евреем, прямо облизывал его, что, конечно, ее не заметил. Она стояла у самого входа, против света, и смотрела на сложенный там красный атлас. Издалека она взглянула на меня и тут же отвела взгляд. Сперва я подумал, что это воровка, из цыган, но сразу понял, что нет, ничего цыганского в ней не было – стоило подойти поближе, это становилось ясно. Просто девушка из бедной семьи, пришла полюбоваться, такие иногда заходят. Я шепнул ей, чтоб приходила после шестого боя часов, когда хозяин уйдет в кабак. Она как будто не слышала. Тогда я добавил, что подарю ей ленту. Она повернула ко мне голову, и я впервые увидел ее глаза.
Клянусь, я и не думал в тот момент ни о чем таком. Я у хозяина пятый год, его-то собственный сын давно уж по слабости ума в монастыре, а меня мать отдала совсем мальчишкой, когда отец погиб в Тунисе вместе с сиром королем Людовиком, по крайней мере, так она мне сказала, – я к тому, что за пять-то лет я научился так подгибать и отрезать, чтобы немножко оставалось. Девчонки разные бывают, многие за ленту в волосы на всё готовы. Последние полгода ко мне чуть не каждую неделю ходила Грета, девица из пекарни, белобрысая, вся в веснушках. Хозяин однажды застал меня с ней, я ему соврал, что дал ей пятнадцать су, которые он подарил мне на Рождество, так что он не ругал меня. Сказал только, что противная. Но она не противная. С третьего раза мне даже стало казаться, что она красивая такая, с веснушками. Я всегда, каждую неделю отрезал ей на полпальца то муслина, то сендала, то еще чего.
Но в этот раз даже в мыслях ничего подобного у меня не было. Мне просто хотелось, чтобы она еще пришла – разглядеть ее получше. Она была страшно худая, и волосы у нее были черные. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что она младше меня. Но когда она на меня смотрела, мне казалось, что она намного старше. Она и первый раз посмотрела на меня так, будто не поняла, что я сказал, – протяжно, как будто прямо в сердце, у меня мурашки по спине побежали, и в этот момент как раз закаркали часы на ратуше. А хозяин уже обдурил еврея, я это слышал, ясно было, что вот-вот он позовет меня.
– Уходи сейчас, а то хозяин прогонит, – прошептал я ей еще раз. – Потом приходи, когда его не будет.
Тогда она ушла.
Весь день я про нее думал, всё было как в молоке. Затянул самит, отрезая, и хозяин больно ударил меня по спине, но я не расстроился особо – только считал часы. В конце концов он ушел, как всегда, в пивную, со своей обычной присказкой, что, мол, кровь Его нам пить не по карману, а мочу Его – в самый раз, я, как надо, расхохотался, чтоб его не обижать, и когда дверь за ним скрипнула, мое сердце тут же заколотилось в горле. Но она не пришла.
Часы пробили еще три раза, но она так и не пришла. Я, как обычно делал, сложил товар и закрыл лавку. Немного постоял у входа, а потом пошел на кухню, все-таки мне хотелось есть. В тот раз я не придал ее появлению никакого особенного значения. Лавка моего хозяина – одна из лучших в городе, место людное, народу каждый день бывает много разного – крикливые, пышно одетые итальянцы, толстые остерлинги, угрюмые славяне, турки с маслеными улыбками, это не считая всякого сброда, за которым глаз да глаз, и честных бедняков, которые годами копят на приданое дочкам и покупают, стесняясь, самое дешевое грубошерстное сукно. Ее я ни разу до того не видел, но мало ли кого я не видел. Думаю, если бы она больше не пришла, ничего страшного не случилось бы. Правда, в тот день я отправился бродить по городу, вместо того чтобы как обычно пойти играть в мяч с ребятами с площади или свернуться под лестницей и заснуть. Мне было не по себе, как бывает, когда пытаешься вспомнить какую-нибудь песню, которую давным-давно слышал и забыл. Повторяешь раз за разом две строчки, а дальше – не получается. Было темно, но я дошел до Собора, обошел его кругом и только тогда вернулся обратно. Сейчас может показаться удивительным, что меня потянуло именно к Собору, но честно говоря – а где у нас еще гулять? По реке вечером не походишь – опасно.
Она не приходила четыре дня. А на пятый день вечером пришла. Стоило хозяину уйти, она скользнула внутрь, как будто там, снаружи, только и дожидалась его. Это было так неожиданно, что я не знал, что мне делать. Она встала посреди лавки и смотрела как будто куда-то в сторону. Я подошел к ней, думая, что удастся рассмотреть ее, но она прятала лицо. Одета она была в старенькое, штопаное льняное платье. Тогда я стал делать то, что было мне привычнее всего.
– Смотри, – сказал я ей, – это флорентийское сукно. Говорят, чтобы получить этот красно-синий цвет, лишайник, растущий в корнях сосен, вымачивают в моче девственниц, а собирают его только в ясную лунную ночь – старухи, потому что иначе цвет получится грязным. А это византийский муслин, посмотри какой тонкий. Его выделывают в императорских мастерских, а работу принимает сама императрица, и если десять локтей получившейся ткани не удается протянуть через игольное ушко, то нерадивую работницу бросают на съедение львам. А вот экарлат из Бургундии. Краситель для него добывают из жуков, живущих на горе Арарат, но годятся только оплодотворенные самки. Самцы кошениля появляются на свет без рта, потому что им предстоит прожить один-единственный день, чтобы впрыснуть в самку свою кровь вместо семени, и кровь эта так густа, что пропитывает всё тело самки, так что когда их щетками соскребают с листьев, пурпуром окрашивается вся земля под деревьями, а тот, кто хоть раз собирал кошениль, никогда не сможет отмыть рук.
Кажется, она слушала меня, но точно не знаю. Я даже подумал, уж не немая ли она, или, всякое бывает, может, просто дурочка. Но немой она точно не была. Потому что когда я развернул перед ней экарлат, она погладила его рукой и спросила:
– Это очень дорого, да?
Я усмехнулся. Еще бы не дорого.
– Я могу подарить тебе ленту из него, – сказал я.
– Нет. – Она покачала головой. – Мне не нужна лента.
Опять что-то промелькнуло в ее волосах, как будто одна из прядей у нее была зеленая, но это мне, конечно, показалось.
– Почему? Ты вплетешь ее в волосы, и на танцах в воскресенье на тебя будут смотреть все юноши, ты сможешь выбирать между ними. Может быть, одному из них ты так понравишься, что он захочет взять тебя в жёны. Не какой-нибудь там крестьянин, а красавец из хорошей семьи. – Я еще продолжал расписывать ей этого парня, как будто бы это был я сам, но она смотрела в сторону, а потом подняла глаза на меня, и мне пришлось замолчать.
Это был странный взгляд, можно было подумать, что она слушала совсем не то, что я говорил, а что-то другое. В этот момент звякнул колокольчик: кто-то вошел в лавку. Она быстро вышла, и я так и не успел рассмотреть ее хорошенько. Вместо этого я стал разворачивать отрезы перед сварливой старухой, изо всех сил стараясь, чтобы она купила что-нибудь. За хорошую работу хозяин иногда давал мне пару су, а я почему-то решил тогда, что мне как раз пригодилось бы несколько монет.
В этот второй раз, когда я предлагал ей ленту, я подумал, конечно, что если она согласится, то это может значить, что она такая же, как Грета, но потом, когда ушла она, а потом ушла, так ничего и не купив, сварливая старуха (на щеке у нее еще была бородавка, из которой росло два волоса), и я стал думать об этом, я решил совершенно точно, что как раз этого мне и не хотелось бы. Такие девушки, как Грета, – я ничего плохого не хочу сказать, но когда о них думаешь, представляешь себе ее грудь в своей ладони, ее задницу, живот, жаркие бёдра, влажную внутренность, а тут – мне просто хотелось близко и внимательно рассмотреть ее лицо. Точно, в тот момент – не более того.
Мне было так хорошо в тот вечер, легко, как в детстве после причастия… Наверное, это было видно по мне; думаю, что я улыбался. И я совершенно забыл, что нашей хозяйке в таком виде лучше не показываться – она хорошенько поколотила меня, сказав, что я ее разорю. Она всегда говорит, что я слишком много ем. Только когда вернулся из пивной хозяин, и она перекинулась на него, я сбежал к себе под лестницу.
Через несколько дней в лавку прислали от бальи – нужно было отнести образцы, и хозяин отправил меня. Вообще-то по важным делам обычно он ходил сам, но в этот день он ждал купца с острова. Было очень жарко, я весь взмок, потом долго ждал на заднем дворе, пока выйдет слуга и заберет у меня мешок, так что я и устал, и соскучился. Когда я шел обратно – такое редко бывает, чтобы днем и не в лавке, – я должен был бы нестись со всех ног, но было очень уж хорошо идти налегке, щуриться на солнце, в общем, я решил сделать крюк и опять оказался у Собора.
И, проходя в тени южной башни, я увидел ее. Она сидела на ступенях паперти, обхватив колени, смотрела прямо перед собой, лицо ее ничего не выражало. Я сначала испугался, а потом сел рядом с ней. Не знаю, сразу она меня заметила или нет, во всяком случае, она не сказала ничего, я тоже не знал, что сказать, просто сидел вместе с ней и смотрел на людей, которые ходили туда-сюда. Потом я спросил ее, почему она тут сидит. Она не повернула ко мне головы и долго молчала, я уже подумал, что она и не ответит, но она все-таки ответила. Разлепила губы, как будто не была уверена, что сказать, а потом тихо, но внятно выговорила:
– Потому что это мой дом.
– Ты что, живешь на улице, у тебя нет дома?
Наверное, мой вопрос прозвучал глупо, я и сам чувствовал, что говорю что-то не то, я ведь видел, что она пусть и не наряжена графской дочерью, но побирушкой всё же не смотрится. Она повернула ко мне лицо, посмотрела удивленно.
– Нет, я же объясняю, у меня есть дом. – И она ладонью погладила ступеньку, на которой сидела.
Я почувствовал, что сейчас запутаюсь, и тут вспомнил, что мне нужно в лавку.
– Приходи еще ко мне, – сказал я ей, поднимаясь. – В лавку. Придешь?
Она помолчала немного и кивнула. Уходя, я подумал, что опять не успел разглядеть ее лицо. И еще я ругал себя за то, что так и не спросил, как ее зовут.
Возвращался я почти бегом и едва успел в лавку до шестого боя. Я решил тогда, что она живет в Соборе, – мало ли, может, попы подобрали девчушку, кормят ее, она прибирается, а может быть, ее готовят в монастырь, такое тоже бывает. Единственное, что было неприятно, – это что́ они там могли с ней еще делать, эти жирнобрюхие. Мне уже тогда вдруг показалось, что касаться ее – ее волос, ее лица, ее тела – нельзя.
Хозяин, конечно, стал ругать меня за то, что я так долго шлялся, но думаю, он что-то заподозрил, потому что он вдруг снова стал кричать, чтоб я не вздумал путаться с девками, что через пять лет он сам женит меня на ком надо – это было что-то вроде условия, во всяком случае, так он обещал моей матери, что если я десять лет прослужу у него и он будет мной доволен, то он женит меня, даст денег на свадьбу и на хозяйство. Я стоял, опустив голову, и только говорил «да, хозяин», «нет, хозяин», а сам ждал, когда наконец закаркают на ратуше часы, он уйдет, а я смогу спокойно подумать о ней.
В первый раз она пришла сразу после Пасхи, а теперь было уже лето, и потом она приходила еще несколько раз, и я уже не переставал думать о ней. В редкие и недолгие моменты наших встреч я старался как можно лучше запомнить ее лицо, чтобы потом, сидя на тюках с шелком, из мелочей – маленького прямого носа, впалых щек, узкого подбородка, – восстанавливать его перед своим внутренним взором. А когда я научился делать это, я стал в воображении своем касаться ее лица кончиками пальцев. Я проводил пальцами по лбу, касался дрожащих век – и потом, когда я отнимал пальцы, ее ресницы вспархивали, и я изо всех сил старался представить себе, как бы она посмотрела на меня.
В лавке я стал расторопен как никогда, и у хозяина не было причин ругать меня. Наоборот, он стал чаще подкидывать мне монетки, а однажды даже, вернувшись из пивной, вдруг спросил, почему он давно не видел прыщавой девки из пекарни – он имел в виду Грету, я это понял, хотя она была совсем не прыщавая. Я только потом понял, к чему он клонил, а в тот момент не нашел что сказать, кроме правды, – что она мне больше не нужна. Зато хозяйка стала злее черта, уж не знаю, что на нее нашло. Чуть не каждый вечер она стала меня колотить, так что я старался не попадаться ей на глаза – приду на кухню, схвачу свою миску – и бегом под лестницу.
Однажды в воскресенье после обедни я отпросился у хозяина и побежал к Собору. Я надеялся встретить ее там, на ступенях. У меня было несколько денье, и я думал, что смогу угостить ее чем-нибудь на ярмарке, если она согласится. Я сел на ступени ждать ее, но она так и не появилась. Вместо нее рядом со мной скоро плюхнулся парень чуть постарше меня. Первым делом спросил меня, нравится ли мне Собор. Я сказал, что нравится.
– А я его скоро возненавижу, – сказал он и втихаря плюнул на стену. – Три года уже тут батрачу, вот он у меня где! – Он приставил ладонь к горлу, и я подумал, что так он скорее мог бы показать, сколько пива успел уже выпить сегодня.
Пока он говорил, я смотрел на него сбоку. Нос у парня был выгнут, как спина у взбешенной кошки. А может быть, это память моя – так, как она делает цвета ярче, чем те были, звуки громче и взгляды нежнее, – так же она выгибает линии, которые были хоть немного кривы, и на самом деле нос у него был выгнут только как слегка натянутый английский лук, не более того, – не знаю, не знаю. Глаза у него были большие, уголками как будто стекающие вниз, к скулам. И еще у него были длинные пальцы – при первом взгляде могло показаться, что на каждом из них не три фаланги, а четыре.
Конечно, первые слова его были только бахвальством – уже через несколько минут он рассказывал, как здорово быть учеником каменщика. Из его слов я понял, что еще несколько лет у него уйдет на ученичество, потом он сам станет цементщиком, а работы тут хватит на весь его век. Главной его мечтой было стать архитектором и самому поставить северную башню.
– Только бы попы не жадничали, дьявол их ети.
Я передернулся от ругательства, но промолчал. Потом он положил ладонь мне на плечо, сказал, что я хороший парень, и предложил мне выпить. Я согласился. Мы перешли через площадь, взяли по кружке и сели на нагретый солнцем камень. Собор теперь был прямо перед нами, и из-за фасада поднимались леса вокруг строящегося трансепта.
Не знаю, с чего вдруг он заговорил об этом, но, втянув в себя одним глотком полкружки, он сказал, что иногда думает, как здорово было бы Собор поджечь.
– Спалить всю эту красотищу к чертям. Только сначала достроить. Достроить, поставить последнюю башенку на последнем контрфорсе и… – Он щелкнул пальцами, впрочем, он был уже такой пьяный, что щелчка не получилось. – Понимаешь? Нет, ты не понимаешь, дьявол тебя ети. Если всё достроить, то что останется, а? Нужно, чтоб всегда было, что строить. Достроили, спалили – и заново. Еще лучше! Еще красивее! Еще больше!
Я начал было говорить, что можно строить и на другом месте, но он оборвал меня:
– Дурак! Зачем на другом? Здесь и надо. Здесь всегда так. Одно спалили, другое построили. Построили, постояло немного – и… – Он снова попытался щелкнуть своими длинными пальцами, но запутался в них.
Я сколько себя помню, Собор всегда был такой, как сейчас. Хозяин как-то говорил, что помнит его еще без башни. А мать моя говорила, что ей рассказывал дед, будто он был мальчиком, когда закладывали Собор. Я всегда думал, что дед просто хвастался. Тут-то я и спросил кривоносого парня.
– А что, здесь раньше что-то стояло?
– Конечно, дурак. Я сам слышал, как мэтр Тома рассказывал.
– А что?
Мне пришлось повторить свой вопрос громче, потому что парень уже клевал носом.
– Что-что. Сортир святого Петра. То же самое и стояло. Что здесь еще могло стоять? Здесь всегда храм был.
После этого он совсем заснул, я снял потяжелевшую руку со своего плеча, привалил его к стене и ушел.
Я расстроился, конечно, что не нашел ее, но еще больше расстроился, что потратил на пиво те деньги, на которые собирался угостить ее чем-нибудь. На следующий день я так старался, прямо из кожи лез – всучил одному покупателю штуку парчи, которую он сначала вовсе не собирался брать, – в общем, хозяин перед уходом дал мне два су. Он ушел, проскрипели часы на ратуше, и не успели они затихнуть, как вошла она. В тот раз я наконец решился и пригласил ее погулять в следующее воскресенье. Она, показалось мне, очень удивилась, но согласилась.
Всю неделю я работал как сумасшедший – расхваливал ткани так, будто их не люди ткали, а сама Дева Мария. К воскресенью я разбогател почти на пол-ливра. Утром в воскресенье я развязал свой матрас, вытащил из него пять су и после службы отправился к Собору с полным карманом денег. Она сидела там же, на ступенях, чуть в стороне от выходящей из дверей толпы. Я повел ее в пекарню к старику-турку – это недалеко, но шли мы долго, потому что на улицах было много народу. У турка я купил две чашки холодной сладкой каши, названия которой я всё никак не могу запомнить, уж очень оно странное. Пока она ела, я рассказывал ей про турка, что сам слышал от ребят. Что будто бы в молодости он был страшным непобедимым воином, потом попал в плен, крестился и снова сражался, а потом камнем, сброшенным со стены, ему придавило пальцы на ноге, раздробило все кости в мелкое крошево. Поэтому он хромой. Но за боевые заслуги граф дал ему право завести лавку, и он стал кондитером. Кто-то слышал, как он говорил, что всегда, с детства мечтал только быть кондитером, и больше ничего. И что хоть он и принял святую веру, но всё равно не пьет ни капли вина.
Не знаю, слушала она меня или нет. Она ковыряла ложкой в чашке, смотрела на турка, рассматривала людей. Я уже понял, что говорить с ней, о чем обычно с девками говорят, не получится, но не корчить же из себя святого Августина; уж какой есть. И потом, надо было хоть что-то говорить, а то сладкая туркова каша в молчании исчезала чересчур быстро, а покупать еще одну я не хотел. В общем, я вспомнил парня с площади и рассказал ей про храм, который стоял на месте Собора раньше. Тут она подняла на меня глаза и сказала:
– Я знаю эту историю.
Я так обрадовался, что удалось заставить ее разлепить рот, – поначалу даже не слушал, что она говорила, просто смотрел, как двигаются ее губы, и как иногда ее взгляд касается меня. Она рассказывала про какую-то деву – не могу вспомнить: то ли святую, то ли наоборот, – которая давным-давно тут жила, и ей поклонялись люди, а потом, когда пришел с крещением святой Дионисий, она отказалась креститься, и тогда в нее вселился дьявол.
– Она обернулась лисицей и хотела убежать в лес, а святой помолился, и тогда по Божьей воле лесные волки загнали ее. Она улетела от них, обернувшись голубицей, но святой призвал орлов, и они кинулись на нее, чтобы заклевать. Тогда она бросилась в воду и красноперкой скрылась в реке. Но по молитве Дионисия щуки выползли из холодных нор, поднялись со дна и стали кусать ее. Река вынесла ее тело на берег, и когда святой на шел ее, он отрезал ей левую грудь, вскрыл грудину и вынул сердце. В его раскаленных от молитвы ладонях сердце тут же ссохлось, сморщилось и стало размером с куриное, но твердое, как камень, и цвета густой крови. Тогда святой зашил сердце в мешочек и всегда носил его на груди.
Я слушал всё это, раскрыв рот. Но что я мог ей сказать в ответ?
– Сколько живу здесь, ни разу не слышал этой истории.
– Да я ее только что придумала, – сказала она совершенно спокойно и как будто немного разочарованно, а может, я теперь уже ошибаюсь.
Я совсем сбился с толку и больше уже ничего не в состоянии был сказать, но всё равно я не смог бы попрощаться с ней сам, первым, так что очень кстати, что она, доев кашу, облизав ложку (да – облизывала, как самая простая деваха, так что было даже немного противно), сказала, что больше ей нельзя со мной. Мы вышли из пекарни, молча покружили по улицам, и вдруг она сказала «пока» и оставила меня – только мелькнули в глубине полупьяной толпы ее угольные волосы. Хотите верьте, хотите нет – в них точно было что-то зеленое.
* * *
Здесь очень холодно, и меня уже двое суток не кормили – может, забыли, а может, решили, что всё равно, – правильно, в общем, решили, – страшно кружится голова и время от времени меня всего очень сильно трясет, с каждым разом приступы всё продолжительнее, и всё труднее заставить себя успокоиться. Скоро начнет светать, я это чувствую по запаху холодного тумана, стекающего с камней мостовой, в этом запахе – примесь плесени. У меня ничего нет, но если бы что-то было, я бы всё отдал за кусок самого простого полотна – завернуться; может, не так сильно трясло бы. В конце концов понимаешь, что и бархат, и атлас, и саржа нужны для одного и того же – укрывать тело от холода; всё остальное от лукавого. Лучше всего было бы мне заснуть, но не получается – я уже пробовал: стоит чуть-чуть одним глазком заглянуть в сон, как я в ужасе шарахаюсь назад.
В тот день мне очень повезло, что я встретил Мартина – того носатого парня, ученика-каменщика. Мне обязательно нужно было напиться – не выпить, а именно напиться, – потому что тот хмель, которым я уже был пьян, был куда опаснее, я мог натворить глупостей, а перебить его можно было только несколькими кружками пива. Я шел по улице, чуть не бежал; мне хотелось кричать, бить-колотить столы лавочников, хватать людей за рукава, и вот в таком состоянии я шел, а мне навстречу – Мартин, который издали завидел меня, на ходу развернул и повел в кабак:
– Пойдем, пойдем. Только не ври, что не хочешь стаканчик.
Я и не собирался. Наоборот, мне хотелось броситься ему на шею, расцеловать его и – пить, пить, пить. Я, конечно, спустил в кабаке все деньги, которые у меня с собой были. Поначалу Мартин говорил, а я только молчал и улыбался, но после четвертой, а может быть, пятой кружки меня понесло, и я, кажется, разоткровенничался. Не помню, что́ именно я нес – видимо, что-то про неземной красоты девицу, – во всяком случае, Мартин стал спрашивать, кто она и откуда, а я ничего толком не мог сказать, кроме того, что она живет в Соборе. Будь я трезвым, я бы ничего такого не сказал, конечно, но ведь люди для того и пьют, чтобы язык болтался по ветру.
Мартин сначала не понял, потом я ему объяснил, что это она сама так говорила, сидя на ступенях паперти, и тут он расхохотался так, что я подумал, уж не придется ли мне сейчас с ним драться.
– Парниша, – сказал он, обхватив меня своей толстой тяжелой рукой, и, как будто хотел сказать мне что-то по секрету, жарко и влажно шепча мне в ухо, – ты влип. Это ж Регинка, дочь мэтра Тома. Он живет с ней в доме напротив, с южной стороны, вот она и сказала тебе, что живет на площади. Она, – Мартин еще понизил голос и постучал по столешнице, – ку-ку, свихнутая.
Я совсем было собрался дать ему в морду, но тут он скорчил виноватую рожу и сказал примирительно:
– Ты, дружище, тоже!
Я расхохотался и передумал драться с ним; тем более что он все-таки работал с камнем и был явно сильнее меня. Наверное, мы очень громко смеялись, потому что старик, сидевший рядом – у него была одна правая рука с синими ногтями, но он очень ловко ей управлялся: ел кусок баранины и запивал пивом, только поворачивая кисть, – сказал нам, чтоб заткнулись. Тогда Мартин притянул мою голову к себе и стал шепотом рассказывать: мэтр был женат, но жена его умерла, рожая младенца, который умер еще в утробе. С тех пор мэтр не женился, но когда он приехал сюда строить Собор, он на ступенях южного портала нашел завернутую в тряпки девку – назвал ее Региной, как покойную жену, и стал воспитывать. За пятнадцать лет она сильно выросла, а живет он с ней как с дочерью или как с женой – Мартину неизвестно.
Пока Мартин – долго и путано – рассказывал, мы успели выпить еще по кружке, поэтому я не помню, как мы выходили из кабака (кажется, что-то было не очень хорошее, и помню почему-то близко-близко сухое лицо однорукого старика и синие ногти); следующее, что помню, – это что мы идем зигзагом, опираемся друг на друга, натыкаемся на стены домов, а я всё пытаюсь объяснить Мартину, что мне вовсе не хочется с этой Региной того, что обычно бывает с другими девками. Когда пьяный, всё время кажется, что что-то кому-то недообъяснил.
Пока я добрался до дома, немного протрезвел; во всяком случае, мне удалось тихо-тихо разбудить ключницу, которая всегда меня в таких случаях спасала, и незаметно шмыгнуть к себе на мешок под лестницу. Я засыпа́л под третий за ночь лязг ратушных часов, думал о Регине, о том, что сказал Мартин. Я понял, что представлять ее в объятиях квадратноголового старика (почему-то я так его воображал, хотя потом оказалось, что у него узкое лицо), так вот представлять ее с ним обидно, а может быть, и всё равно. К тому же это только если Мартин сболтнул не ради красного словца – в чем я не был уверен тогда, а теперь так и тем более не уверен.
Я спал не больше трех часов – меня разбудила мысль, что я чуть не забыл самое главное из того, что мне рассказал Мартин; я сел на свой мешок и схватился за голову: она страшно болела. Но сердце мое колотилось как бешеное – надо же, ведь почти уже забыл: мы с Мартином сидим где-то, привалившись к стене, над крышами ярко светится черный-пречерный Собор, Мартин держит ладонь на моей голове, а его голос – как будто откуда-то снизу:
– Его однажды спрашивают: а что, типа, собираешься ты свою прикормышиху замуж-то отдавать? А он: да за ради бога, пусть берет, кто хочет, баба с возу – кобыле легче, только, типа, хочу, говорит, обратно получить всё то, что потратил на нее, пока она в моем доме жила, по справедливости, и – на все четыре стороны. В общем, что-то такое он долго считал, все еще хохотали, пьяные, насчитал почти двести ливров – только кто ж даст столько за девку, да еще и свихнутую, дьявол ее ети.
Во рту было липко, страшно хотелось пить; к счастью, хозяин, кажется, был такой же. Я ухватил с кухни несколько яблок и потащился за ним в лавку. Весь день я ворочал тюки, это, чтобы не завелась сырость, каждую неделю надо делать, соображал я туго-туго, и каждую минуту хотелось упасть на эти же перевернутые ткани, поспать, и ежечасное карканье как будто проклевывало голову насквозь, и я целый день считал и пересчитывал: получалось, что двести монет, с учетом того, что пять у меня уже есть, я могу заработать за пять лет. То есть как раз за тот срок, когда хозяин обещал моей матушке женить меня. А ведь хотя матушка и была ему двоюродной сестрой, он все-таки соврет недорого возьмет, и к тому же женить захочет на старой толстобрюхой дочке какого-нибудь своего клиента из тех, что попроще. Получалось, что через пять лет я отдам заработанные деньги мэтру и получу Регину, но без крова, без хозяйства, без единого денье. И я буду на пять лет старше (старее, суше, больней), и она.
Словом, оказалось, что мне ужас как нужны деньги.
Следующие несколько недель я ее не видел, но как-то успокоился и сосредоточился – до того, что хозяин что-то заподозрил. Однажды он не пошел вечером пить пиво, закрыл лавку вместе со мной, сел за конторку, посадил меня рядом и стал говорить, мол, видит, что со мной что-то происходит, всё лето, с самой Пасхи, и ближе него у меня всё равно никого нет, пусть я с ним посоветуюсь, он все-таки пожил уже на белом свете, и так далее, и так далее, сынок. Сначала я раздражался, а потом он отвернулся и глухо так заговорил, мол, думаешь мне иногда не хотелось послать всё это к дьяволу, – и мне пришло в голову: он про лавку, про жену, старуха-то и впрямь не приведи господь, – в этот момент я понял, что он не ради чего-то со мной проповедь затеял, а от чистого сердца. Он то теребил жирные складки у себя под подбородком, то крутил перстни на пальцах-огурцах, – мне так жалко его стало, что я бы заплакал, если бы он тоже заплакал. Он всё требовал, чтобы я ему что-то сказал, а я не знал, что говорить, мычал, и в конце концов он стал тыкать пальцем в конторку и кричать, чтобы я потерпел, мол, еще пять лет, и я сам стану суконщиком и тогда-то и пойму, что к чему. Не знаю, что он имел в виду.
На следующий день с утра я побежал с отрезами на пробу к жене и дочкам бальи (он ведь с собой целый выводок привез), а на обратном пути дал крюка и оказался у Собора. Я хотел посидеть подумать – хотя и так думал все дни, только что во сне не думал, и так ничего и не придумал: а что тут придумаешь? – сел в стороне на камень с северной стороны, в тени, и тут увидел его, мэтра. Я-то представлял его себе таким противным, как жаба, а оказалось, что он длиннющий, лицо узкое, глаза страшные, суровые. Руки – хваткие, сильные. Он был куда быстрее, мощнее всех своих рабочих, подгонял, кричал, показывал, – словом, я любовался им, как любуются жонглером или акробатом, только мэтр был, конечно, куда как величественнее.
Что-то зеленое качнулось слева от меня, и когда я поворачивал голову, я уже знал, что увижу ее – она сидела и тоже смотрела на мэтра, хотя мне казалось, что я чувствовал на себе ее взгляд.
– Он какой-то страшный, – сказал я.
Она будто бы была очень удивлена и даже мельком посмотрела в мою сторону:
– Нет, – сказала она, – он не страшный.
Ярко-ярко светило солнце, я почти слеп, смотря на нее, надеясь, что она еще раз повернет ко мне лицо, но нет, просто встала и ушла. Я тут же побежал в лавку и, пока бежал, почувствовал так ясно, что как бы там ни сложилось, а деньги я достану – не потому что я хочу всяких глупостей, а просто чтобы долго-долго смотреть ей в глаза. Нет, совершенно определенно: несмотря на свою несомненную красоту, она не вызывала во мне ни капли мужского чувства.
* * *
Говорят, когда замок перестраивали, окно здесь, в подвале, специально прорезали так, чтобы из него был виден только крест над апсидой, больше ничего – чтобы ничто не отвлекало от самого главного. Вчера через это окошко мне кинули несколько монет – бог знает, зачем. Теперь-то они мне не нужны. Это тогда я понял, что живу среди денег, в окружении денег. Деньги были у хозяина в конторе и у хозяйки в спальне. На поясах покупателей и – тяжелые золотые экю – в подкладках курток клиентов. Я бежал с рулоном испанского сукна через город – и за каждым окном были деньги; где-то мало, сущие крохи, а где-то много – куда больше, чем мне было нужно. Это наполняло меня злобой, но в большей степени – удивлением; я никак не мог взять в толк, как же это вокруг столько денег – везде, везде, – а я паршивые две сотни должен обменять на пять лет своей молодости. Очень скоро деньги захватили мою душу полностью, весь мир я видел как бы в слегка желтоватом отсвете.
Прошло с неделю или около того – она пришла в лавку. Хозяина уже не было, жирный солнечный свет проливался в лавку с улицы, и с седьмым боем часов она скользнула внутрь. Я закрыл дверь (ни о чем не думая; просто я всегда так делал с седьмым боем), и мы остались в закрытой лавке вдвоем. Она прошла вглубь, уселась, поджав ноги, на сложенные под окном тюки, посмотрела на меня (я не видел ее глаз, только чувствовал взгляд) и сказала тихо:
– Что ты молчишь? Рассказывай.
– Что?
– Как что? Не знаю. Расскажи про свой товар.
Я что-то замямлил – в целом было понятно, что я не готов вот так вдруг начать что-то рассказывать.
– Ну что же ты. Тогда давай я. Садись.
Я облегченно вздохнул и сел рядом с ней – на рулон, по которому она провела ладонью. Тюки, рулоны, отрезы, образцы, конторка и гобелены на стенах были залиты мягким золотистым светом, пахло сухой и теплой пылью. Она откинула голову назад и начала протяжно:
– Когда-то, когда Собора еще не было… – По ее рассказу выходило, что святой (тот самый, который гонялся за девой, или нет – не знаю, не спросил) решил построить на красивом месте у реки храм и начал строить один, а потом ему стали помогать звери – медведи приносили деревья, лисы и волки прикатывали камни, зайцы таскали мох, и работа пошла у него так быстро, что очень скоро над лесом поднялся купол, и его стало видно из соседних деревень, и люди пришли посмотреть, увидели святого и зверей, но решили, что он колдун, раз ему повинуются хищники, напали на него и убили. И только когда к телу его сошлись звери и слетелись птицы, и оно стало благоухать и мироточить, люди поняли, что это святой, похоронили его под алтарем и стали строить дальше храм сами, а заодно и поселились вокруг храма.
Я смотрел на ее профиль, на то, как двигались ее губы и подбородок, слушал и никак не мог понять, выдумывает она или нет. Поэтому когда она закончила, я спросил:
– Это что, всё правда?
Она повернулась ко мне, подняла ладонь и провела по моей щеке.
– Ты всегда такой глупый или только со мной вместе? – спросила она со смехом.
Я был ошарашен ее прикосновением, к тому же мне стало вдруг страшно жарко, как будто бы меня вскипятили, – словом, я оцепенел и не мог пошевельнуться, а она придвинулась ко мне, наши носы чуть не касались, я видел только ее огромные глаза, в них, казалось, что-то очень медленно ворочается (сейчас я думаю, что это было отражение крутившейся в лучах солнца пыли), и она зашептала:
– В крипте лежат гробы со всеми епископами, служившими в Соборе. Они ждут ангела, который вострубит, лежат в полном облачении, чтобы, как только Господь воскресит их, явиться пред Его очи в подобающем виде и воссесть рядом с Ним.
Наверное, я очень глупо смотрелся со стороны: она хохотала, глядя на меня, и чем слаще она заливалась, тем глупее я себя чувствовал – даже не потому, что я чего-то не понял, а потому что мне было приятно, что она надо мной смеется, я готов был слушать и слушать, сердце ныло от счастья.
Два дня я думал, прикидывал варианты, взвешивал решение: к вечеру субботы я понял, что единственное, что мне остается, – спуститься в крипту Собора. Судите сами: откуда мне взять две сотни? Заработать? Ха-ха. Грабить? Я не умею. Просить? Не у кого. В то же время, если под полом Собора и в самом деле лежит десяток гробов, и в каждом – епископ в полном облачении, то ничего не стоит выковырять пару камешков из любой митры, а потом у городских ворот отдать их какому-нибудь купцу – да, за цену вдесятеро меньшую настоящей, но больше мне и не нужно. Решительно: у меня не было ни одного другого варианта. Я успокоился, когда понял это.
Следующим утром на службе я проскользнул в южный неф и рассмотрел вход в склеп: это были четыре высокие ступени вниз и там, в тени, низкая дверь с тяжелым замком. Снизу поднимался тошнотворный сырой запах. Когда запели “Sursum Corda”, я ушел из Собора: мне предстояло придумать, как открыть замок. Поскольку всё уже было решено, ждать не имело смысла – я хотел как можно скорее совершить задуманное.
На площади у Собора я увидел Мартина; занимался он тем, что складывал из камешков некое подобие домика, потом решительным ударом рушил домик и тут же возводил его заново – ясно было, что он ждет, когда откроется кабак. Я сел рядом с ним. Он в очередной раз водрузил камешки друг на друга и махнул рукой:
– Р-р-р-раз! Эх, дьявол. Ну что, всё поют?
Я сказал, что поют. Мартин поднял голову к башне и протянул к ней руку (я понял, что он каким-то образом уже пьян):
– Вот так вот бы взять тебя – р-р-р-раз! – Потом он повернулся ко мне: – Выпьем?
Я сказал, что сегодня не могу, и Мартин сразу потерял ко мне интерес. Уходя, я видел, как он с остервенением лупит камнем по своему очередному сооружению.
Мне так и не пришло в голову, как можно открыть замок на тяжелой двери в склеп, однако случилось вот что. На следующий день в лавке я увидел, как старуха Борода (так ее называют за – почему-то – усы, которые растут у нее на верхней губе) тащит к себе под подол отрез муслина. Хозяин в это время вел расчет с поставщиком, а я в тени переворачивал рулоны. Увидев, что происходит, я мгновенно, но очень тихо подскочил к старухе и схватил ее за костлявую лапу. Борода аж зашипела. Первым моим порывом было кликнуть хозяина, чтобы сдать ему старуху, которую ненавидел весь квартал, однако потом я вспомнил, что говорят про нее, – ведьма. Тогда я зашептал ей в ухо, что отпущу ее, если она научит меня открывать любые замки. Борода извивалась, кряхтела, но я держал ее тем крепче, чем яснее понимал, что это – мой единственный шанс. Наконец она повернула ко мне свое волосатое лицо, из ее маленьких глазок – настолько глубоко посаженных, что, казалось, они сидят у нее прямо внутри головы, – сочилась ненависть, я скривился от отвращения, но и она, должно быть, увидела на моем лице решительность, потому что, мгновение поразмыслив, вглядываясь в меня, она проскрипела, еле приоткрыв мохнатую щель рта, чтобы я отпустил ее, а вечером приходил к ней:
– И на один полный оборот Солнца не будет ни одного замка в мире, который устоял бы перед тобой, – сказала она, и я понял, что моя взяла.
И то сказать: что ей оставалось? Если бы трое свидетелей уличили ее в воровстве (а ведь в лавке, кроме нее, как раз и было трое), ей в следующую же субботу на площади отрубили бы руку.
Я потребовал, чтобы она поклялась, что не обманет, и она поклялась Святой Девой. Потом Борода высвободила руку, растянула рот и выскользнула из лавки. Муслин остался у нее, но уже было поздно.
Я еле дождался вечера и, закрыв лавку, во весь дух побежал к Бороде. Дверь ее была заперта, и я стал стучать поднятым с земли камнем. Стучать пришлось долго, причем я уверен, что всё это время с той стороны двери я слышал сопение и смешки. Наконец дверь отворилась, я сделал шаг вперед и провалился во тьму. Дверь за мной захлопнулась. Я не двигался, глаза мои привыкали к темноте и постепенно я стал различать очертания комнаты – сундук, пучки трав под потолком, мешки в углу, горшки на полу, лавка, – впереди прямо передо мной стояла старуха, которая вдруг протянула ко мне ладонь и сказала:
– Руку!
Я не раздумывая вложил свою ладонь в ее руку. Она цепко ухватилась за мои пальцы и развернула мою кисть вверх. Пока я недоумевал, зачем это нужно, пока моргал, стараясь заставить свои глаза быстрее привыкнуть к темноте, сверху к моей руке спорхнула какая-то большая треугольная тень, и страшная боль разорвала мою ладонь. Я закричал. Борода сделала шаг ко мне и зажала мне рот свободной рукой.
– Молчи, дурак.
Я не обиделся на дурака, но замолчал – очень уж противно было чувствовать ее руку на своем лице. Тогда она потащила меня в глубь дома, там, в комнате с горящим очагом и столом посередине, она насыпала на мою ладонь (я увидел наконец три рваных раны и толчками вытекающую кровь) какой-то смеси из стоявшего на столе горшка и стала растирать, что-то бормоча и нашептывая. Может быть, она даже плевала на мою ладонь – не могу точно вспомнить, потому что в тот момент я был сосредоточен только на нечеловеческой боли, которую испытывал. Сколько это продолжалось – тоже не могу сказать; может быть, долго. Последнее, что сделала Борода, – взяла ленту чистой ткани и перемотала мне ладонь, строго запретив снимать до утра.
Потом она стала выталкивать меня из дома, ругая дураком и говоря, чтоб я забыл к ней дорогу. В передней комнате (глаза мои уже хорошо привыкли к темноте) я увидел висящую над входной дверью летучую мышь; мне даже показалось, что ее глаза мерцали багровым светом.
Когда утром я размотал руку, то увидел три чуть заметных полосы поперек ладони, больше ничего.
* * *
Я вынужден рассказывать всё быстрее и быстрее – пропуская множество подробностей, таких как погода (она всё портилась и портилась с каждым днем, становилось всё холоднее, но дождя пока не было, только ледяной ветер носил по улицам тучи колкой пыли), мои отношения с хозяином и хозяйкой (по правде говоря, они сократились до минимума, эти отношения; с хозяином я вел разговоры только по делу, а от хозяйки старался прятаться) или то, как именно падал оранжевый солнечный свет утром, когда я спешил отнести очередной заказ, – всё это, я знаю, имеет исключительную важность лишь для меня, к тому же, обменивая все эти вещи на слова, я боюсь спугнуть их. В конце концов, правда заключается в том, что у меня почти не осталось времени, так что пооглядываться по сторонам не получается – успеть бы добежать до конца истории, пока еще можно.
Я не вижу первых солнечных лучей, их заслоняет Собор, да и слишком высоко мое окно, но апсида начала уже выделяться на фоне неба, приглядевшись, можно увидеть, какого цвета крыша (впрочем, это, может быть, только если заранее знать, что красного – но кто же этого не знает?), и то и дело мне кажется, что луч солнца вот-вот вспыхнет на трех ржавых прутьях в окне. Главное же – меняется запах: запах ночной крысиной сырости уходит, и – как знать, не кажется ли мне? – сюда, вниз, проваливается запах из пекарни, в печах которой уже подрумяниваются хлеба́ и слоеные булочки. Меня всё чаще трясет, и время от времени я проваливаюсь в забытье – сном это не назовешь, потому что едва я окунаюсь в темноту, как из нее навстречу мне выпрыгивают существа столь ужасные, что я, вопреки небывалому своему желанию спать, все-таки заставляю себя открыть глаза. Должно быть, от того, что я постоянно тру их кулаками, из них всё время сочится влага – вкус у нее, впрочем, не соленый, а горький.
На следующий день – во вторник, стало быть, три дня назад… нет, уже четыре, – я работал в лавке как обычно, до закрытия, и даже вечером пришел домой перекусить (есть мне совсем не хотелось, но я решил, что важно показаться на глаза и не вызывать подозрений своим долгим отсутствием). Кое-как затолкав в себя тушеную капусту, я сделал вид, что страшно хочу спать, скользнул под лестницу и лишь через четверть часа втихаря пробрался за дверь. Если что, такое приключение можно было бы объяснить подъюбочными делами – шел к девице. В конце концов, не такой уж это было бы неправдой – в частности и потому, что, придя на площадь, я нашел там ее.
Было темно, но в свете костра, который горел с краю на площади, я видел ее профиль – она сидела, высоко задрав голову, – а когда я подошел и сел рядом с ней, то разглядел и красный отблеск в глазах (в глазах, говорю я, хотя видел только один). Я был странно спокоен – как будто шел что-то купить по мелочи, а не грабить могилы, – но она, казалось мне, была сама не своя: стоило мне сесть рядом, как она резко обернулась ко мне – глаза ее были темнее обыкновенного и, видимо, из-за костра, создавалось впечатление, будто глубоко внутри ее глаз что-то медленно-медленно ворочается, – а потом так же порывисто схватила мою руку (не ту, другую) и сжала ее. Несмотря на то что у меня тут же закружилась голова и тело мое почувствовало себя так, будто стало куда-то падать, падать, – несмотря на это, я все-таки хорошо помню, что нежная узкая ее ладонь была холодна, как камень.
Потом она потянулась губами к моему уху и прошептала:
– Сегодня будет дождь.
Я не знал, что сказать: ну будет и будет.
Помолчав, она снова повернула лицо ко мне, и я мог долго, не отрываясь, смотреть на нее. Потом она взяла мои пальцы и поднесла их к своей щеке – я тут же отдернул их, так это было неожиданно. Глядя на нее, всматриваясь в ее глаза, следуя взглядом за линиями ее губ, я сам, кажется, пропадал куда-то, – а это ее прикосновение как будто напомнило мне обо мне. Тогда она отпустила мою ладонь и поднялась на ноги. Волосы ее раздуло порывом ветра, и опять мне показалось, будто язык зеленого пламени лизнул их. В этот момент я вдруг сам схватил ее за запястье – очень мягко, впрочем, почти не касаясь.
– Подожди меня здесь, – прошептал я, – или приходи сюда ближе к утру.
Она высвободила руку, едва заметно сжав на мгновение подушечки моих пальцев, и шагнула в темноту – туда, где я уже не мог ее видеть.
Оставалось самое главное.
Из костра на краю площади я взял обугленную ветку, подул на нее: краснеет, – хорошо. В круге около костра Собора не было видно – вообще ничего не было видно; тьма хоть глаз коли, – но стоило отойти от огня и немного подождать, как становилась ощутима его каменная громада, а в небе проступало какое-то бурление. Воздух был холодный, порывы ветра резкие, как пощечины, и приносили мокрый освежающий запах. На противоположном конце площади, у кабака, слышно было, как допивают пьяницы. Я подошел к Собору, положил руку на стену рядом с порталом и осторожно, но как можно быстрее направился к северной стене – там я рассчитывал открыть маленькую, прятавшуюся в тени аркбутанов дверцу.
Нащупав дверь в Собор (низенькая, она была едва мне по плечи), я чуть подул на ветку и увидел внушительный засов. Видно, впрочем, было плохо: я стал ощупывать засов, пытаясь понять, как он снимается, и вдруг обнаружил, что он сломан. Я обрадовался, решив, что это знак моей грядущей удачи, юркнул внутрь и затянул дверь. Теперь, внутри гулкой каменной громады, я мог слышать, как бьется мое сердце.
Хотя внутри Собора никого не было и быть не могло, я все-таки старался не шуметь. Чуть-чуть подраздув ветку, я стал пробираться к алтарю, а потом обходить его: дверь в склеп была с южной стороны. По дороге я чуть было не уронил тяжелый канделябр, еле удержал его и невольно выругался, тут же перекрестившись, а потом больно запнулся о скамейку, стиснул зубы, но не закричал. Подойдя к ступеням, ведущим в склеп, я достал из мешка палку с просмоленным концом – таких у меня было с собой несколько – и поджег ее от ветки. Разгоревшись, она стала светить хоть неярко, но ровно. В тусклом этом свете я вновь увидел огромный замок на двери – до сих пор я не задумывался, как именно открою его: раз уж Борода не дала мне никаких инструкций, думал я, вопрос должен решиться как-то сам собой. И в самом деле: когда я недолго думая спустился по ступеням вниз (каждая ступенька была холоднее предыдущей, а на последней уже чувствовалась скользкая сырость) и раненой рукой провел по замку, внутри него вдруг что-то как будто коротко простонало. Я слегка потеребил замок, и он легко, как сухое печенье, развалился пополам. Только теперь я понял, что и засов на уличной двери был цел, пока я не коснулся его.
В первую секунду я подумал, что не смогу дышать в склепе, такая удушливая вонь полилась оттуда, стоило мне сдвинуть дверь. Однако пока я собирался с духом, запах стал менее ощутимым (теперь я думаю, что это просто я так быстро привык к нему), и уже ничто не мешало мне шагнуть вперед. Я посветил в дверной проем факелом и пошел. Ноги мои оказались в воде.
Воды было немного – по щиколотку, не больше; страшнее всего был плеск, который я невольно вызвал, – звук заметался меж каменных стен, попрыгал по поверхности воды, и вдруг стало ясно, сколь велика зала, в которую я попал. Впрочем, не только: шум воды вызвал к жизни и другие звуки – шорох, шепот, топот. Я стал медленно, рассекая голенищами сапог поверхность воды, двигаться вперед; света от факела хватало, чтобы видеть на пару шагов во все стороны – за пределами этого светового пузыря клубилась жирная, маслянистая темень. Разлитая в воздухе затхлая вонь была ужасна, но, наверное, я бы даже не понял этого, если бы не привычный запах горящей смолы от факела в моей руке. Сколько бы я ни старался идти бесшумно, это, конечно, не получалось (да и факел потрескивал при горении), и скоро мне стало казаться, что меня окружает, за мной следует целая толпа каких-то сопящих, сморкающихся и хрюкающих существ. Или это был обман слуха – как, бывает иногда, в абсолютной тишине слышишь как будто какой-то посвист.
Мне пришлось пройти шагов двадцать, прежде чем я увидел перед собой камень. Я не сразу понял, что это могила – но что здесь еще могло быть? – высокий, мне по пояс постамент, на котором лежал большой каменный гроб, накрытый тяжелой плитой. На камне были выбиты какие-то слова, но я и так-то не силен читать, а тут еще стоя по щиколотку в воде, при тусклом свете факела… Тем более что факел не освещал всю поверхность плиты одинаково, и мне почудилось, будто с дальнего ее конца шмыгнула прочь какая-то скользкая тень. В любом случае я не хотел открывать первую попавшуюся могилу – бог знает, сколько могло понадобиться на это времени; я вообще хотел обойтись одним гробом, а для этого нужно было найти самый богатый.
Словом, я обошел постамент с гробом и стал двигаться дальше. Через десяток шагов я снова наткнулся на постамент, точно такой же, как первый. Потом еще раз и еще. Я шел всё время только прямо и прямо, но в какой-то момент засомневался, а не кружу ли я от могилы к могиле, принимая две за десяток. Мне казалось, я прошел уже так далеко, что под землей должен был выйти даже за пределы Собора. Ясно, что так мне казалось из-за того, что я очень медленно шел. Вокруг меня всё продолжало скрестись, булькать, похихикивать; стоило мне остановиться – всё затихало, тишина становилась такой, что даже слышно было, как задувает где-то сквозняк, а где-то капает с потолка, – но только я делал шаг, как гомон вокруг меня взрывался с новой силой.
Наконец, холодея и еле поднимая потяжелевшие ноги, я дошел до той могилы, которую искал. Я сразу понял это: постамент был выше предыдущих, а вместо простой плоской плиты с буквами сверху лежал настоящий резной камень, изображающий сцену Страшного суда: мертвые поднимались из земли и выстраивались в очередь к Христу, который одних отправлял наверх, к ангелам, а других, бо́льшую часть, – вниз, где их поджидали черти с вилами и горели костры. Факел мой уже почти дотлевал, я положил его сверху на могилу, достал из мешка крепкую палку, которую накануне специально для этого заточил, и стал вгонять ее в щель под резной крышкой. Удары камня о палку получались такие громкие, что эхо от них, кажется, отдавалось даже наверху, в Соборе; между ударами повисала звенящая тишина. Меня лихорадило, но я заставлял себя бить реже и крепче. Когда рычаг мой оказался наполовину вогнан, я положил камень обратно в мешок, уперся плечом в палку и стал поднимать ее.
Мне удалось сдвинуть плиту на локоть, и я решил, что этого достаточно, – иначе она, не дай бог, упадет. Сдерживая дрожь в руках, я достал новый факел. Теперь я увидел, что́ лежит под плитой. Я увидел истлевшие кости и поверх них – расползшееся рванье, бывшее, очевидно, когда-то епископским облачением. Мгновения, пока я рассматривал инкрустированные митру и посох, перстни на пальцах, камни, обвалившиеся с одежды и лежащие просто вперемешку с костями, – было тихо, но понял я это только после того, как снова раздались щелкающие, скрежещущие, топочущие звуки. Они как будто подстегнули меня; я отбросил робость и запустил руку в гроб.
Внутри кости и камни лежали в чуть жидкой грязи. Вытягивая пальцы, я вылавливал из нее мелкие красные и зеленые искорки. Шум не прекращался, факел чадил и мигал, тьма вокруг двигалась, перекатывалась сгустками и всё время грозилась сомкнуться над моей головой. Мне стало казаться, что из темноты проступают фигуры – то это были осторожные трехпалые лапы, то раздувающиеся огромные ноздри, то извивающиеся острые хвосты, – все они двигались на периферии взгляда: стоило повернуть голову, они тут же замирали и сливались с темнотой. Я стал слышать стоны и крики, полные скорби и отчаяния, – как будто кто-то хотел докричаться до меня с другой стороны мира, разжалобить меня или внушить ужас. Я подцепил ногтем большой камень из навершия посоха, потом приступил к митре и почувствовал на себе взгляд мертвеца. Череп был абсолютно пустой, и стоило сосредоточить взгляд на неровных провалах глазниц, видна была только пустота. Но когда я возвращался к камням, я вновь чувствовал, что череп подглядывает за мной, еле сдерживая смех.
Мои руки прыгали от одного камня к другому, я неловко дергал пальцами, камни закатывались куда-то в глубь гроба, и я уже не доставал их; я решил не смотреть ему в глаза, терпеть, пусть, в конце концов, смотрит, какая разница. К треску, ударам, крикам теперь прибавилась моя собственная кровь, которая стучала в ушах, как молот по наковальне. Последнее, что я решил взять, – кожаный мешочек, лежавший на ребрах. Вытряхнув его, я увидел гладкий, но неровной формы красный камень – он был тяжелый, и внутри него как будто что-то вспыхивало. Я зажал камень в кулаке, и нечеловеческий крик вырвался из моей груди: на моем запястье сомкнулись костяные, увешанные золотыми перстнями пальцы. Я рванулся было назад, но непреодолимая сила потащила меня внутрь гроба и притянула мое лицо к черепу мертвого. Я продолжал кричать, а мертвый хитро смотрел на меня и в голос хохотал. Смех его был злорадный, издевающийся. Наконец та же рука с болтающимися на костях перстнями с бешеной мощью подняла меня в воздух, оттолкнула прочь, и я отлетел на несколько шагов назад, больно ударившись головой о край соседнего постамента.
Через несколько мгновений (так мне показалось, что прошло несколько мгновений, но точно я не знаю, конечно) я очнулся в темноте, весь мокрый; ладонь моя продолжала судорожно сжимать неровной формы камень. Я опустил его в карман, к другим собранным в гробу камням, и тут почувствовал, какое тяжелое у меня платье. Встав на четвереньки, я пошарил руками вокруг: факела нигде не было, мешка тоже. Опираясь о могилу, я встал: с меня стекала вода, ноги подкашивались от слабости, руки дрожали. Темнота вокруг была чуть заметно окрашена багровым. Обернувшись, я увидел выход: за дверью, которую я оставил открытой, что-то светилось. Шум, который слышал я всё это время, сделался отчетливым и громким. В ужасе я двинулся в сторону двери. Первые несколько шагов дались мне с трудом, зато потом я почти побежал и всё отчетливее видел, какое возмущение воды поднимают мои ноги, всё больше различал в окружающей темноте каменные гробы и рассыпающиеся по ним крысиные тени. Добежав до двери, вцепившись в нее, я выскочил на ведущие вверх ступени (вода, отпуская мои ступни, с сожалением хлюпнула) и застыл в ужасе: то, что в подземелье я принимал за шепоты и почесывания, топотания и подхихикивания вырвавшихся из заточения жителей ада, было совсем не то – вокруг меня стоял оглушительный грохот пожара.
Горели хоры с северной стороны и часть трансепта: леса казались раскаленным докрасна металлом, хрустели колонны трифория, стропила, рассыпая целые облака искр, падали с высоты на тяжелые скамьи, разламывая их, как прутики, дым ураганом уносился куда-то вверх и оттуда стекал по стенам, за окнами, было видно (они светились, хоть и не как днем, но всё же ярко, только другим, зловещим и грязным светом), полыхало еще хлеще; из оцепенения меня вывел взрыв лопающегося стекла – водопадом рухнул в пламя витраж – ангел, встречающий Марию у пустого гроба, – причем я почему-то почувствовал злорадство, вспомнив, как в прошлом году епископ всем уши прожужжал о щедрости графа.
Путь к двери, через которую я пробрался в Собор, был отрезан, и я рванул к западному порталу – а что мне было еще делать? Я бежал, утопая в плотном дымном киселе, чувствуя, как дым начинает забираться мне в нос и в рот. Больше всего я боялся споткнуться и упасть, и все-таки не мог заставить себя бежать помедленнее. Створки ворот вырастали надо мной, как грозовая туча, – я бежал к ним, слыша, как с той стороны бьют чем-то тяжелым, еще не зная, что буду делать, когда добегу, бежал, беспомощно выставив руки перед собой.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу