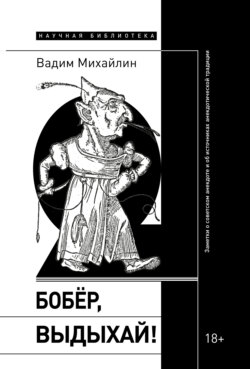Читать книгу Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции - Вадим Михайлин - Страница 3
О когнитивных основаниях ситуации рассказывания анекдота
ОглавлениеЗдесь и рождается анекдот как коммуникативный жанр, позволяющий деконструировать любой пафос. Механизм его ситуационно-коммуникативного воздействия, связанного с производством того, что мы привычно понимаем как юмор, предельно прост и был описан в самом общем виде еще в 1970‐х годах Виктором Раскиным, одним из отцов-основателей «Международного общества по изучению юмора» и журнала Humor (с 1988 г.): «…humorous element is the result of a partial overlap of two (or more) different and in a sense opposite scripts which are all compatible (fully or partially) with the text carrying this element»[6]. В зависимости от избранной исследовательской перспективы и от связанного с ней терминологического инструментария, здесь можно говорить о сценариях (скриптах) в том смысле, который развивается в лингвистике, теории коммуникации и теории искусственного интеллекта начиная со времен Сильвана Томкинса[7], или о фреймах в социоантропологическом, гофмановском смысле слова[8], но общая картина происходящего останется примерно той же. В любом случае мы имеем дело с наложением двух или более интерпретативных систем, каждая из которых не противоречит предложенному проективному сюжету, – что приводит к моментальному сбою режимов инференции и к необходимости «включить» экстраординарные (неавтоматизированные, не привязанные к привычным сценариям) режимы оценки поступающей информации. Существует две основные группы быстрых реакций на подобный сбой, которые условно можно обозначить как связанные с испугом и связанные со смехом. Поскольку ситуация рассказывания анекдота с самого начала организуется как игровая, ориентированная прежде всего не на интерпретацию той актуальной ситуации, в которой пребывают исполнитель и его аудитория, а на оперирование «несерьезными» проективными реальностями, то реакции, связанные с испугом, как правило, нерелевантны – а вот реакции смеховые ситуативно вполне адекватны.
Впрочем, бывают исключения, связанные именно с актуализацией той тонкой грани, которая разделяет два типа реакции на моментальный сбой инференции, испуг и смех, – причем само наличие этих исключений свидетельствует об известной «саморефлексии жанра», о его способности учитывать и обыгрывать специфические черты собственной когнитивной природы. Так, один из не слишком распространенных типов позднесоветского анекдота предполагал знакомство аудитории с другим «фольклорным» жанром – жанром детской страшной истории. Ситуация рассказывания с самого начала строилась на столкновении двух коммуникативных сценариев: рассказчик задавал вопрос о том, знает ли аудитория анекдот «про золотую ручку», тем самым обозначая дальнейший перформатив именно как исполнение анекдота. Для того чтобы исполнение было успешным, требовалось, чтобы как минимум один из слушателей «анекдота не знал»; вместе с тем знакомство других участников ситуации с обещанным сюжетом приветствовалось, хотя и не проговаривалось вслух[9]. Однако особенности исполнения анекдота (специфическая интонация и слегка замедленный, подчеркнуто «сказительский» ритм повествования; нарочито «детские» обозначения персонажей, нарушающие привычный режим «стайной иронии») актуализировали у слушателя совсем другой коммуникативный сценарий, связанный с восприятием детской страшилки:
В одном городе жила-была тетечка, и была у нее золотая ручка[10]. И все ей завидовали, но она никому эту ручку даже подержать не давала. Даже дядечке, который был ее мужем. А потом тетечка умерла, ее похоронили, и ручку закопали вместе с ней. А дядечка решил золотую ручку достать. И вот ночью идет он на кладбище и видит[11]: могила тетечки разрыта, а над могилой стоит сама тетечка в белом саване (исполнитель начинает говорить медленнее и тише). «Тетечка, – говорит дядечка, – а где твоя золотая ручка?» (Исполнитель выдерживает драматическую паузу, после которой и он сам, и те участники ситуации, которые «знают анекдот» и с самого начала исполнения скрыто переквалифицировались из слушателей в соучастники исполнения, резко выбрасывают руку вперед и кричат во весь голос, максимально «страшно»): «А ВОТ ОНА!!!»
Подобный пуант нарушает оба предложенных сценария. И рассказывание анекдота, и рассказывание страшилки заканчиваются в спокойной констатирующей интонации, которая в первом случае должна подвести слушателя к иллюзии «внезапного самостоятельного понимания» и задействовать «чувство юмора», а во втором – позволить слушателю сопоставить страшную и безнадежную проективную реальность с собственной актуальностью и получить удовольствие от «избегания зримой опасности». Здесь же акцент внезапно переносится именно в актуальность: исполнитель (и сотрудничающая с ним часть аудитории) задействует кинетические и звуковые сигналы, рассчитанные на немедленный испуг слушателя. А смеховая реакция наступает чуть позже, после того как слушатель сопоставляет неадекватность собственного испуга актуальному положению вещей, которое снова сводится к игровой ситуации рассказывания анекдота (что, как правило, подтверждается смехом исполнителя/исполнителей, для которых пуантом становится испуг слушателя).
Итак, коммуникативный жанр анекдота предполагает сугубо игровое отношение всех участников к создаваемым на их глазах проективным реальностям. Здесь следует обратить внимание на еще одно обстоятельство, связанное с ситуативной адекватностью участников и прежде всего с умением отслеживать границы между реальностями. Человек, не отдающий себе отчета в том, что предложенный его вниманию сюжет является сконструированным и не имеет прямого касательства к актуальной реальности, автоматически лишает себя права на полноценное участие в ситуации рассказывания анекдота – что другими участниками, как правило, маркируется через категории, связанные с недостатком интеллекта или отсутствием «чувства юмора».
Впрочем, возможны и другие сценарии – слушатель может осознанно противодействовать чужим коммуникативным техникам, отказываясь воспринимать ситуацию как игровую и демонстративно перекодируя рассказанную историю в плоскость «личной» или «идеологической» позиции. Мотивация подобного поведения может быть разной, начиная от желания перенастроить ситуативные рамки «под себя» и перевести коммуникативную ситуацию под свой контроль и заканчивая разными режимами идеологической борьбы. Те же позднесоветские времена, когда практика «посадки за анекдот» уже успела (за редким исключением) уйти в прошлое, дают нам примеры вполне отрефлексированного отказа воспринимать игровую природу анекдота, переводя смысл этой коммуникативной практики в плоскость идейной борьбы. Так, член Союза писателей Удмуртской АССР и активный общественный деятель Олег Поскребышев в 1982 году опубликовал в журнале «Юность», рассчитанном на молодежную аудиторию, стихотворение, которое настолько прекрасно во всех возможных смыслах, что его нельзя не привести здесь полностью:
Придумщик анекдотов про Чапая
По-своему, конечно, не дурак,
Раз мы хохочем и не замечаем,
Что понапрасну веселимся так.
Как будто яда в шуточках ни капли,
И вроде безобидно все вполне.
Но глядь, а где со справедливой саблей
Комдив Чапаев на лихом коне?!
Уже врага он в трепет не бросает,
Уже полки в бессмертье не ведет.
А Петька, Петька, славный Петр Исаев,
Что стало с ним, куда он делся – тот?!
Застелет очи хитрой пеленою,
И ты с трудом рассмотришь сквозь туман,
Как бьется раненый Чапай с волною,
Как Петька в грудь себе навел наган.
Веселых анекдотов мелочишка
Страшнее пуль, опасней, чем Урал!
Ты из‐за них не вспомнишь, как мальчишкой
В Чапаевца восторженно играл![12]
Этот текст, положенный на музыку, мне доводилось слышать с самодеятельной сцены Уфимского нефтяного института в 1982 году. Трио, исполнившее его под гитару, тоже, судя по сценическому посылу, искренне прониклось пафосом стихотворения и даже постаралось его усилить. Многозначительная замена исполнителями «по-своему, конечно, не дурак» во второй строке на «в конечном счете, тоже не дурак» через переадресацию к соответствующему публицистическому дискурсу автоматически превращала «придумщика» в агента западных спецслужб, а участника ситуации рассказывания анекдота, не поспешившего занять правильную моральную позицию и сорвать идеологическую диверсию, – в пособника вражеским замыслам[13].
Для тех же участников, которые «чувством юмора обладают», сама искусственность созданной коммуникативной ситуации, в которой происходит игра проективными рамками, интерпретативными сценариями, уровнями ситуативного кодирования и т. д., является необходимым условием получения удовольствия. Привычная структура анекдота, в которой большую часть времени исполнитель тратит на создание некой проективной реальности с устойчивым режимом интерпретации (и, соответственно, с жесткими ситуативными рамками и предсказуемым сценарием развития), а затем в пуанте резко меняет режим интерпретации (ситуативные рамки, сценарий развития ситуации), связана не только с необходимостью сугубо перформативного обозначения момента «сбоя интерпретации». Условием получения удовольствия в ситуации рассказывания анекдота со стороны слушателей является готовность к тому, что такой поворот будет исполнен. Тем самым адекватные слушатели в той или иной степени оказываются включены сразу в несколько фреймов: актуальную ситуацию рассказывания; проективную ситуацию, сконструированную как реальность, которая должна быть разрушена, – и в ожидание еще одной проективной ситуации, которая должна предложить новые ситуативные рамки и тем изменить наполнение и смысл предыдущей. Подобная «многослойность» служит источником сугубо человеческого удовольствия: быть вовлеченным в одновременно в несколько сценариев, ни один из которых не является для тебя обязывающим.
6
«…юмористическая составляющая представляет собой результат частичного наложения двух (или более) различных и в каком-то смысле противостоящих друг другу сценариев, каждый из которых совместим (полностью или частично) с текстом, несущим в себе данную составляющую» (Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor / Proceedings of the Fifth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkley University of California, 1979. P. 325). Здесь и далее перевод иноязычных цитат мой. – В. М.
7
См: Tomkins S., Izard C. Affect, Cognition, and Personality: Empirical Studies. New York: Springer, 1965.
8
См.: Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press, 1974.
9
В отличие от стандартной ситуации рассказывания анекдота, в которой степень успешности исполнителя по крайней мере отчасти зависела от знакомства аудитории с предложенным анекдотом, в этом компоненте успешность была обратно пропорциональна количеству тех участников ситуации, которые анекдот «уже слышали». В случае с исполнением анекдота про условную «золотую ручку» (я выбрал этот анекдот, поскольку он представитель целого класса: были и другие сюжеты с аналогичным режимом исполнения) те участники ситуации, которые уже знали анекдот, автоматически и, как правило, с готовностью «переквалифицировались» из слушателей в исполнители.
10
Омонимия, связанная с самим словом «ручка» (1) уменьшительное от «рука»; 2) инструмент для письма), играет свою роль в создании значимой для этого перформатива атмосферы смысловой неопределенности. Понимая, что, вероятнее всего, имеется в виду именно писчая принадлежность, слушатель неизбежно продолжает «держать в голове» и второй вариант интерпретации, поскольку прямых указаний на то, что подразумевается именно инструмент, а не часть тела, в тексте нет. При этом два этих интерпретативных режима отталкиваются от двух разных онтологических категорий (инструмент; часть человеческого тела), достаточно близких друг к другу в повседневных когнитивных практиках, то есть по определению нуждающихся в строгом разграничении. Смешение двух этих категорий обречено вызывать когнитивный диссонанс – на котором привычно работают излюбленные романтической традицией (и жанром детской страшилки!) сюжеты о полном или частичном овеществлении человека. Кроме того, словосочетание «золотая ручка» – устойчивое и отсылает зрителя к имени вполне конкретного персонажа, окутанного «опасным» ореолом уголовной романтики, – к Соньке Золотой Ручке, в чьем прозвище ключевое слово употребляется никак не в смысле инструмента для письма.
11
Здесь слушатель получает сигнал, усиливающий восприятие коммуникативной ситуации именно как ситуации рассказывания анекдота, а не страшилки: форма глаголов меняется на стереотипное для анекдота третье лицо настоящего времени, тогда как страшилка требует по преимуществу времени прошедшего, сказительского. Впрочем, этот сигнал может остаться и незамеченным, поскольку в страшилках кульминационные эпизоды (и, зачастую, эпизоды, подготавливающие кульминацию) также рассказываются в настоящем времени, что усиливает «эффект присутствия».
12
Поскребышев О. А. Придумщик анекдотов про Чапая // Юность. 1982. № 6. С. 27.
13
Об аналогичных коммуникативных стратегиях, связанных с перекодированием разговорных матерных формул, см.: Михайлин В. Ю. Русский мат как мужской обсценный код: проблема происхождения и эволюция статуса // Злая лая матерная. М.: Ладомир, 2005. С. 88.