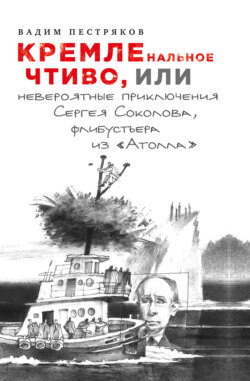Читать книгу КРЕМЛенальное чтиво, или Невероятные приключения Сергея Соколова, флибустьера из «Атолла» - Вадим Пестряков - Страница 5
«Серый кардинал» Кремля
Среднее звено, или Как телевидение становится телебачинием
ОглавлениеМаленький щуплый человек одиноко продвигался к выходу из зоны прилета аэропорта «Шереметьево». Сутуловатый и неказистый, он был как будто не нужен сопровождавшим его на уставном расстоянии дюжим хлопчикам в мешковатых костюмах неопределенного цвета. Он даже и не начинал еще примеривать на себя образ будущего президента Украины. В этом новом мире политических интриг, выборов, пиара, телевизионных войн ему было, мягко говоря, неуютно. После многочисленных совещаний с сонмом явившихся невесть откуда соратников, консультантов, политтехнологов Леонид Данилович и правда чувствовал себя кучмой, которую случайно оставили на лавке во время украинской свадьбы. Кто не знает, кучма – это та самая мохнатая казацкая шапка. Правда, казаком будущий президент никогда не был, а настоящим украинцем только становился, усиленно налегая на «мову». Зато сало и горилку он уважал всегда и славился почетным среди настоящих партийцев умением «держать стакан». Для лидера нации это, может быть, маловато, но для директора «Южмаша», который исправно давал стране угля в виде стратегических ракет, это было очень ценное качество. Как и для заядлого преферансиста, каковым Данилыч слыл еще со студенческих времен. Здесь в Москве все должно было проясниться. Юра Шафраник (конечно, с ведома Виктора Степановича Черномырдина), который хоть и помоложе, но тоже из советских хозяйственников, обещал прислать хорошего хлопца, с опытом. Хлопец уже ждал. По отработанной моде он был во всем черном. Только на лице Соколова на этот раз читались не надменность и тайное знание, а наглость вперемешку с радушием. Такое выражение лица было Кучме знакомо – оно бывало у инспекторов ЦК и хозяев домов, где любили «расписывать пулю». Нормальное лицо, понятное. После рукопожатий и представлений нырнули в неприметную, но мощную иномарку.
– Пока у меня с этими выборами полная «бескозырка», – посетовал Леонид Данилыч, который, расслабившись, перешел на картежный жаргон.
– Ничего. Была бескозырка, станет коронка, – включился в диалог Соколов.
– Главное, туза на мизере не прикупить, – вспомнил бородатый анекдот Данилыч.
– Главное, Леонид Данилович, чтобы народ из кибитцеров превратился в электорат, – изрек Соколов, подведя черту.
По поводу воздействия на украинских избирателей у Соколова имелся ряд соображений. В то время российские каналы на Украине еще не загнали в кабельные сети, и они вещали на полную катушку. Что было большим плюсом для избирательной кампании Кучмы. Дело в том, что по центральному украинскому телевидению Леонида Даниловича показывали совсем немного. Все разнообразные УТ от номера 1 до номера 3 предпочитали демонстрировать публике Леонида Кравчука, который накануне выборов стал чуть ли не символом «самостийности». Такова уж судьба всех украинских президентов – к концу срока становиться любимцем «западенского» электората. Через пять лет на своих вторых выборах уже Кучма станет кумиром или, по крайней мере, меньшим, чем Петр Симоненко злом для Ивано-Франковска, Львова и всего Закарпатья. А пока, в 1994-м, Леонид Данилович сделал ставку на русскоязычных соотечественников, пообещав превратить «великий и могучий» во второй государственный язык. Сейчас, во времена властной вертикали и суверенной демократии, поддержка такого лояльного кандидата из соседней страны выглядела бы для российской власти вполне естественной. Но в 1994 году далеко не все в Москве готовы были помочь бывшему директору «Южмаша». Многие демократы первой волны, еще остававшиеся у власти, с настороженностью относились к «красным директорам» независимо от того, в какой стране те проживали. Боязнь «коммунистического реванша» жила в России до 1996 года. До тех пор, пока «четвертая власть» с помощью больших денег и компромиссов с совестью не превратила Геннадия Зюганова и его КПРФ в навеки «хромую утку» российской политики. Так что Москва 1994 года не ждала Леонида Даниловича с распростертыми объятиями. А помощь, которую до этого оказывали Кучме российские «государственники», временами оказывалась неуклюжей. Телевизионная беседа между ним, кандидатом в президенты большой европейской страны, и руководителем общественной организации – Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадием Вольским стала настоящим провалом. В программе канала «Останкино» Леонид Данилович выглядел неуверенным в себе, запинающимся чиновником не самого высокого ранга, который робко поддерживает беседу с холеным, довольным собой, вальяжным господином из совершенно другой весовой категории. Слово «тяжеловес» применительно к политикам тогда только входило в обиход. Так вот Вольский выглядел в том телевизионном диалоге настоящим «супертяжем», а Леонид Данилович тянул разве что на суетливого «мухача», который то и дело пропускает увесистые «плюхи». Ситуацию надо было выправлять. На это и нужен был Соколов с его «ассиметричными», как любил говаривать Михаил Сергеевич, ответами.
Четвертая власть легко превращается и в пятую колонну, и в первейшего помощника, из пропагандиста в организатора, из агитатора в «говномета»: все зависит от того, в каком месте провести механическое воздействие на тончайший инструмент под названием «средство массовой информации». Как видно из этого повествования, Соколов никогда не испытывал пиетета к печатному слову, радийному звуку и телевизионному образу. Свободу слова он всегда трактовал в пользу собственной свободы совести.
Надо сказать, что в 1994 году методов воздействия на прессу было великое разнообразие. Вернее, основной метод был все-таки один: деньги. Но зато адресатов «внедрения» было гораздо больше, чем в нынешние строгие времена сертифицированных звонков сверху и отработанных каналов «заноса». В 1994-м даже еще как следует не поделили рынок рекламы. Редакция каждой программы сама брала деньги: у телеведущих появлялись автомобили, режиссеры делали ремонты и узнавали прелести Таиланда и Египта. Первое поколение менеджеров по рекламе стало обладателями хорошей московской недвижимости. «Мейджоры» телерекламы только зарождались и готовились хищно наложить свою лапу на рынок. Придать этому рынку цивилизованную форму в 1995-м попытался Влад Листьев. Попытка была засчитана слишком дорого.
В деле «продвижения» Кучмы в сердца соотечественников Соколов и не собирался обращаться к тогдашним руководителям отечественного телевидения. Это было гораздо дороже. А репутацию человека, который может работать с умеренным бюджетом, приобретенную со «Сталлоне рокетс» и подтвержденную в Киргизии, надо было поддерживать. Тем более на Королева, 12 были люди, с которыми такие задачи решать – одно удовольствие. Колю Авдеева (назовем его так) и сейчас можно встретить в коридорах «Останкина». Он с удовольствием вспоминает былые времена, всегда знает, кому надо «занести», охотно назовет пару перспективных проектов, предложит на продажу список «документалки». Всех телевизионных и не только звезд он запросто зовет по именам, расскажет, как лажался, будучи осветителем, будущий «рулевой обоза» и главный «молодогвардеец» Ваня Демидов. Какой трогательной была в международной редакции юная Танька Миткова. Как пивал Влад. Как Кирилыча (Молчанова) учили не заслонять руками половину кадра. Одним словом, Колян на «ящике» – человек всезнающий. В 1994-м, когда в собственных глазах Колян только превращался в легенду, он еще очень многое умел и трудился выпускающим редактором в программе «Время».
Выпускающая бригада – самый что ни на есть средний уровень телевизионной иерархии. И самый передовой отряд эфира.
В 1994-м на несколько месяцев зарплата Коляна существенно выросла. Чему была рада вся его бригада, которой тоже перепало. Радовались Соколов, Кучма и все его сторонники. Радовались «красные директора» на всей территории бывшего Союза и борцы за равноправие русского языка на Украине. В течение нескольких дней, проведенных в Москве, Леонид Кучма вдруг неожиданно стал заметной телевизионной персоной на всем постсоветском пространстве: он комментировал события в России и мире, не забывая упомянуть о делах украинских. При этом на российском телевизионном экране кандидат в украинские президенты как будто не делал ничего, что обычно делают публичные политики: не встречался с избирателями, не собирал митинги, не критиковал оппонентов. Он просто стал жить в эфирном пространстве первого российского канала, выскакивая, как черт из табакерки, в самых неожиданных сюжетах. Разрозненное руководство канала не могло понять, откуда что берется. Выяснять все сразу и до конца ни у кого не было желания: каждый из «рулевых эфира» думал, что это его коллега гонит в эфир «джинсу», то есть заказные материалы. И поскольку этим занимались почти все, а эфирный пирог еще не был централизован, такой способ заработка считался нормальным. Более того, пропихнуть в эфир нужный сюжет мог любой более или менее опытный корреспондент, если, конечно, тот знал с кем поделиться. Бригада Коли Авдеева обходилась даже без корреспондента. Выручал недюжинный талант Влада Нечаева, который по тем временам был телевизионщиком нового поколения. Свои основные деньги Влад зарабатывал, монтируя сюжеты для московского бюро WTN. Англоязычная публика внушила ему, что он настоящий editor, а никакой не «монтажер». А editor – это еще и редактор, то есть творческая единица иного калибра. Надо сказать, что и платили «западники» Владу не как останкинскому «монтажеру». Но Нечаев, как и идейный вдохновитель операции «Средний уровень» Сергей Соколов, жил не ради денег, а ради творчества, куража, ощущения полноты жизни и собственной значимости. Поэтому ему больше нравились сравнения с пианистом, которых он удостаивался от останкинских журналистов, приходивших к нему на монтаж. Влад управлялся с «парой» – двумя видеомагнитофонами Betacam – как тертый клавишник-джазист с любой клавиатурой, напоминающей фортепьяно. Одетый в псевдонеформальном стиле – кожаная косуха, голубые джинсы, сапожки-казаки, – он артистично ударял по кнопкам монтажного пульта с небрежностью виртуоза. И производил неизменный фурор среди впечатлительных журналюг. Кроме того, Влад обладал баритоном исключительно приятного тембра. И хорошо управлялся с локальными компьютерными сетями, которых в Москве тогда было считаное количество единиц. Одним словом, универсал новой формации, который еще не подозревал, что все его таланты могут пригодиться сразу для одной работы. Глаза Нечаеву открыл Коля Авдеев. А тому, в свою очередь, Соколов. Авдееву давно не нравилось, что вся «джинса», которая проходит в эфир, просачивается сквозь пальцы, не оставляя никакого навара.
– Авдей, пойми, на эфире ты главный. Какую кассету вставишь, то народ и увидит, – внушал Соколов простые истины Коляну.
– Ты, Серега, не понимаешь. Мне дают запчасти в виде смонтированных сюжетов и текстов для ведущего. Я из этого составляю эфирную папку: на одной странице дикторский текст, на другой текст сюжета, на третьей написано «отбивка». Ну и так далее. Так эфир и катится. Я просто стреляю в эфир патронами, которые мне выдают.
– Патроны всегда поменять можно. Тебе дают холостой, а ты ставишь боевой, – не унимался Соколов. Он смотрел на этот вопрос проще: есть звено технологической цепочки, которое полностью зависит от Авдея. И это – самое последнее звено на пути к телезрителю. А самое главное, в Останкино такой же бардак, как и во всей стране. И грех это не использовать.
Колян всегда считал дерзость главной движущей силой любого творчества. А Соколов открыл ему новые горизонты. И действительно, чем его эфирная бригада хуже, чем все эти останкинские деятели? Действовать решили просто и эффективно. Нечаев вместе с «левой» камерой в течение двух дней записывал короткие интервью (или, как говорят на телевидении, «синхроны») Кучмы в самых разнообразных точках Москвы на темы, которые определил Соколов. Кучма терпел происходящее достойно: слава богу, говорить надо было на родном русском. Потом Влад на отдельную кассету сделал из этих синхронов нарезку. «Внедрять» Кучму в эфир начали с дневных выпусков. Например, во время сюжета о сессии НАТО в Брюсселе у ведущего выключался суфлер. В наушники поступала команда: «Работаем по бумаге». Ведущему ничего не оставалось, как читать следующую «подводку» из эфирной папки, в которой обнаруживался незнакомый доселе текст: «А вот что рассказал по этому поводу кандидат в президенты Украины». Конечно, после эфира ведущие удивлялись, но ведь и эфирную папку, и команду работать «по бумаге» они получали от самого Коли Авдеева, которому безгранично доверяли. Суфлер вырубал Нечаев. В наше время он бы смог просто вбить туда кусочек нового текста. Но тогда программа PROMPT для телесуфлеров была слишком несовершенной, и приходилось действовать примитивнее. Несколько дневных эфиров проскочили благополучно, а Кучма становился все более весомым экспертом. Руководители канала косились друг на друга, не понимая, кто же толкает Данилыча в эфир. Поскольку телевидение вместе со страной переживало трогательный переходный период между контролем ЦК и патронажем администрации президента, единого куратора сверху у телевизионных начальников просто-напросто не было. Поэтому в Останкино звонили все и почти все ругались. Но неразбериха не могла длиться вечно. Кольцо подозрений сужалось, а Леонид Данилович тем временем вернулся в Киев: сроки поджимали.
У Коляна Авдеева оставалось времени только на одну, последнюю «диверсию в эфире», как несколько глумливо описывал происходящее Соколов. Звездный час Нечаева пробил. Настало время использовать бархатный баритон.
24 июня 1994 года, за два дня до первого тура президентских выборов на Украине, Россия отмечала один из новых для себя праздников – День славянской письменности. Авторов кириллицы – Кирилла и Мефодия – как умели, чтили в третий раз в новейшей российской истории. Праздник как праздник. Конечно, не как у болгар, где гуляла вся страна, но зато статусно и как-то свежо. Вроде и патриотично, и православно, и недорого (главные празднования проходили лишь в одном из древнерусских городов), и в духе демократических веяний. Канал «Останкино» отправил во Владимир молодого, но опытного корреспондента Алексея Дронова. К 13.00 тот понял, что вместе со съемочной группой набрал достаточно материала для сюжета, и отправился из Владимира в Москву. К 15.30 тертый телевизионный водитель одолел 200 с лишним километров по свободной пятничной трассе: народ ломился на подмосковные дачи, а дорога в столицу была свободна. Написанный на колене и перенесенный в компьютер текст оказался у редактора в 16.20. В 16.50 текст был озвучен, и Лёха Дронов явился на монтаж, где его поджидал Влад Нечаев.
– Еще пяти нет, а я уже как папа Карло: и в другую область смотался, и текст написал, и еще на тусовку хочу успеть, – пожалился Дрон Нечаеву. – Давай попробуем быстренько смонтировать, и я пойду.
– Лёха, нет проблем. Можешь валить. Картинки много, я перекрою, – успокоил Дрона Нечаев, еще раз подтвердив репутацию надежного и мощного столпа эфира.
Леха не заставил себя уговаривать. В 17.10 он с легким сердцем покинул монтажную. К 17.40 Нечаев расторопно смонтировал трехминутный сюжет и вручил «мастер» Коле Авдееву.
– А теперь давай, Влад, действуй! На семичасовой этот пойдет. К девяти часам должен быть твой, – дрожащим от азарта голосом напутствовал товарища Авдеев. Ему было радостно и страшно: он одновременно собирался совершить служебный подлог, дать в эфир неточную информацию (а точнее, просто дезинформацию), оказать услугу старому товарищу, заработать денег, насрать на голову начальству и, по возможности, сохранить в чистоте совесть. Задача не для слабых духом. Авдей в четвертый раз за ту пятницу отхлебнул из услужливой бутылки армянского коньяка, которая спряталась за рядком кассет.
В 18.00 Нечаев достал из шкафчика губной микрофон, подсоединил его к «рекордеру» и переозвучил текст добросовестного Дронова. С небольшими, но понятными поправками. Через двадцать минут у Авдеева был второй «мастер» – кассета, с которой осуществляется эфир.
– Готово, – в 18.30 сообщил Авдеев Соколову.
– Готово, – в 18.45 обрадовал Соколов Кучму звонком в Киев.
В 19.00 в выпуске новостей телеканала «Останкино» прошел хороший и бодрый сюжет о том, как в городе Владимире отпраздновали день славянской письменности и культуры.
В 19.20 Виктор Степанович Черномырдин между делом поинтересовался у Юрия Константиновича Шафраника относительно того, как идут дела на Украине. Ответив, что хорошо, Шафраник перезвонил Соколову.
– Данилыч бодр, – рапортовал Соколов, подражая языку партработников. – Смотрите девятичасовой выпуск.
К 20.00 по московскому времени Лёха Дронов в теплой компании уже благополучно забыл, что ездил в какой-то Владимир.
Нечаев, отхлебнув вместе с Авдеевым солнечного армянского напитка, возмущался про себя, что его дебютный сюжет в программе «Время» пройдет под чужой фамилией.
Авдей перестал трястись и составлял новую эфирную папку.
Соколов радовался, что заставил Данилыча высказаться на все возможные темы.
Сам Данилыч понимал, что в первом туре ему уже не победить, а те избиратели, которые колебались, увидели его в слишком жалком свете во время беседы с Вольским. Нужен был прорыв.
Действующий президент Украины Леонид Кравчук верил, что второй срок ему обеспечен: через несколько часов наступал предвыборный день тишины, когда агитировать запрещает закон.
В 21.00, как всегда, вышел в эфир выпуск программы «Время». Сюжет о дне славянской письменности шел четвертым или пятым. Ведущий сообщил телезрителям, что «наш корреспондент Алексей Дронов» побывал во Владимире. Тепленький от коньяка и потому хладнокровный Авдеев запустил сюжет с нужной кассеты. Услышав в эфире голос Нечаева, Соколов понял, что все идет как надо. Хмельной Леха Дронов, оторвавшись от застолья, понял, что его эфирный голос стал на пару тонов ниже и как-то богаче. В общем, осознал, что голос не его. Леонид Кучма, а вместе с ним и все телезрители увидели, как уверенный в себе человек, невероятно похожий на кандидата в президенты Украины, во время празднования во Владимире говорит удивительно понятные вещи. О том, что все славянские народы – единая общность, с одним языковым корнем. О том, что русские и украинцы – братья навек. О том, наконец, что русский язык, безусловно, станет вторым государственным языком после его, Кучмы, избрания на пост президента. В тот момент и сам Леонид Данилович готов был поверить, что он побывал во Владимире. Соколов мысленно похвалил себя за то, что догадался сделать эту запись на фоне церкви. Нечаеву понравилось, как его голос звучит в эфире, и он решил больше никогда не представляться чужими именами. Авдеев спокойно дождался окончания выпуска и отбыл в свой кабинетик, в сопровождении коньяка. К телефону до утра он не подходил.
Буря, прокатившаяся ночью по кабинетам останкинских начальников, оказалась весьма конструктивной. Звонили все и всем: и демократы, и государственники. Выясняли, кто «отдал команду». Откуда дует ветер, никто толком так и не понял. Но российское политическое бессознательное постановило: Кучма выглядит достойно и надо ему помочь.