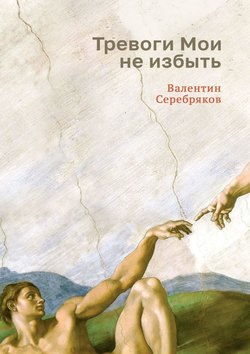Читать книгу Тревоги Мои не избыть - Валентин Михайлович Серебряков - Страница 5
Тревоги Мои не избыть
по мотивам верлибров Алена Боске
От автора
Как я его понял
ОглавлениеКнига состоит из семи разделов. Разбиение на разделы обусловлено не столько тематическими особенностями, которые нельзя не заметить, сколько желанием более равномерного распределения стихов и выявления дополнительных интонаций.
Первые три раздела: «Мои синонимы», «Быть счастливым изволь» и «Весы твои – Я» – несут на себе всю ответственность за название, которое Боске дал свой книге Переживания Бога. Главная роль в них принадлежит Богу, и разговор идет от имени Бога-Творца, Он главное действующее лицо и основной лирический герой. Почти каждое стихотворение этих разделов начинается со слов: «Бог сказал…»
Исследуя подстрочники этих верлибров Боске, я изумлялся его словесной эквилибристике, парадоксальности и неожиданности сравнений, смещению акцентов, гротеску и юмору. Удалось ли это передать в своей книге, судить читателю. Но и в моей книге Бог может сомневаться («мир создал Я, не знаю зачем»), радоваться и восклицать («Я – ваша громкая музыка слов»), сожалеть («У меня даже прошлого нет»), завидовать («соблазнителен Мне человеческий путь»), огорчаться («такая уж роль у Меня, и она никуда не годится»), не выделяться («Я как все быть хочу»).
Бог в книге не Дух, не Отец. Он – Творец! Творец, который радуется и любуется своими творениями, будь то камень, море, небо, просто живая тварь или человек. Ему как Творцу кажется, что если свойства и характеры созданной им природы, ее частей, явлений и живых существ, а то и их составные части поменять местами, то возникнет более устойчивая и гармоничная комбинация. Поэтому он всегда в состоянии поиска, в постоянных попытках что-то изменить, наделить другими свойствами свои создания («Я должен доделать Луну, камню твердость прибавить и успокоить колибри»). Понимая, что в мире много неустроенного особенно из-за бесконечного желания человека все подчинить себе, нарушая гармонию созданного мира, Бог старается перекроить мир, чтобы порядок был лучшим («Я не гордый: Мой мир совершенен не более, чем поэтом зачеркнутые стихи»).
В книге читатель не встретит ни умаления, ни унижения, ни оскорбления Бога, наоборот, в стихах это подчеркивается, что «унизить Меня, обругать, оскорбить невозможно». Но с Ним можно и нужно разговаривать, и Он сам к этому разговору стремится и ведет диалог с человеком на равных: «Я тебе для чего дал язык?.. Чтобы ты Мне мог противоречить», — и готов поменяться с человеком местами, подчеркивая его творческую потенцию: «Друг без друга мы не можем. Это Я тебя создал, ты Меня придумал тоже». Не теряя своей созидательной роли, Бог очеловечивается. Такой Бог не может удовлетворить самого человека, а придуманному Богу не нравится созданный им человек («Мне не нравится, как Я сотворил человека»), хотя Он и восхищается им: «Ты Мой любимец среди всех Моих разнообразных созданий», но избегает собственного возвеличивания («Останусь скромно, не покидая кров, на страницах Библии, среди ее слов»).
Бог в книге не религиозен («в Меня не обязан ты верить»), но в таком представлении Бога нет кощунства. И человек разрывается между своей телесностью, своим существом, неудержимым в своих проявлениях, и иной ипостасью («Ты дал Бога мне вроде меня, да вот я не пойму, это Ты или я»), в которой не всегда комфортно от ощущения присутствия Бога, от Бога, живущего в сердце человека («Я живу внутри вас, где всегда Я и жил»), от его мощи и любви, на которые не всегда хватает решимости и желания ответить взаимностью.
В следующем разделе «Раздвоение» лирический герой догадывается о своей непростой природе и как бы раздваивается, пытаясь разобраться в окружающем мире («Я – тот, кто своею стать хочет ошибкой»), разобраться в своих отношениях с Богом («Бог мной не доволен. Я об этом молчу»), с верой в Него («Я верую в Бога, не веря в Него»). И иногда трудно различить, от имени какого лирического героя – Бога или человека, – ведется разговор, так как они сливаются в своей одинаковости, похожести сомнений, рассуждений, переживаний, подтверждая, что являются образом и подобием друг друга («Слова Господь мне открывает, и я дарю их, пока Он спит»). Но в итоге соглашается с таким устройством мира («Так было, есть и будет»).
А в разделе «Растерзан, но счастлив» уже человек недоволен собой и сравнивает себя с предметами, окружающими его («Мой кузен – булыжник, невестка моя – стрекоза. Кран – брат-близнец, телефон – духовник»), которым он частично завидует («Я завидую крану, ржавому и грязному») и с которыми себя сравнивает («Я счастлив, как морская пена»). Но, всматриваясь в окружающую действительность, не может не возмущаться сложившимся мироустройством («Я цивилизован, да, я просвещен и бомбами изрядно оснащен… Зато мы полюбили „мирный“ Атом!»). Здесь все явственнее чувствуются боль и переживания человека, осознающего себя частью общества («Общество парализовано своим бездействием»), доходящего до отчаяния («Я хотел быть ванной, чтобы утопить себя»), но пытающегося нащупать выход из создавшегося положения («Я создаю нежность и нечто похожее на счастье. Плачу, люблю всех, наверное, перед концом»). Заключают раздел «Отдельные фрагменты», в которых представлены некоторые мысли, претендующие на афоризмы или на темы завтрашних стихотворений, до которых не дошли руки.
В разделе «О сокровенном» уже просматриваются, а то и непосредственно раскрываются автобиографические мотивы французского автора, что видно уже в названиях стихотворений: «Сын взрослеет», «Моему деду…», «Лето 1975» – год гибели при пожаре его отца, «Маме 85». Последний раздел «Гражданская война» самый маленький, он состоит из восьми стихотворений, не попавших в предыдущие разделы, потому что они взяты из других книг.