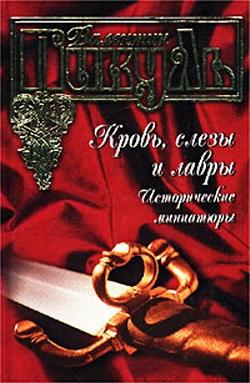Читать книгу Кровь, слезы и лавры. Исторические миниатюры - Валентин Пикуль - Страница 8
Аввакум в пещи огненной
Оглавление“Боишься пещи той? Дерзай, плюнь на нее – не бойся! До пещи той страх. А егда в нее вошел, тогда и забыл вся…”
Из темной глуби XVII столетия, словно из пропасти, нам уже давно светят, притягательно и загадочно, пронзительные глаза протопопа Аввакума – писателя, которого мы высоко чтим.
В самом деле, не будь Аввакума – и наша литература не имела бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже три столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим и образным языком – не церковным, а народным.
“Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, полнокровный голос. Это было гениальное “Житие” неистового протопопа Аввакума. Речь его – вся на жесте, а канон разрушен вдребезги!” – так говорил Алексей Толстой.
Реализм, точный и беспощадный реализм, убивающий врага наповал, этот реализм нашей великой литературы был порожден “Житием протопопа Аввакума”.
Первый публицист России, он был предтечею Герцена!
А кто он? Откуда пришел? И где пропал?..
“Житие” его включено в хрестоматию, и каждый грамотный человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому чудовищному вулкану – этому русскому Везувию, извергавшему в народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол, брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности.
Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума!
Скоморохи спускались с горы… Текла внизу матушка-Волга, а под горой лежало село Лопатищи; солнце пекло нещадно, день был работный. Еще загодя скоморохи напялили “хари” козлиные, загудели в сопелки, дурачась, забили в бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников два медведя плясали (один в сарафане бабьем, другой – как есть, ничем не украшен). Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки, кузнец отложил молот в кузне, из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, перестав сено ворошить на полях; всем стало весело.
Но тут вышел поп лопатищенский – прозванием Аввакум.
Молод еще, борода черная, в завитках, а глаза – угли.
– Не пущу в село! – объявил забавщикам. – Неистовство ваше бесовское еси, оставьте пляски антихристовы…
Скоморохи на него – в драку.
– Ах так? – осатанел поп, рукава ряски закатывая…
Много их было, а он – один. Зато люто и толково бился поп. Как даст по зубам – кувырк, и пятки врозь. Побил всех скоморохов, а бубны и сопелки с “харями” разломал. Но забыл Аввакум про медведей; скоморохи науськали косолапых на попа, и тут попу стало худо. Без ружья и рогатины, голыми руками – как медведей осилить? А звери уже лезли в драку, и тот, ученый, что в сарафан был одет, он на двух лапах шел; видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивало – нехорошо и муторно.
– Владычица, помози! – взмолился Аввакум и хрястнул медведя кулаком в ухо: зашатался тот, обмяк в сарафане и лег…
Второго мишку (который еще неучен был) прижал поп к себе, и стали они ухаживаться по кругу – кто кого свалит? Аввакум силищи непомерной – так стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло, взревел зверь и, оставляя после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а скоморохи – за ним…
Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу.
– Водицы мне, Марковна, – сказал жене и над порогом умылся от крови, полковшика испил “стомаху ради” и побрел на сеновал, где неделю отлеживался от медвежьих объятий…
Вот неспокойный поп! Ни с кем не ладил – ни с паствою, ни с боярством. Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан протопопа – стал Аввакум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы выволокли, “среди улицы били батожьем и топтали; и бабы били с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол…” Хотели горожане его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели, но тут воевода с пушкарями набежали – спасли владыку.
Таковы дела прошлые – дела святые, богоугодные…
Марковна всю ночь не спала – мужу лапти плела. Надел он лапти новые и спасался из Юрьевца до Костромы, а там, в Костроме, народ уже бил протопопа Данилу – таким же смертным боем, каким намедни били протопопа Аввакума, и побежал Аввакум далее.
Был год 1652-й – на Москве дышалось пожарами и смутами.
Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились, царь вопросил строжайше:
– Ты почто с Юрьевца бежал, людей без бога оставил?
– Великия шатания на Руси зачались, осударь… А меня в Юрьевце били, оттого и бежал. Протопопица с детьми малыми в лесу осталась – неведомо, живы или побиты?
В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона, который церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать.
– Вот срам-то где! – ярился Аввакум. – Царь уж нынеча и такой, и сякой, и намазанный… Властью пьян патриарх, толсторожи все, едят вкусно, прелестники никонианские! Деды наши ранее поборов не платили, а теперь откуда их царь выдумал?
– Молчи, – внушали ему друзья. – Иначе распнут тебя да все члены повыдергивают на Болоте Козьем… Эка мука-то египетска!
Но был Аввакум крепок в убеждениях своих.
– Никого не боюся! – возвещал открыто. – Ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни самого диавола…
Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал:
– Ишь, боров! Идешь коли, так брюхо-то у тебя, бодто гора какая, колеблется. Отъелся на объедках царевых, за то и царя похваливаешь! То романеи тебе шлют, то горшочек мазули с шафраном, то от арбуза полоску отрежут… Блюда царские ловок облизывать!
Про царя “тишайшего” Алексея говаривал Аввакум:
– Тоже кровосос… все они крови нашей алчут!
– Какова же вера твоя, протопоп? – спрашивал его царь.
– Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет…
Начались аресты расколоучителей, взяли и Аввакума. “Во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, сиречь есть захотел… На утро архимарит з братьей пришли и вывели меня; журят мне: “Что патриарху не покорисся?” А я от Писания его браню да лаю… велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, а под бока толкают, и за чеп трогают, и в глаза плюют… Сидел тут я четыре недели”.
Водили его на двор патриарший, где истязали всячески.
– Смирись, олух царя небесного! – кричал Никон и жезлом бил по спине, по рукам, по голове – куда придется…
– Покорности моей не узришь ты, лютер собачий!
Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы “расстричь” его в наказание. Царь “тишайший” за него тут вступился:
– Не надобно стричь дурака. Еще одумается…
С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. “Протопопица младенца родила – больную в телеге и повезли до Тоболь–ска; три тысящи верст недель в тринатцеть волокли телегами, и водою, и санми половину пути…” Приехали. И года не прожили, а уже пять доносов на Аввакума в Москву прибыли: мол, злодеен сей протопоп, на власть божию огнем лютым пышет. Указано Аввакуму из Тобольска далее ехать – в Даурский отряд боярина Афанасия Пашкова, а тому Пашкову повелели из Москвы протопопа умучить.
“О, горе стало! – вспоминал Аввакум. – Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменной яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! В горах тех обретаются змеи великия; в них же витают гуси и утицы – перие красное, вороны черныя, а гальки серыя… во очию нашу, и взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков – со зверми и со змиями, и со птицами витать”.
Аввакум начальнику своему говорил так-то:
– За што ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь?
Пашков свалил протопопа наземь, чеканом железным стучал по спине крепко, велел плетьми стегать, покуда пощады просить не станет. Аввакум всю лавку под собой зубами изгрыз… Пашков при этом похаживал да порыкивал:
– Взмолись о милости, иначе насмерть забью.
– Не щади мя! – отвечал Аввакум. – Не взмолюсь… Кто здесь человек, так аз грешный, а ты – зверь. Что ж, губи!
Всего в крови, сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули: пущай валяется!
Настали морозы ядреные, сибирские, бороды казаков закуржавели от инея. Привезли Аввакума в Братский острог, “и сидел до Филиппова поста в студеной башне… Что собачка в соломе лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил, – и батожка не дадут, дурачки? Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много…” Выжил. Вытерпел. Весны дождался. А жена с детьми была от Братского острога подалее отослана, чтобы по мужу не плакалась.
Отряд Пашкова двигался на страну Даурию – больше волоком, через реки великие, через пороги высокие. Аввакум, как бурлак (точнее – как лошадь), был впряжен в бурлацкую лямку и в воде по грудь, заодно с казаками, тянул бечевой лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. (“У меня, – писал он потом, – ноги и живот синь были”.) А когда реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше…
Велика сила была в этом человеке!
А годы текли – как вода Ангары, Нерчи и Шилки…
Аввакум казаков уже не раз на бунт подмачивал:
– Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает! Эвон, и Пашков наш, дай ему Бог здоровьица: много он вашему брату ребер сломал и кнутом бил, одного сжег до смерти на костре, двух повесил, а других послал – голыми! – за реку, гнусу таежному на съедение… Ну, до чего же хорош воевода у нас!
В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог (нынешний город Нерчинск), где воевода “переморил больше пяти сот человек голодною смертию… озяблых ели волков… сам я, грешный, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим, звериным и птичьим мясам…”. С Нерчи-реки возвращался протопоп с женою и с детьми нартами – сами пеши по льду. Иной раз протопопица падала на лед, не в силах идти.
– Долго ль муки сия, протопоп, будет? – спрашивала.
А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение:
– До самыя до смерти, Марковна…
Ох, и крепкая же была жена – под стать мужу.
– Добро, Петрович, ино ишо побредем…
Сибирь, Сибирь – край непочатый, пулями Ермака просвистанный, золотая страна и дивная. Зорко запоминал Аввакум богатства сибирские, лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигают – все примечал поп! В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно Аввакум был мягок и все живое любил… Была у него курица, детишкам его яйца носившая. Случайно – при езде в нартах – придавили ее. “И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет… нас кормила, а сама с нами кашку сосновую ис котла тут же клевала, или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала”.
Одиннадцать лет ссылки закончились.
Аввакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух протопопа сломлен лишениями…
Теперь можно явить его пред светлые царские очи!
Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных распрей того времени. Для нас важно другое: Аввакум вроде бы выступал против патриарха Никона и реформ церковных, но тяжелая артиллерия его проповедей – заодно уж! – громила и царские хоромы; ядра брани неистового протопопа летели прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди… Потому и страшен был протопоп!
“А кого Бог и народ бережет, – писал он в те дни, – того ни царь, ни свинья не пошевелит”. В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михайлович с Аввакумом.
– Горе всему народу русскому выпало, – возвестил царю Аввакум. – Стрельцы твои завсе мужиков обобрали, чем же дальше-то россияне свои животы держать станут?
Царь будто побагровел от гнева и рявкнул:
– На колени пади, пес!
Но не так-то легко поставить Аввакума на колени.
– От пола твоих хором до моих ушей далеко, – отвечал он. – Так-то, стоя перед тобою, мне тебя лучше слыхать.
“Тишайший” царь грозил, что закует его в цепи.
– Меня заковать легко, а вот народ-то все чепи с себя посрывает да на тебя их водрузит, каково тогда будет?
Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы.
Аввакум с кровью выплюнул их в лицо царю.
– Боисся ты меня! – сказал он. – Оттого и лютуешь…
Недолго погостил Аввакум в белокаменной, и в 1664 году сослали его в Мезень – опять с протопопицей и с детьми, кои в ссылках да тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников (а средь них знаменитую боярыню Феодосию Морозову).
Через два года из Мезени опять в цепях потащили протопопа на Русь. Сообщал он: “И бороду враги божии отрезали у меня… Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь – болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил дьявол…”
К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в петле, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопа удавить, да царица его пред царем отстояла, отчего в семье царской “великое нестроение” случилось. Аввакума, в цепи закованного, все время увещевали. Таскали, бедного, из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поставили Аввакума на суде перед патриархами. “Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было – велико войско собралось!”
Нет! Не покорился протопоп синклиту духовному…
А народ не безмолвствовал. Царю докладывали, что “от Аввакума всенародный мятеж происходит”. Протопоп возвещал открыто:
– Народ – что море: разволнуется – не уймешь!
Распалилась мужицкая дума!
Чу: засеченных смертный крик!
Брызжут искры костра Аввакума,
Слышу Разина грозный рык!
По Волге уже бродили буйные ватаги Стеньки Разина, и власть царская ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями раскольников на Москве… Аввакума с его друзьями, Епифанием и Лазарем, увезли на этот раз далеко – в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на краю света, близ Студеного моря… Холодно там, голодно там! В земле промерзлой выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца, и в яму эту спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам, бросали.
Здесь под визги полярной метели протопоп Аввакум создает капитальное произведение русской литературы – “Житие протопопа Аввакума”. Отсюда, из пустозерской темницы, он рассылает по Руси “подметные” письма – обличающие, негодующие, к бунту зовущие.
Это был кремень, а не человек!..
В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, а на Волге уже полыхало пламя крестьянской войны; голытьба кричала: “Сарынь, на кичку!”1– и тряслась толстомясая боярская Русь. Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, которая вскоре принесла ему сына – будущего императора Петра I. В ночь на 16 января взяли на Москве “духовную дочь” Аввакума, боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу, двумя перстами грозя, – и такой запомнил ее народ, и такой она вошла в наше сознание, навеки закрепленная на холсте кистью Сурикова… Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен, “да бояре не потянули”. В 1675 году, умирая от голода в темнице, Морозова просила стражника: “Помилуй мя, даждь ми калачика!” Он же рече ей: “Ни, госпоже, боюся”. Тогда попросила она его выстирать для нее сорочку – и он эту просьбу исполнил.
Так и умерла! А вскоре умер и царь Алексей Михайлович – на престол воссел его слабоумный сын Федор.
– Аввакума-распопа, заблудша в ереси, – велел он, – с его товарыщми в огонь ставить и в огне том жечь…
Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над юдолью Пустозерска широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки… Дрова подожгли – замолчали все, только слышался треск жарких сучьев да шипение бересты.
Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских не слушали, а властям царским не покорялись.
– А коли покоритесь, – грозил он, – вовек погибнете, и городок ваш занесет песком до крыш самых…
Огонь охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний – то неизвестно) закричал от страшной боли.
Аввакум наклонился к нему и стал увещевать:
– Боишься пещи сей? Дерзай, плюнь на нее…
Так и сгорел.
А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский взошел малолетний царь Петр I, и на Руси начиналась совсем другая эпоха – тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами…
В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта писатель С. В. Максимов. Пустозерск уже наполовину занесен песками, а другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказал ему:
– Протопоп чуял, что быть-де мне во огни. И распорядок такой сделал: свои книги роздал! Народ, пустозерский и стрельцы, кои приставлены были, советовали бежать, да Аввакум не согласился, милостей не принял, советов не слушался: велел себя жечь и вошел в пещь, будто в рай…
Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум “свои книги роздал” пустозерцам. Ведь его “Житие” не дошло до нас в подлиннике – оно известно лишь в списках-копиях…
Вся лучшая наша литература была заражена “аввакумовщиной”.
Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с “Житием протопопа Аввакума”, он говорил друзьям: “Вот книга! Каждому писателю надо ей изучать…”
Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух “Житие”.
В мыслях о судьбах родины Максим Горький не оставлял тяжких раздумий о протопопе Аввакуме, которого он относил к числу виднейших прогрессивных писателей мира.
Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, Леонов, Пришвин, Федин – никто не прошел равнодушно мимо писаний Аввакума… На Первом съезде советских писателей имя протопопа Аввакума упоминалось как имя писателя-бойца, который способствовал развитию гражданских мотивов в нашей литературе.
Героический образ Аввакума был сродни и русским революционерам: его стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить тюрьмы и ссылки. Наконец, в тяжкие дни ленинград–ской блокады образ Аввакума вошел в стихи Ольги Берггольц:
Ты – русская дыханьем, кровью, думой,
В тебе соединились не вчера
Мужицкое терпенье Аввакума
И царская неистовость Петра.
На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос новый культурный центр – Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя – все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то Аввакума…
На мраморной плите памятника золотом было оттиснуто имя протопопа Аввакума, сожженного за “великие на царский дом хулы”. Советская печать отметила это важное событие: “Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой святыней…”
Факт, конечно, поразительный!
И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского Севера не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях чтил и высоко ценил слово писаное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и складней, еще лежит заветный подлинник “Жития протопопа Аввакума”…
Романтики не теряют надежды найти его!