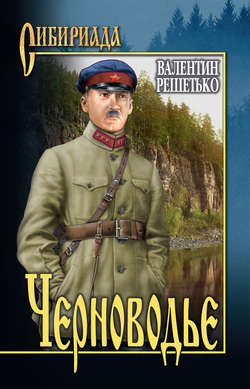Читать книгу Черноводье - Валентин Решетько - Страница 10
Глава 8
ОглавлениеПрошли еще одни сутки… Стоит тихая северная ночь. Полупрозрачная белая муть накрыла все вокруг. Ближе к утру сильно посвежело. Тусклым серебром светилась неоглядная обская гладь. И где-то на ее просторах затерялся «Дедушка» с двумя баржами на буксире.
Стоявший с вечера в карауле Иван изрядно продрог. Тонкой корочкой льда покрылась влажная палуба. Поскользнувшийся на льду Кужелев вполголоса выругался и привалился спиной к перегородке. Илья Степанович, напарник Ивана по караулу, сидя пристроился на своем излюбленном месте, втиснув крупное тело в широкую щель ограждения. Они давно уже не вели между собой разговоров: все пересказано за эти дни. На барже было тихо, только из трюма иногда доносились приглушенные сонные вскрики.
Распустив черный шлейф дыма, астматически хрипел «Дедушка». За его низкой кормой натужно горбились маслянистые валы, поднятые пароходными плицами. Вдруг откуда-то издалека, с едва видневшегося берега, подул слабый ветерок. Он с каждым мгновением набирал силу. Речная гладь вначале потемнела, затем побежали невысокие волны, и вот уже она, как взбесившийся медведь, встала на дыбы. Со все нарастающей силой волны били и били в борта ветхой баржи. Она с надсадой скрипела и угрожающе потрескивала. Нос ее стал тяжело зарываться в воду. Неистовый ветер играючи баловался со сцепленным караваном, буксирный трос, напряженно вытянувшись, гудел на низкой басовой струне.
Из каюты выбежал шкипер. Оглядевшись, он испуганно перекрестился:
– Мать честна! Сроду такой бури не видел!
Ложась всем телом на ветер, широко расставив ноги, старик медленно двинулся к трапу, который вел на рулевую площадку. Ухватившись за бревно, он всем телом навалился на него. Толстое правило, как живое, вырывалось из рук старого шкипера. Перекрывая шум ветра, он закричал:
– Иван, помоги!
Кужелев посмотрел на винтовку и бросил ее Илье Степановичу:
– Подержи!
В следующее мгновение он был уже наверху. Вдвоем с Ерофеем Кузьмичом с трудом усмирили руль, нос баржи перестал рыскать.
Шкипер прочно закрепил правило веревкой, облегченно вздохнул и огляделся. И тут же, перекрывая шум ветра, испуганно прокричал Кужелеву в ухо:
– Беда, паря! Пароход сносит на берег. Разобьем баржишки о топляки.
В эту же секунду высокая черная труба парохода окуталась белой шапкой пара. Над рекой поплыл низкий рев гудка. На носу парохода суетливо метались человеческие фигуры. Перекрывая шум бури, с грохотом, лязгом пошла в воду якорная цепь и, вытянувшись, застыла напряженной прямой линией. Старик со страхом и надеждой смотрел на нее.
– Кажись, заякорились! – наконец облегченно проговорил Ерофей Кузьмич.
– Е-е-е-тя, е-е-те-чка, ы-о-чек! – из трюма донесся жуткий женский голос. От этого нечеловеческого крика, похожего на звериный вой, мороз пробежал по коже. Шкипер сдернул шапку с головы и испуганно перекрестился:
– Кто-то помер, царствие ему небесное! – проговорил старик дрожащим голосом.
У Кужелева оборвалось сердце, он узнал голос Анны Жамовой… Анна стояла на коленях и держала перед собой завернутого в ватное одеяльце ребенка. Его головка, запрокинувшись, безвольно повисла. Открытый глаз отблескивал в предрассветных сумерках. Казалось, он напряженно и укоризненно рассматривал обступивших Анну людей. Старая Марфа подошла к стоящей на коленях матери и решительно забрала сверток в руки.
– Дай-кось сюда, Анна. Нехорошо так-то. Глазки надоть закрыть, – старуха, тяжело опираясь рукой о тюк, опустилась на колени рядом с Анной. Она осторожно положила сверток на пол, потом так же медленно полезла рукой в глубокий карман на юбке. Долго шарила там и достала тряпицу, завязанную в маленький узелок. Развязав, она взяла из него два медных пятака. Затем так же обстоятельно и неторопливо завязала узелок и положила его в бездонный карман. Склонилась и осторожно, мягким движением прикрыла веки мертвому ребенку, положив на них медные пятаки. Марфа стояла на коленях и буднично приговаривала:
– Успокоилась душенька… Может, оно и к лучшему. – Затем подняла глаза к потолку и истово осенила себя размашистым крестом: – Прими, Отец наш, в Царствие Твое небесное безгрешную душеньку раба Твоего, младенца Петра.
Погребальным звоном младенцу Петру были тяжелые удары волн о деревянные борта баржи да заунывный свист ветра и шум разбушевавшейся стихии. Вокруг двух коленопреклоненных женщин молча стояли обитатели трюма.
Рядом с умершим братишкой лежал Васятка, он тяжело, с хрипом дышал, разметавшись от нестерпимого жара, который полыхал в его худеньком тельце.
Буря трепала караван больше двух суток. Наконец на третьи погода стала улучшаться. Ветер, свирепствовавший все это время, стал порывистым; он то стихал на короткое время, то кидался на баржу с новой силой. Только на третьи сутки измученная Анна забылась чутким сном. В один из таких кратких перерывов затишья к Васятке вернулось сознание. Его бил жестокий озноб. Почувствовав перемену в сыне, Анна сразу же проснулась. Она привстала и заботливо поправила на сыне одеяло. Вася тихо позвал:
– Мама!
– Что, сыночек? Тебе лучше?
– Лучше… Только холодно сильно! – У мальчика стучали зубы. – Мама! – хрипел Васятка, зовя мать.
– Что, Василек? Что, родненький? – У женщины дрожали губы и лихорадочно блестели глаза.
– Мама, если я помру, как Петька, не закапывайте меня в ямку раздетого, – мальчик говорил отрешенно, равнодушно, точно речь шла не о нем, а о ком-то постороннем. – Как холодно, мама!
Анна чуть не задохнулась от приступа острого, невыносимого горя. Прерывающимся голосом она сказала:
– Что ты, Васенька, Петька спит. Вон видишь! – И она показала рукой на завернутый трупик ребенка, лежащий в головах.
– Помер Петька, я знаю! – прохрипел Васятка. Он тяжело дышал и едва слышно прошептал: – Ой, как болит у меня в грудке, – и потерял сознание.
…Днем ветер окончательно стих. Обь успокоилась, на голубом небе полыхало яркое солнце. От бури не осталось и следа. А поздним вечером, на закате солнца, умер и Васятка. Анна не плакала. Она лежала рядом с мертвым сыном на полу трюма и крепко прижимала его к своему телу. Лежала молча, без движения, словно и сама умерла. Малолетняя Танька сидела рядом с матерью и трясла ее за плечи.
– Мамка, мамка! – плакала взахлеб девчонка. – Мамка, не умирай!
Давясь слезами, Настя оторвала Таньку от матери. Крепившаяся все это время, она не могла больше выдержать и горько плакала. Из глаз у нее бежали слезы. Плакала не навзрыд и не в голос, как плачут деревенские бабы, а молча – сквозь сжатые зубы едва слышно прорывался мучительный стон.
– Не плачь, Танька, не плачь! – раскачиваясь, Настя всем телом прижимала к себе сестренку. – Не умрет мамка. Тяжело ей щас, пусть побудет одна!
Измученная Анна действительно была сейчас далеко, далеко… Ее сознание отказывалось воспринимать случившееся. Не будь воспоминаний – этой спасительной ниточки, – в которые погрузилась Анна, ее сердце могло бы не выдержать.
…И был тогда теплый весенний день. Ослепительно светило солнце. В деревне праздник – разгульная, веселая Пасха. Молодежь в ярких одеждах толпами гуляет по улице. Слышна веселая перекличка звонкоголосых гармоней. На просторной поляне, уже заросшей молодой зеленой травкой, установлена высокая качель. И она, Анна, качается в паре с Лаврентием. Молодой крепкий парнина белозубо улыбается ей. Рот обрамляет мягкая бородка, с хмельными от радости глазами, он все раскачивает и раскачивает свою напарницу. Праздничный сарафан бешеной птицей вьется вокруг девичьих ног.
Ей кажется: еще мгновение, и вся одежда слетит с нее… Анна испуганно сжимает колени, пытаясь прижать, поймать подол, а сарафан вырывается, как живой, и стелется за девушкой ярким весенним цветком.
А Лаврентий все наддает и наддает, качель взлетает все выше и выше. У Анны сладко и в то же время больно замирает сердце. Оно то бьется жарким комочком где-то около горла, то, скатившись вниз, неприятно холодит грудь…
Как больно бьется сердце. Как нестерпимо больно оно стучит в груди. Только воспоминания и были для Анны спасительной ниточкой.
Как всегда водится по русскому обычаю, в доме, где лежит покойник, было тихо. Не слышно шума молодежи, прекратились бесконечные долгие старушечьи разговоры. Только тяжелые вздохи да укоризненно-ворчливый голос старухи Марфы:
– Ос-по-ди, где же Твоя справедливость? Почему не прибираш нас, старух? Почему забираш к Себе малых да несмышленых?
Им бы жить да жить! Ос-по-ди!
Акулина Щетинина сквозь слезы смотрела на закаменевшую в горе подругу и с ужасом переводила взгляд на больную дочь: Клава уже не поднималась. Здесь же, на мешке с одеждой, сидел мужик со свалявшейся русой бородкой и потухшими, глубоко ввалившимися глазами. Мощные руки, способные одним ударом свалить быка, бессильно подрагивали на коленях. В глазах у него мучительный вопрос: как сейчас этими сильными руками можно кого-нибудь поддержать, куда их подставить, если родные дети растаяли у тебя на глазах? Скупые мужские слезинки одна за другой катились из глаз. Лаврентии смахнул их пальцем и глухо сказал:
– Ладно, Анна, убиваться. Все одно ничем не поможешь. Хоронить надо. Петька – третий день пошел, как лежит. О живых думать надо. Слышь, мать!
Он тронул неподвижно лежащую жену за плечо:
– Пойду к коменданту насчет похорон!
Лаврентий встал с мешка, какое-то время еще потоптался на месте, не решаясь двинуться к выходу, наконец – тронулся.
– Ну ладно, пошел я.
Он осторожно протиснулся через толпившихся рядом людей и пошел к лестнице, которая вела из трюма на палубу баржи. Жалобно скрипнули деревянные ступени под свинцово-тяжелыми шагами. Почерневший за эти дни Лаврентий с глубоко ввалившимися глазами вышел на палубу и зажмурился от яркого солнца. Он прикрыл глаза широкой ладонью и, немного привыкнув к свету, огляделся. На дежурстве стоял односельчанин – Иван Кужелев.
Лаврентий окликнул Кужелева.
– Иван, позови коменданта!
– Че, дядя Лаврентий?
– Похоронить ребят надо.
– Каких ребят? Кто еще помер?
– Васятка.
– Ва-сят-ка?! – растерянно проговорил Иван.
– Васятка, – с горечью подтвердил Лаврентий.
Жалость перехватила парню горло. Он растерянно кашлянул, руки бессильно опустились, приклад винтовки глухо стукнул о деревянную палубу. Иван повернулся и медленно пошел в каюту.
Из двери вышел комендант и подошел к ограждению.
Хиленький заборчик, слепленный на скорую руку из некромленных досок. И крепости в нем нет никакой, а держит людей крепче любого капкана. По одну сторону его – свобода, по другую – неволя. И никуда не сбежишь, никуда не спрячешься! Кругом – вода, кругом – тайга.
– В чем дело? – спросил комендант, его серые глаза холодно смотрели на Лаврентия.
– А то не знаешь, начальник! – усмехнулся невесело Лаврентий. – Похоронить покойников надо!
Стуков не обратил внимания на реплику Лаврентия, посмотрел на воду, на пароход, стоящий невдалеке, по которому уже суетливо бегали матросы.
– Можно и похоронить, погода успокоилась. Только торопитесь, скоро отплываем.
Старуха Марфа обряжала покойника. Когда она стала заворачивать мальчика в холстину, Анна остановила ее.
– Погоди маленько, Марфа! – попросила она старуху бесцветным голосом и обратилась к дочери: – Настя, достань Васино пальтишко, валеночки, шапку.
– Зачем, мама?
– Найди, дочка, найди! Это последняя воля его! – у Анны блеснули на глазах слезинки.
Настя развязала узел и достала теплые детские вещи. Анна подала их старухе:
– Обряди, Марфа, Васю в теплую одежду.
Старуха молча развернула мальчика и стала его одевать.
– Пусти теперь, я прощусь с ним! – Анна склонилась над сыном, заботливо завязала под подбородком завязки на шапке и припала к нему, целуя его в лоб, в щеки. Простившись, она подняла голову.
– Простись, Настя, с Васей!
Девушка склонилась и поцеловала мальчика в лобик.
Мать поискала глазами младшую дочь.
– Таня, простись с братиком!
Девочка отшатнулась в сторону:
– Нет! Нет! Не-е-т! – громким голосом закричала она и забилась в истерике.
– Не трогай, Анна, ее, – проговорила тихо Марфа. – Родимчик может хватить. Тяжело это детской душе.
Анна снова поцеловала сына, припала к нему, замерев на короткое время, потом поднялась и сказала старухе:
– Заворачивай, Марфа.
Старик шкипер выливал воду из широкой плоскодонной лодки, которую придерживал за веревку Илья Степанович.
– Ты гляди, как нахлюпало! – не переставая удивляться, ворчал Ерофей Кузьмич, выливая старым ведерком воду из лодки. Наконец показалось дно. Он взял тряпку и обтер ею борта, высушил дно, выжимая тряпку за борт. Старик придирчиво оглядел сухую лодку и удовлетворенно сказал:
– Слава тебе осподи, кажись, все!
Илья Степанович посмотрел на старика.
– Отступился от нас Бог, дед. Ты посмотри кругом, че делается, и Бога выгнали, и людей с места сорвали…
– Чего хорошего, с насиженных мест людей на погибель гнать! – согласился с милиционером Ерофей Кузьмич. Он вставил греби в уключины и полез на низкий борт баржи.
Из трюма показался Лаврентий Жамов с белым свертком на руках, за ним поднялась Настя с таким же свертком – только поменьше, за ней Анна и еще несколько человек.
Лаврентий подошел к краю баржи и растерянно смотрел на бьющуюся о борт лодку.
– Погоди, дядя Лаврентий, я сейчас! – крикнул Иван Кужелев. Он быстро отставил винтовку в сторону и не мешкая спрыгнул в лодку.
– Ты почему с поста ушел? Кто разрешил! – закричал нервно комендант.
– Не кричи, – угрюмо пробасил Жамов, – покойники здесь лежат.
Стуков притих.
Иван принял сверток из рук Жамова, затем второй от Насти и положил их рядом на дно в носу лодки. Помог спуститься Анне и Насте. Спустился и Лаврентий, лодка тяжело осела в воду.
Иван крикнул:
– Бросай веревку, Илья Степанович!
– Куда бросай, – спохватился шкипер, – а лопату, топор?!
Старик быстро подошел к пожарному щиту, который был закреплен на стене каюты, и снял с него инструменты.
– Спасибо, Ерофей Кузьмич! – Иван благодарно посмотрел на старого шкипера и уложил все в лодку. Потом он заботливо усадил женщин, Лаврентий пристроился в корме и взял в руки кормовое весло. После того как все угнездились в лодке, Иван поднял голову и сказал коменданту:
– Слышь, комендант, я сам себе разрешил. – Кужелев показал на Настю рукой: – Жена это моя перед людьми и Богом, понял! Пушку можешь забрать, она мне больше не нужна, – и с горечью закончил: – Я бы даже тебе не пожелал закапывать собственных детей в землю…
Как-то неловко закашлялся старый шкипер:
– Вот, елова шишка, простыл, че ли? – и вытер заскорузлой ладонью бородатое лицо. У хмурого Ильи Степановича в глазах мелькнул и тут же потух живой огонек.
Иван взял в руки гребь и оттолкнулся от баржи. Васю и Петю похоронили на высоком обском берегу под могучей раскидистой сосной. Насыпав небольшой песчаный холмик, Кужелев аккуратно прихлопал его лопатой и сделал затес на корявом стволе. На белой древесине выступило множество капель живицы – чистых и прозрачных, как слезинки. По затесу Иван старательно вывел химическим карандашом:
«Здесь похоронены Петр Жамов – от роду шесть месяцев, Василий Жамов – от роду восьми лет. – Потом подумал маленько, взял топор и вырезал выше затеса небольшой крестик. Отошел от сосны к скорбно стоящим Жамовым, взял Настю за руку и совсем не к месту сказал:
– Благослови, дядя Лаврентий, и ты, тетка Анна. Прости, что повенчала нас с Настей эта могилка.