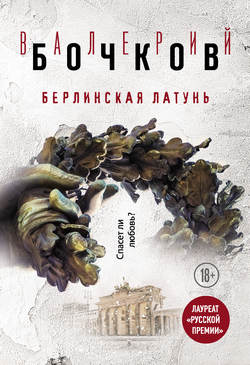Читать книгу Берлинская латунь (сборник) - Валерий Бочков - Страница 3
Берлинская латунь
2
ОглавлениеНе открывая глаз, я уже видел вязкое сырое небо. Будто политый черным лаком, сиял мокрый купол Французской церкви с вызывающе золотым ангелом на маковке; чуть левее, за невысокими крышами – двуглавая деревенская кирха в Николаифиртель, еще дальше маячила неизбежная телевышка. В брешь дремоты проник бой часов на какой-то башне, глухой и тягучий, словно звонили под водой. Звук, мешаясь с остатками сна, тянул и тянул в блаженную бездну. Вкралась какая-то неточность, пошла рябь, вот ангел растаял над куполом, исчез и купол, все куда-то сладко потекло, похоже, в сторону счастья. Кто-то прошептал: «Тихо… молчи. Пусть говорит ветер». Я согласился: «Пусть». «Ты ведь все равно никогда не скажешь лучше и яснее, чем это сделают белые облака своим скольжением по голубому небу». – «Я и не пытаюсь», – снова согласился я. «Вот и не пытайся», – прошептал кто-то.
Заснуть оказалось легче, чем я предполагал. На грани сознания и дремы возник толстый красивый военный, улыбчивый и хитрый. Палевый мундир, золотые крученые аксельбанты, в петлицах – бронзовые пропеллеры. Бывший пилот Геринг. Он предложил название «эскадрилья прикрытия», хоть уже давно не летал, но любил щеголять авиационными терминами. «Шутцштаффель» звучало хлестко и энергично. Сокращенно СС – тоже неплохо.
Гитлер никому не доверял разработку визуального бренда своей партии, сам усердно царапал наброски в карманном блокнотике на пружинке. Символом СС стали две белые руны «зиг» на черном фоне.
Адольф, послюнявив карандаш, затушевал покрепче фон, обвел контуром в виде щита. Художник он был неважный, без фантазии, знал это и пытался компенсировать хромой талант усердием. Начитавшись Кюммера, Гитлер верил, что руны служат мостом, соединяющим человека с древними арийскими богами. Каждая руна соответствует определенной позе. Он выставлял руки углом вбок и торжественно говорил:
– Кауна! Я – факел! Кауна! Ты чувствуешь жар, Мартин? – Фюрер, сияя мальчишеским задором, топырил тощие пальцы. – Я направляю рунический поток!
Руническая магия (как он считал) позволяла управлять различными энергетическими потоками, излучаемыми пятью космическими сферами. Для этого нужно лишь принять правильную руническую позу и настроить сознание на восприятие потока энергии, повторяя магическое заклинание. Рунический звук. В случае с огнем заклинанием было слово «кауна».
– Кауна! Жар! Ты чувствуешь жар?
Мартин не отвечал, у Мартина не было лица, лишь бледное пятно. Сознание растерянно шарило, впопыхах что-то нащупав, вытянуло и показало. Не то! Печеная голова министра пропаганды, черная, с беличьим оскалом и дырками вместо глаз. Вот гадость! Пытаясь стряхнуть видение, нырнул глубже, но сволочь Йозеф все испортил: за ним поплыли грязно-серые тела, голые, похожие на сломанных кукол без признаков пола, удивленно распахнутые печи крематория, кирпичные трубы с жирным дымом. Железный бульдозер сгребал тела в груды. Выбора не оставалось, я проснулся.
Дождь почти перестал. С площади донеслось нытье саксофона, кто-то фальшиво выдувал Гершвина. У бордюра стояло кремовое такси со спящим брюнетом за потным стеклом. Вспугнув пару голубей, мы перешли через пустую улицу, Мария на ходу пыталась отцепить шарф, пойманный на крючок сережки.
Ветер пахнул чем-то жаренным на углях, почти дьявольский запах для столь раннего часа. За маскарадной аркой с суетливо моргающей неоновой надписью «Вайнахтсмаркт» бледнели тугие шатры местной ярмарки. На шпилях шатров топорщились желтые звезды, похожие на морских ежей. В центре, где летом бил фонтан, высилась исполинская ель в разноцветных огнях. У полосатой будки при входе ряженый гренадер отрывал билеты. Делал он это строго и серьезно.
Мария замешкалась, выудила мелочь, наклонившись, опустила в футляр саксофониста. Тот, продолжая дудеть, улыбнулся ей бровями. На дне футляра валялись одинокая бумажка и несколько монет. Я отвернулся: все, что так или иначе касалось музыки, я воспринимал нервно и почти лично. И этот рыжеватый тип в войлочном буром пальто, с альт-саксофоном, казался мне почти родственником, вроде сводного брата. Того самого, которого ненавидишь и стыдишься и готов вычеркнуть из жизни. И которого жаль до слез.
На кованой инквизиторской жаровне – решетка висела на цепях, под ней в чугунном котле пылали угли – пеклись румяные сардельки из Тюрингии. Кожица лопалась, сок, шкворча, тек в огонь, в дыму и колбасном духе проворная девка орудовала кочергой. Другая, с ядреной шеей, весело наливала пиво. Я проглотил слюну и отвернулся.
В соседнем шатре торговали щетиной. Густобровый немец, с сединой в усах и широкой бороде, щурясь, с едва заметной ухмылкой разглядывал народ. Он явно знал про щетину что-то, о чем не догадывались наивные гуляки. Тут были кисти и щетки всех размеров и форм: щетки для одежды, для чистки обуви, какие-то микроскопические шомполы для чистки труб муравьиных диаметров, тут же щетка-великан – этой запросто можно надраить паркет в целом Версале. Я взял помазок для бритья, тронул упругую щетину ладонью. Немец хитро глянул на меня.
– И сколько? – спросил я неуверенно.
– Это бобер, – уклончиво ответил дядька. – Но летний.
– А зимний? – Я чувствовал, что втягиваюсь в какую-то игру. И оказался прав – бородач тут же выставил шесть помазков.
– Это зимний. – Он указал на один. – Бобер из Шварцвальда. Но не хвост.
– А этот? – Я ткнул в белесую кисть с точеной ручкой из липы.
Немец лишь посмотрел искоса. Подавшись вперед, проговорил вполголоса:
– Свиная. – Он чуть покачал головой, словно подавая тайный знак. – Жесткая, очень жесткая. Но старики любят, они привыкли. Любят, когда жестко.
Я подумал о тех стариках и представил, как они привыкали: простор и зной, кругом перезрелая рожь, на горячей броне «Тигров» белобрысые пацаны мылят щеки, ловко орудуя свиными помазками. Привыкают.
– Вот! – Дядька со стуком выставил на прилавок кисть, словно объявлял мне мат. – Вот! Зимний бобер, район Вислы и Одера. А главное – хвост!
Я покорно кивнул.
Грянула музыка. Мария потащила меня к елке, звуки веселья раздавались оттуда. Я выудил из кармана помазок и показал ей.
– Это что?
– Бобер с Вислы.
Вокруг сцены вовсю торговали глинтвейном, горько пахло мускатным орехом и корицей, горячим вином. Глювайн (так ласково, с голубиным воркованием называют этот напиток в Берлине) из дымящихся чанов разливали по керамическим кружкам. Мужик с лицом хулигана, но в роскошном цилиндре, выдал нашу порцию, сообщив, что берет пятерку под залог кружек. Подмигнув, предложил плеснуть в глинтвейн рому. Я согласился.
Алкоголь до полудня не входит в мой обычный рацион. Ром шибанул в нос, от горячего вина тут же поплыла голова. Я в три глотка прикончил свою порцию. Погода заметно улучшилась, музыка стала почти терпимой, Мария… Впрочем, Мария всегда была восхитительна. Она мне что-то говорила, я улыбался, согласно качая головой. Мимо текли милые немецкие лица: две кармелитки, неразличимые, как близняшки, обе в черном и в одинаковых белых наколках, с ангельской радостью взглянули на меня, рыжий пацан кормил толстую таксу шоколадом, та урчала и крутила упругим хвостом, усатый шарманщик в шляпе с пером весело вращал ручку пестрого ящика (на крышке была нарисована принцесса в лазоревом платье, из-за угла к ней скакал рыцарь, пробиваясь через золотые виноградные гроздья). Дородная красотка в тесном баварском костюме с пестрыми лентами василькового цвета раздавала с подноса вишню в сахарной пудре и ломтики яблочного пирога.
Наверху загорелся край облака, не спеша вынырнуло солнце, площадь с ярмаркой и двумя церквями по флангам тронулась и нежно поплыла. Я зажмурился и благодарно подставил лицо солнцу.
– Смотри! – Мария дернула меня за рукав. – Смотри!
Я открыл глаза. Это был самовар.
В шатре торговали старой дребеденью, выдаваемой за антиквариат, строгая готическая надпись на вывеске уверяла в этом.
– Все… – тихо сказала она. – Мы его сейчас купим.
Я молчал.
– Ты же знаешь, как я хочу настоящий самовар.
Я знал. Помнил, как загорелись ее глаза, когда, гуляя по набережной в Кони-Айленд, мы натолкнулись на мелкий развал разномастного хлама, разложенного на трех русских газетах тут же на обочине. Среди сюрреалистического винегрета из монет, наручных часов, гжельских чашек, значков «Снайпер», армейского бинокля в кожаном футляре и настоящего паспорта на имя гражданки Ковальчук стоял самовар. Настоящий тульский самовар.
Хмурый мужик, словно перенесенный сквозь пространство и время из моего детства – такие угрюмцы маялись по утрам у магазина «Вино-воды» на углу Тишинки и Второй Зоологической, – заломил невозможную цену. Мария торговаться не любила, потому что не умела. Мужик мрачно повторил «пятьсот», Мария беспомощно взглянула на меня, я пожал плечами, и мы пошли дальше, вдоль пестрого пляжа в сторону огромного «чертова колеса».
Здешний самовар стоил в пять раз дешевле. Торговка, немолодая немка, похожая на артистку Раневскую, почуяв поживу, оживилась.
– Очень хороший! Очень! – азартно заявила она. Ее английский был так себе, она пыталась компенсировать хилый словарный запас страстным напором. – Зер гут! Экстра квалитет![1]
– Зер гут… – повторила Мария, поглаживая тусклое пузо самовара. – Хабен зи… Кеннен зи… короче, как он к вам попал? Откуда? Вы знаете его историю?
Я отвернулся, улыбаясь. В этом была вся Мария – ее не интересовали вещи как таковые, для нее важнее всего была история предмета. Она презирала новую мебель, ненавидела современное жилье – мы жили в Гринвич-Виллидж в допотопном, узком, как пенал, доме с покатым полом и античной канализацией. По комнатам гуляли сквозняки, скрипучие двери не хотели закрываться, а в форточки лез плющ, которым окончательно зарос фасад. Но все это меркло рядом с фактом, что дому было почти сто лет и тут (по слухам, явно исходившим от мерзавца-арендатора) бывал сам Уорхол. В глухие предрассветные часы, когда я мучаюсь от бессонницы, мне приходят темные мысли, что я сам для нее не личность, живой человек Дмитрий Спирин, а любопытный артефакт с занятной историей – эмигрант, загадочный русский, не оправдавший надежды вундеркинд.
– Медный антиквариат! – Раневская выпятила круглую грудь в малиновом жакете. – Очень хорошая цена.
– Что она сказала? – повернулась ко мне Мария.
– Чушь несет, говорит, что из меди, – тихо ответил я. – Медь красная. А этот…
– А этот?
Самовар нуждался в чистке, он был тускл, в зеленых проплешинах патины. Я провел пальцем по вмятине на боку, повернул кран туда-сюда, брезгливо отряхнул перчатки.
– Этот? – В конце концов, я тут был единственным русским, не считая самовара. – Этот сделан из латуни. Латунь!
– Что такое латунь? – Мария любила точность во всем.
– Латунь, – уверенно начал я, – латунь – это сплав меди с… с другими металлами. Видишь, он желтый. Значит, не медь.
Немка настороженно наблюдала, пытаясь понять, о чем идет речь.
– Спроси, откуда у нее самовар, – попросила Мария.
В школе при Гнесинке я учил немецкий, иногда мне удается извлечь кое-какие языковые обломки из памяти, неизменный эффект производила декламация первых строф «Лорелеи», по непонятной причине навсегда засевших в моей голове.
– Она вообще не в курсе, – после короткой, но мучительной лингвистической пытки заявил я. – Кто-то принес, ее сестра купила. Похоже, она даже не знает, что это такое.
– Как это? – Мария недоверчиво посмотрела на меня. – Тогда тем более!
Она достала бумажник.
– Погоди… – Я знал, что это безнадежно, но продолжил: – Как мы эту дуру попрем? Через границу, аэропорт? В багаж нельзя, грузчики его угробят. А для ручной клади он велик. Да и потом, он наверняка течет. Где ты собираешься его лудить на Манхэттене?
– На Брайтоне наверняка есть старые русские мастера, – отрезала Мария, отсчитывая купюры. – И пожалуйста, прекрати свой славянский негативизм, может, он и не течет вовсе.
Самовар оказался тяжел, как грех, я не подавал вида, но благодарил бога, что до отеля три шага. Невозмутимый швейцар распахнул дверь, консьерж сдержанно кивнул, пожилая пара скандинавских туристов проводила нас странным взглядом. Мария не к месту пожелала всем: «Гутен абенд!»[2] – это уже из лифта.
– Ну и как эту сволочь тащить в Америку? – проворчал я, с грохотом опустил самовар в дальний угол, между нашими пустыми чемоданами.
– Слушай! А может, его русские солдаты привезли? – Мария схватила меня за руку. – Представляешь? Когда наступали на Берлин?
Я застонал, как от зубной боли. Тут же представил себе чумазых славян, облепивших броню «тридцатьчетверки», несущейся по Унтер-ден-Линден в сторону Бранденбургских ворот, солдаты все в медалях, весело палят из автоматов по окнам. Палят короткими очередями. Между очередями пьют чай. На башне танка дымит самовар.
– Чушь. – Я залез в холодильник, достал пиво. – Это чушь. Его приволок какой-нибудь поволжский Шульц или Мюллер, тракторист или комбайнер. В начале девяностых, после Стены они из Казахстана сюда косяком поперли.
– Кто попер? Куда? Почему Шульц?
Я отмахнулся, глотая ледяное пиво прямо из горлышка.
– Тут что-то написано. – Мария наклонилась. – Вроде клейма. Только из-за плесени ничего не разобрать.
– Не плесень, патина. – Я лениво поднялся, прошел в ванную, вернулся с полотенцем и тюбиком зубной пасты. – Где? – спросил небрежно.
Выдавив пасту, я размазал ее полотенцем по части круга, там, где проступали какие-то знаки. Мария завороженно следила за процессом. Я отпил пива, немного брызнул на засохшую пасту.
– Пиво?! – прошептала Мария.
– Спокойно. – Я был невозмутим.
Случилась некая химическая реакция, пиво дало обильную пену, я тут же с силой начал тереть. Убрал полотенце; очищенная часть крышки сияла.
– Как золото! – восхищенно прошептала Мария. – Надо же…
Я сам не ожидал, но, не подав виду, неспешно допил пиво и сунул бутылку в мусорную корзину. Мария подтащила самовар к окну.
– Медали… – Наклонившись, она водила пальцем по металлу. – Ну что ты там бродишь? Тут же на твоем языке написано, что, прочитать трудно?
Самовар, как и полагается приличному самовару, был родом из Тулы. Изготовлен на фабрике братьев Баташевых в 1867 году, рядом с фабричным клеймом теснились медали – пять штук в ряд. Разобрать без лупы, кто и за какие заслуги наградил наш самовар, оказалось невозможно.
– Эй, гляди! А это что? – Согбенная Мария разглядывала спину самовара. – Ноты! Точно, ноты…
Я поднял его, тяжелого черта, плюхнул в кресло. На задней стенке разобрал гравировку: нотный стан, ключ, несколько нот, разбитых на два такта. Мария, отодвинув меня, быстро выдавила пасту и принялась усердно тереть самоварный бок.
– Пивом надо полить, – бросила она, не оборачиваясь.
Я принес из ванной стакан воды.
Кроме нот, там была выгравирована надпись: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Anne-Lotte Dein Kurt-Kaninchen[3].
– Ну? – нетерпеливо спросила Мария. – Канинхен – это фамилия?
– Вряд ли… – Я провел пальцем по нотам. – Это «кролик». Вроде «целую крепко, твоя зайка»… Погоди…
Я облизнул губы и просвистел мелодию – два такта в соль-мажоре, всего девять нот.
– Что это? – Мария ласково поправила мне воротник рубашки. – Ты знаешь эту музыку?
– По двум тактам… – Я просвистел снова. – Хотя вроде… Звучит как шлягер. Или народное что-то. Но точно не Гендель.
– Кстати! Про Генделя! – вспомнила Мария. – В семь – концерт во Французской церкви.
1
Превосходное качество! (нем.)
2
Добрый вечер (нем.).
3
Моей любимой Анне-Лотте в день рождения с сердечными пожеланиями счастья. Твой кролик-Курт (нем.).