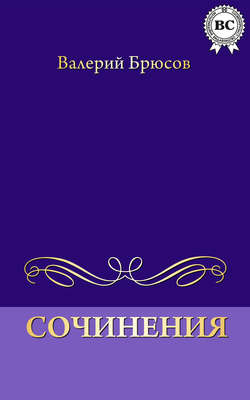Читать книгу Сочинения - Валерий Брюсов - Страница 17
Огненный ангел
Огненный ангел, или Правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанная очевидцем
Глава десятая. Как явился Ренате вновь Мадиэль и как она меня покинула
II
ОглавлениеЭтот день, чего я предвидеть не мог никак, если не определил, то предсказал всю нашу судьбу. Рената тогда с утра была в соборе, и я, прождав ее до полудня, вдруг, почти неожиданно для самого себя, вышел на улицу, направился, не без смущения, к знакомому дому Виссманов и постучался в дверь, как виноватый. Агнесса приняла меня с неизменной приветливостью и только сказала мне:
– Вы так давно у нас не были, господин Рупрехт, и я уже думала, что с вами опять случилось что-либо нехорошее. Мне брат запретил расспрашивать вас, говоря, что у вас могут быть причины, которых не должно знать честной девушке, – правда ли это?
Я возразил:
– Ваш брат пошутил над вами. Просто в моей жизни настали неудачные дни, и я не хотел вас опечаливать грустным лицом. Но сегодня стало мне слишком тяжело, я пришел к вам, чтобы помолчать и послушать ваш голос.
Я действительно молчал почти все время, какое пробыл с Агнессою, а она, скоро освоившись со мною вновь, щебетала, как ласточка под кровлей, обо всех маленьких новостях недавних дней: о смерти собачки у соседки, о смешном случае за обедней в воскресенье, о попойке профессоров, какая была у ее брата недавно, о каком-то необыкновенном, отливающем в три цвета шелке, присланном ей из Франции, и о многом другом, заставлявшем меня улыбаться. Речь Агнессы текла как ручеек в лесу; ей говорить было легко, потому что все впечатления жизни и все сказанные ею слова скользили сквозь нее, не задевая в ней ничего, а мне было легко ее слушать, потому что не надо было ни думать, ни быть внимательным, можно было бросить поводья своей души, которые так часто приходилось мне натягивать. Опять, как всегда, ушел я от Агнессы освеженный, словно легким ветром с моря, успокоенный, словно долгим созерцанием желтой нивы с синими васильками.
Дома я застал Ренату над книгами, тщательно разбирающей какую-то проповедь Бертольда Регенсбургского[177], написанную на старом языке. Строгое лицо Ренаты, ее спокойный взгляд и сдержанный голос, – все это было такой противоположностью с детской беспечностью Агнессы, что сердце у меня словно кто-то ущемил клещами. И вот тогда-то вдруг, с крайней непобедимостью, захотелось мне прежней Ренаты, недавней Ренаты, ее страстных глаз, ее исступленных движений, ее несдержанных ласк, ее нежных слов, – и желание это было так остро, что я готов был заплатить всем, чтобы насытить его. В ту минуту, без колебания, отдал бы я всю будущую жизнь за одно мгновение ласки, тем более что казалось оно мне неосуществимым.
Я бросился к Ренате, я стал перед ней на колени, как в хорошее, давнее время, я начал целовать ей руки и говорить о том, как безмерно ее люблю и как изнемогаю смертельно все эти дни от ее суровой неприступности. Я говорил, что из черного ада я вышел было к радужному эдему, как Адам не сумел воспользоваться блаженством, и вот стою у врат рая, и страж с пылающим мечом загораживает мне возврат, – что я согласен умереть сейчас же, если мне еще один раз позволено будет вдохнуть запах эдемских лилий. Я знал, даже в тот миг, что говорю неправду, что повторяю слова прошлого, но ложь была той дорогой ценой, за которую надеялся я купить любовный взгляд и ласковое прикосновение Ренаты. Не останавливался я даже и перед другими, еще более недостойными средствами соблазна, стараясь отуманить сознание Ренаты, стараясь вновь пробудить в ней чувственное влечение, так как мне, во что бы то ни стало, нужна была ее страсть.
Не знаю, искусство ли моей речи одержало верх, или во мне самом тогда было слишком много огня, который не мог не перекинуться на существо Ренаты и не зажечь ее, или, наконец, в ней самой вырвались наружу силы страсти, насильственно заваленные камнями рассудка, – только в тот вечер могла торжествовать богиня любви и крылатый сын ее мог опять задуть свой ночной факел. С такой пламенностью приникли мы друг к другу, с такой нежной ожесточенностью искали поцелуев и объятий, словно то было первое соединение, и, в опьянении счастием, казалось мне, что мы не в нашей знакомой комнате, а где-то в пустыне, в диких скалах, в гроте и что молнии неба и нимфы леса приветствуют наш союз, как когда-то Энея и Дидоны:
Fulsere ignes et conscius aether
Connubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae[178]
И Рената, потеряв строгий облик монахини, повторяла мне слова ласки, которые для меня были нежнее всех звуков виолы и флейт:
– Рупрехт! Рупрехт! Мне больше ничего не надо, только ты люби меня; я не хочу ни блаженства, ни рая, я хочу, чтобы ты был со мной, чтобы ты был мой, а я – твоя. Я люблю тебя, Рупрехт!
Но зато, когда миновал порыв страсти, когда, словно из какого-то ничто, опять выступили кругом стены нашей комнаты и вся ее обстановка, и стали нам видны и книги, разбросанные по столу, и упавший на пол том проповедей Бертольда Регенсбургского, и мы двое, простертые в утомлении на смятой постели, – тотчас охватило Ренату отчаянье. Вскочив, кинулась она к аналою, стала на колени, шепча молитву, но потом так же быстро поднялась, бледная, гневная, и стала бросать в меня упреки:
– Рупрехт! Рупрехт! Что ты сделал! Я знаю, тебе только одно это и нужно! Я знаю, ты во мне ничего другого не ищешь, не хочешь. Но зачем тогда я тебе? Иди в публичный дом – там ты за малые деньги найдешь себе женщин. Предложи себя любой девушке, и ты получишь жену, которая будет тебе служить каждую ночь. Но тебе нравится искушать меня именно потому, что я отдала свою душу и свое тело богу!
На это я возразил:
– Рената, будь милосердна и справедлива! Вспомни, я целые месяцы жил близ тебя, не добиваясь твоих ласк, когда думал, что ты обручена другому, и не жаловался на твою бесстрастность. Но как хочешь ты, чтобы я сносил ее спокойно, когда знаю, что ты меня любишь, когда чувствую близость твоей любви? Я не верю, что господу богу неугодна ласка двух любящих, и ты еще несколько минут назад говорила, что за нее готова отдать блаженство будущей жизни.
Но вместо ответа Рената начала рыдать, как она всегда рыдала, то есть безудержно и безутешно, так что напрасно пытался я ее успокоить и утешить, прося у нее прощения, обвиняя самого себя, обещая ей, что ничего, подобного этому дню, не повторится никогда. Не слушая меня, Рената плакала словно о чем-то погибшем безвозвратно, как могла бы плакать разве девушка, нечестно обольщенная соблазнителем, или как, может быть, плакала праматерь Ева, понявшая лицемерие Змия. Я же, видя эти слезы и эту тоску, сам себе давал решительные клятвы, что никогда больше не поддамся искушению, что лучше покину Ренату, нежели опять выставлю себя в ее глазах человеком, ищущим грубых наслаждений, так как не их, а ласковых глаз и нежных слов жаждал я.
Однако, несмотря на эти обещания, данные мною и Ренате и себе, тот день послужил образцом для многих других, вылепленных хотя и из другой глины, но в тех же формах, притом с такой точностью, что во всех них занимала свое место Агнесса. Обычно происходило все так, что я шел днем к Агнессе, слушал ее тихие речи, смотрел на ее льняные косы и с душой успокоенной, как заштилевшее море, возвращался к Ренате, по пути напоминая себе, что сегодня буду я владеть собою строго. Дома большею частью начинали мы чтение какого-нибудь назидательного сочинения, причем, преодолевая чувство скуки, старался я вникать в рассуждения, любопытные для Ренаты, – но понемногу близость ее тела увлекала меня, как некий любовный фильтр[179], и, почти сам не примечая того, я то приникал губами к ее волосам, то теснее прижимал ее руку к своей. Вспоминая теперь эти минуты, думаю, что, может быть, не всегда первый повод подавал я, но что одинаковое со мною чувство испытывала и Рената, которая также влеклась, против воли, к страсти, или что было во всем этом влияние существ, нам враждебных и незримых. Во всяком случае, без одного исключения, все наши чтения, после первого нашего грехопадения, стали завершаться одинаково: сначала исступленными ласками и взаимными клятвами, а потом отчаяньем Ренаты, ее слезами и жестокими укорами и моим поздним раскаяньем. И число этих образов, сходных друг с другом, как листья одного дерева, увеличивалось в нашей памяти каждый день на один.
Так наша жизнь, словно завиваясь суживающимися кольцами водоворота, замкнула наконец в очень тесный круг то, что прежде она обнимала широким обхватом. Первые месяцы нашей жизни с Ренатою были мы чуждыми друг другу; затем в течение двух недель, после моего поединка с графом Генрихом, напротив, близкими, как только могут быть близки люди. В следующий период жизни, длившийся до видения Ренаты, эти смены враждебности и близости свершались в течение нескольких дней, и порою в одну неделю успевали мы быть и лютыми врагами, и страстными любовниками. Теперь такой же цикл замкнулся в краткое время двадцати четырех часов. На протяжении от утра до вечера успевали мы пройти всю высокую лестницу от братской близости через дружескую доверчивость, к самой пылкой, самозабвенной любви и дальше, к отточенной, как кинжал, ненависти. Каждый день наши души, как клинки, то раскалялись до белого света на горне страсти, то вдруг погружались в ледяной холод, – и легко можно было предвидеть, что, не выдержав таких переходов, они наконец сломаются.
Я чувствовал себя совершенно измученным всей своей жизнью с Ренатою и снова помышлял втайне о том, чтобы покинуть ее и бежать в другие страны, хотя в то же время мысль лишиться ее и ее ласк была мне так ужасна, что я просто боялся вообразить себя в мире опять одиноким. Вместе с тем и Рената, в часы наших ссор, все чаще решалась говорить мне, что более не может оставаться со мной, что в меня вселился дьявол, искушающий ее, что ей лучше умереть от тоски по мне, нежели совершать смертные грехи ради близости со мной, и что единое пристанище, где ей теперь место, – монастырь. Тогда я не придавал особого значения этим словам, но и мне наша общая жизнь опять представлялась тогда комнатой, из которой нет выхода, в которой все двери мы замуровали сами и в которой теперь мечемся безнадежно, ударяясь о каменные стены.
Но катастрофа, разрушившая эти стены в прах, вдруг бросившая меня в какие-то другие пропасти, на другие острые камни, все же подошла незаметно, словно судьба подкралась в маске и на цыпочках и схватила нас обоих сзади.
Мне памятен тот день, может быть, больше всех иных дней, и потому я знаю точно, что было то 14 февраля, в воскресенье, в День святого Валентина[180]. Снова был я тогда у Агнессы, причем при беседе нашей присутствовал и Матвей, и мы втроем немало шутили над обычаями и приметами, связанными с этим днем. Возвращаясь домой, был я опять расположен добродушно и ласково и говорил себе: «Душа Ренаты изранена всем, что пережила она. Надо дать ей тихое успокоение, как больному дают лекарство. Кто знает, быть может, после нескольких месяцев жизни и ясной и мирной, и любовь ее, и покаяние ее вольются в ровное русло, – и для нас с ней станет возможною та счастливая и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже перестаю мечтать».
С такими благими решениями вошел я к Ренате и, по обыкновению, застал ее среди книг, над фолиантом, в смысл которого она тщетно старалась вникнуть. Была она так заинтересована темным для нее содержанием книги, что не слышала, как я приблизился, и, вздрогнув, обратила ко мне ясные глаза свои, только когда я осторожно поцеловал ее в плечо.
Словно забыв все свои вчерашние жестокие упреки и жалобы, Рената сказала мне приветливо:
– Рупрехт, как я тебя долго ждала сегодня! Помоги мне – я вижу, что эта книга очень важная, но понимаю очень плохо; здесь есть откровения, которые, если мы будем их помнить, удержат нас от многих зол.
Я присел рядом с Ренатою и увидел, что то была книга, недавно разысканная мною у Глока, так как она уже давно была распродана: прекрасный том, отпечатанный еще в прошлом веке, в городе Любеке, под заглавием: «Sanctae Brigittae Revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata» [181]. Книга была раскрыта на описании путешествия святой Бригитты Шведской по чистилищу и тех родов мучений, какие она там наблюдала. В упор начали мы читать о какой-то грешной душе, голова которой была так крепко стянута тяжелой цепью, что глаза ее, вылезши из орбит, висели на своих корнях до самых колен, а мозг лопнул и вытекал из ушей и из носу; далее изображались мучения другой души, у которой язык был вырван через открытые ноздри и свисал до зубов; еще далее следовали иные формы всевозможных пыток, сдирания кожи, исхищренных бичеваний, терзаний огнем, кипящим маслом, гвоздями и пилами.
Мне не довелось прочесть в этой книге описания мук в самом аду, но в изображении чистилища заинтересовала только сила необузданной фантазии, много терявшая, впрочем, от дурного изложения кардинала, не совсем твердого в латинской стилистике. Зато на Ренату видения святой Бригитты произвели впечатление потрясающее, и, оттолкнув страшную книгу, вся дрожа, она прижалась ко мне, видимо, представляя себе загробные мучения со всей ясностью открывшегося взорам зрелища. С чувством настоящего ужаса, как ребенок, оставшийся один в темной комнате, она воскликнула, наконец:
– Страшно! Страшно! И это грозит всем нам, каждому, мне и тебе! Пойдем, помолимся, Рупрехт, и да оставит нам бог столько жизни, чтобы загладить все грехи наши!
В эту минуту Рената, наивная и робкая, похожа была на маленькую деревенскую девочку, которую пугает заезжий монах, надеясь с ее помощью распродать побольше индульгенций, и была она мне мила и дорога несказанно. Я охотно последовал за ней к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и мы стали на колени, повторяя святые слова: «Placare Christe servulis…» [182] Эта общая молитва, когда мы стояли рядом, как два изваяния в церкви, и когда наши голоса смешивались, как запах двух рядом растущих цветков, решила нашу участь, потому что оба мы не одолели вновь желаний, вдруг вставших со дна нашей души, как встает из корзины, на свист заклинателя, – его змея.
Я не хочу обвинять здесь в этом последнем поступке Ренату и не могу принять за него всей вины на себя, и пусть рассудит это в свое время тот, кому принадлежит судить и разрешать, в руках которого весы верные и кто не зрит на лица. Но кто бы ни был из нас виноват в этом нашем последнем падении, во всяком случае, скорбь, которая поборола Ренату, едва миновало головокружение страсти, еще не имела в прошлом равного ничего. Рената с таким изумлением и с такой дрожью отпрянула от меня, словно я завладел ею тайно, в ее сне, или насилием, как Тарквиний Лукрецией, и первые два слова, произнесенные ею, ударили меня бичом по сердцу сильнее, чем все последующие проклятия. Эти два слова, исполненные беспредельной тоски, были:
– Рупрехт! Опять!
Я схватил руки Ренаты, хотел целовать их, заговорил торопливо:
– Рената! Клянусь богом, клянусь спасением души, я не знаю сам, как все это произошло! Это все – лишь оттого, что я слишком люблю тебя, что я согласен на все мучения Бригитты, только бы целовать твои губы!
Но Рената высвободила свои пальцы, отбежала на середину комнаты, словно для того, чтобы быть от меня дальше, и закричала мне вне себя:
– Лжешь! Лицемеришь! Опять лжешь! Подлый! Подлый! Ты – сатана! В тебе – дьявол! Господи, Иисусе Христе, охрани меня от этого человека!
Я попытался настичь Ренату, протягивал к ней руки, повторял ей какие-то ненужные извинения и бесплодные клятвы, но она отстранялась от меня, крича мне:
– Прочь от меня! Ты мне ненавистен! Ты мне противен! Это в безумии я говорила, что люблю тебя, в безумии и в отчаянье, так как мне ничего не оставалось больше! Но я дрожала от отвращения, когда ты обнимал меня! Ненавижу тебя, проклятый!
Наконец я сказал:
– Рената, почему ты обвиняешь меня одного, но не себя? Разве ты не одинаково виновата, поддаваясь моему соблазну, как я, уступая твоему? Вернее, не бог ли виноват, сотворив людей слабыми и не дав им сил для борьбы с грехом?
В эту минуту Рената остановилась, словно пораженная моими богохулениями, дико стала оглядываться и, увидев лежащий на столе нож, схватила его, как оружие избавления.
– Вот, вот, гляди! – крикнула она мне голосом хриплым. – Вот какое средство завещал нам сам Христос, если тело наше искушает нас!
Говоря так, Рената ударяла себя клинком в плечо, и кровь окрасила место раны, а через миг потекла и из рукава ее платья. У меня тотчас мелькнула мысль, что этот порыв – последний, что за ним наступит упадок всех сил, и я хотел подхватить Ренату в руки, как изнемогшую. Но, против ожидания, рана только придала ей новой ярости, и, с удвоенным негодованием, она оттолкнула меня, метнулась в сторону и опять закричала мне:
– Уйди! Уйди! Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался!
Потом, совершенно обезумевшая, а может быть, подпавшая под влияние злого духа, Рената с размаха бросила в меня ножом, который еще держала в руке, так что я едва успел отклониться от опасного удара. Тут же схватила она со стола тяжелые книги и стала метать их в меня, как ядра из баллисты, а за ними и все другие мелкие предметы, находившиеся в комнате.
Защищаясь, сколько было можно, от этого града, хотел я говорить и образумить Ренату, но ее каждое мое новое слово приводило в большее раздражение, каждое мое движение возбуждало еще и еще. Я видел ее лицо, бледное, как никогда, и искаженное судорогами до неузнаваемости, я видел ее глаза, в которых зрачки расширились вдвое, – и весь ее облик, все ее тело, находившееся в непрерывной дрожи, доказывали мне, что не она владеет собой, но кто-то иной распоряжается ее телом и ее волей. И вот в ту минуту, слыша повторные крики Ренаты: «Уйди! уйди!», видя, в какую ярость приводит ее мое присутствие, принял я решение, может быть, неосторожное, но за которое сегодня все же не смею упрекать себя: я решился действительно уйти из дому, полагая, что без меня Рената скорее овладеет собой и успокоится. Кроме того, не мог я оставаться твердым, как марпезийская скала[183], слыша непрестанные оскорбления себе, и хотя понимал умом, что Рената за них не ответственна, однако не без труда удерживал я себя, чтобы не крикнуть ей в ответ и своих обвинений.
Итак, я предпочел, повернувшись, быстро выйти из комнаты и слышал за собой неудержимый хохот Ренаты, словно бы она торжествовала долгожданную победу. Приказав Луизе подняться наверх и ждать приказаний госпожи, я накинул плащ и вышел на весенний воздух, в сумерки подступавшего вечера, – и такой странной показалась мне узкая улица, и высокие кельнские дома, и еще белый месяц над ними, после сумасшедшего дома, в котором только что слышал я вопли, скрежет и смех. Я шел вперед, не думая ни о чем, только дыша всей грудью, только вбирая глазами темнеющую синь неба, и вдруг сам удивился, увидя себя у дверей дома Виссманов, куда меня как-то сами завели мои ноги. Я, конечно, не вошел к ним вторично, но, перейдя на другую сторону улицы, заглянул в окна, и мне показалось, что я узнал милый и нежный облик Агнессы. Успокоенный уже этим одним, а может быть, и всей прогулкой, я медленно направился домой.
Но у нас нашел я Луизу в смятении, а комнату Ренаты пустой, причем на полу валялись ее вещи, некоторые части одежды, какие-то лоскуты, веревки – и все обличало, что кто-то здесь поспешно готовился к отъезду. Конечно, я догадался сразу, что произошло, и охватил меня крайний ужас, как неопытного мага, который втайне заклинал демона явиться и вдруг упал ниц при его страшном появлении. В волнении начал я расспрашивать Луизу, но она немногое могла объяснить мне.
– Госпожа Рената, – так бормотала Луиза, – сказала мне, что вы попрощались с нею и что она уезжает на несколько дней. Она приказала мне помочь ей собрать ее вещи, но запретила за ней следовать. Я же никогда не возражаю господам и делаю все, как они прикажут. Вот только удивило меня, что у госпожи Ренаты вся рука была в крови, ну да я ей рану перевязала чистым полотном.
Спорить с глупой старухой или бранить ее было бесполезно, и я, не отвечая на ее причитания, побежал, с непокрытой головой, на улицу. Мне казалось, что Рената не могла уйти далеко, я надеялся нагнать ее, упросить, умолить вернуться. Я толкал редких вечерних прохожих, я сам натыкался на стены и без толку, с сердцем, бьющимся, как молот кузнеца, пробегал улицу за улицей, пока не послышался звон уличных цепей и не замелькали, там и сям, во мраке переносные фонари. Тогда я понял бессмысленность своих поисков и вернулся к себе, потрясенный и растерявшийся.
Хотя утешал я сам себя соображением, что не успела, конечно, Рената выйти из города, прежде чем заперли ворота, однако все же первая ночь, которую я провел без нее, была поистине страшной. Сначала я бросился в свою постель и ждал мучительно, против всякого вероятия, что вот раздастся стук в дверь и вернется Рената, – встречая каждый шорох, как надежду, как предзнаменование. Потом, вскочив, я стал на колени и начал молиться с тем же исступлением, с каким молилась сама Рената, заклиная Всевышнего вернуть мне ее, вернуть во что бы то ни стало, какой бы ценой то ни было. Я давал сотни обетов, исполнить которые клялся, если только Рената вернется: клялся заказать тысячу обеден, клялся положить десять тысяч поклонов, клялся пойти пешком ко Гробу Господню, соглашался отдать взамен все другие радости жизни, какие еще могли ожидать меня в будущем, – сам понимал всю нелепость своих обетов и все же произносил их, сжимая руки. Потом бросился я в опустелую комнату Ренаты, где все еще было живо ею, ложился на ее постель, на ту простыню, к которой она еще вчера прижимала свое тело, целовал ее подушки и грыз их зубами, воображал Ренату в своих объятиях, говорил ей все страстные, все нежные слова, которые не успел сказать за дни нашей близости, и бился головой об стену, чтобы чувством боли вернуть себе сознание. Не знаю, как не потерял я рассудка в ту ночь.
Настала заря, и я был уже на ногах, я уже искал Ренату по городу, уже стерег ее у городских ворот и на пристанях, откуда отходят барки. Но я не нашел Ренаты нигде, я не дождался ее дома – она не вернулась ко мне ни в тот день, ни на следующий, ни в целый ряд других дней, – она не вернулась в ту свою комнату больше никогда.
177
Бертольд Регенсбургский в середине XIII в. ходил по всей Германии, собирая вокруг себя своими проповедями тысячи слушателей; его считали пророком и чудотворцем. Некоторые из его проповедей были в свое время изданы.
178
Загорелись огни, и союза свидетель горный эфир // и нимфы на высях стонали утесов. Verg. (Вергилий), Аеп. («Энеида»), IV, 167—8 (лат.). (Пер. и прим. В. Брюсова.). – Fulsere ignes etc. Verg. Aen. IV, 167—8.
179
«Фильтром» называется привораживающее зелье, то есть питье, внушающее любовь.
180
На обычаи Валентинова дня, распространенные у всех германских народов, намекает Офелия в одной из своих песен. Молодой человек обязуется служить весь год той девушке, которая первая взглянет на него в этот день и поцелует его.
181
«Откровения св. Бригитты под ред. кардинала Туррекрематского» (лат.). – Sanctae Brigittae revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata. Lubeck, 1492. Переиздания: Антверпен, 1611; Кельн, 1628. Книга имела значительный успех, была переведена на французский язык, и Торквемада представил похвальный отзыв о ней Констанскому собору.
182
«Смилуйся, Христос, над рабами твоими…» (лат.).
183
«Марпезийская скала». Verg. Aen. VI, 470—1.