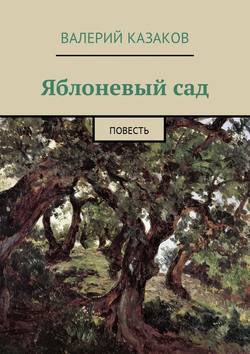Читать книгу Яблоневый сад. Повесть - Валерий Казаков - Страница 2
ОглавлениеЛюдмила Николаевна, молодая симпатичная женщина двадцати пяти лет, закончившая институт имени Герцена в Ленинграде, получила направление на работу в далекую Кировскую область. Это её огорчило. Ей очень не хотелось покидать город, к которому она привыкла. Превозмогая грустную усталость, Людмила Николаевна выстояла длинную очередь у касс поездов дальнего следования на Московском вокзале. Люди в очереди показались ей мрачными, среди них она почувствовала себя ненужной забытой женщиной. Потом объявили посадку, и Людмила Николаевна медленно вышла на матовый ночной перрон. Здесь ей стало холодно и одиноко, как иногда бывало в детстве, когда мама оставляла её одну. Людмила Николаевна поежилась и пошла вдоль состава к своему вагону. Её обогнали два носильщика с сонными лицами, потом мужчина в длинном клетчатом пальто. Потом какая-то испуганная старушка с трясущейся седой головой спросила у неё, сколько сейчас времени. Людмила посмотрела на часы и ответила, старушка поблагодарила и отошла.
Только сев на свое место в пустынном вагоне, Людмила Николаевна немного отогрелась, немного успокоилась, но при этом город уже отделился от неё стеклом запотевшего окна. Начиналось утро, синеватый свет неоновых ламп постепенно стирался, и на душе у Людмилы Николаевны становилось лучше. Утро всегда прибавляло ей оптимизма.
Поезд тронулся. За окном кто-то пронзительно крикнул: «До свидания, милый», и сердце у Людмилы Николаевны неприятно защемило. «Ну, вот и всё», – почему-то подумала она. Мимо окон поплыли кварталы новостроек, какие-то мрачные деревья, заиндевелые арки пешеходных переходов, холодные бетонные опоры…
Город оборвался под мостом после гулкого и тёмного тоннеля. За окном всё шире стало раздвигаться пространство, становясь при этом однообразно – пустынным. Поезд набирал ход. Мимо окна замелькали коричневатые осины, просвечивающие насквозь, желтые березы, туманные перелески, темные изгороди, заплатки дачной земли. Будки, домики, сараи. Строй столбов, марширующих к горизонту, качели проводов. Начинался новый день, а люди в вагоне ложились спать. Здесь была своя жизнь.
Какая-то некрасивая, но хорошо одетая женщина попыталась заговорить с Людмилой. Молодая учительница с усталым видом перебросилась с ней несколькими случайными фразами, фальшиво улыбнулась и умолкала. Людмиле Николаевне было сейчас не до неё. Женщина старая, у неё всё позади, она может ехать хоть на край света, – никто об этом не пожалеет, а Людмила ещё почти не жила, она ещё не насладилась как следует своей молодостью, ещё не пресытилась вниманием мужчин и вот уже едет к чертям на кулички.
***
Деревня, куда приехала на работу Людмила Николаевна, оказалась довольно большой и довольно красивой, с птичьим названием Журавли. Она вытянулась двумя широкими улицами вдоль оврага, пролегающего от реки к лесу, и состояла из приземистых деревянных домов с пологими крышами. Между домами тут и там возвышались громадные ели и сосны. В осенней деревне было тихо, солнечно и лаяли собаки. Пахло горелой ботвой и болотной сыростью, только ворон на высоких заборах почему-то было не видно, зато по пыльной дороге тут и там разгуливали разноцветные деревенские куры.
Людмила Николаевна прошла мимо местного магазина. У магазина в это время стояли два тощих коричневых от загара мужика в промасленных телогрейках. Они о чем-то громко рассуждали, размахивая жилистыми, коричневыми от загара руками. Одного взгляда на них стало достаточно, чтобы понять – они уже навеселе. Когда Людмила Николаевна миновала их – они восхищенно посмотрели на неё сзади и заговорили:
– Ладная девка! – сказал один.
– Да-а-а! Наверное, городская. Уж больно модна! В туфельках, – ответил другой.
– У меня дочка такая же. В десятый класс перешла, вертихвостка.
– А я один остался по причине пьянства.
– Сам виноват.
– Сам не сам, а бобылем жить не привык.
Людмила Николаевна дошла до центра села и спросила у какой-то старушки про школу. Старушка махнула рукой, показывая на берег реки: «Там». Людмила Николаевна пошла в ту сторону, куда указала старушка и, когда, наконец, увидела здание школы, – сердце у неё радостно забилось. Откровенно говоря, она не ожидала увидеть такое красивое строение в сельской глуши. Двухэтажное здание школы из красного кирпича утопало в клубах увядающей зелени. Людмила Николаевна подумала о том, что из окон второго этажа этого старинного строения можно будет наблюдать ледоход на реке, а также весенний разлив. Её с детства увлекал красивый вид из окна, когда любопытному взору неожиданно открываются разнообразные детали окружающего ландшафта. С воодушевлением она ускорила шаг и вскоре достигла цели.
Вначале на невысоком холме возле школы она заметила зеленую аллею из лиственниц, которая плавно переходила в парк, состоящий из высоких охряных сосен. Чем ближе она подходила к парку, тем отчетливее слышала громкие птичьи голоса. Тут и там земля под соснами старого парка была пересечена горбатыми извилистыми корнями. Шагая по тропке между деревьями, Людмила старалась обойти эти корни стороной, и нечаянно пропустила тот момент, когда парк оборвался, сменившись густым яблоневым садом, после чего перед её взором возникло массивное здание школы. Она обратила внимание, что в облике этого строения ясно просматриваются следы бывшей дворянской усадьбы. Сразу же бросились в глаза высокие белые колонны парадного подъезда, литые чугунные ступени, а рядом с этой красотой – дощаной туалет в виде будки. Великолепное здание школы никак не гармонировало с этим странным строением. И все же в этом была какая-то очень существенная и вместе с тем характерная черта современной России, когда показное благополучие страны легко разбивалось о нелепые детали её бытового убожества.
Людмила Николаевна прошла по саду до школы, потом поднялась по чугунным ступеням к массивной двери, с заметным усилием открыла её и оказалась в длинном коридоре, который заканчивался широкой лестницей ведущей на второй этаж. Справа от себя, возле окна, она заметила пышную копну ярко-оранжевых цветов, немного поодаль – невысокую пальму в деревянной бочке. Чудь далее – сияющий лаком натюрморт в массивной раме, расположившийся на стене как раз напротив окна. Потом обратила внимание на стадо стульев возле пианино в углу. Краем глаза заметила, что рядом с пианино стоит ведро со шваброй. Возле швабры отдыхают галоши внушительного размера. В дальнем конце коридора она увидела открытую дверь, из которой доносился чей-то спокойный и громкий голос, но туда не пошла. Чутье подсказало ей, что кабинет директора должен располагаться где-то наверху.
Она поднялась по широкой деревянной лестнице на второй этаж, и оказалась на этот раз в более светлом, но узком коридоре, где живых цветов уже не заметила, зато обратила внимание на множество разноцветных плакатов и стендов.
Пройдя по этому коридору направо, неожиданно обнаружила у себя над головой небольшую мраморную доску с барельефом какого-то бородача. Из краткого текста под барельефом поняла, что в этой сельской школе побывал когда-то революционный поэт Демьян Бедный, который читал детям свои партийные стихи. Кабинет директора оказался поблизости от этого места. Она осторожно постучала в высокую дубовую дверь. За дверью чей-то сонный логос ответил: «Войдите». И она вошла в просторный кабинет, как входят в неясное будущее.
– Здравствуйте, я к вам по распределению, – заученно произнесла Людмила Николаевна и улыбнулась.
– Проходите, мы вас ждали, – ответил ей полный седеющий мужчина, поднимаясь из-за стола. – Будем знакомиться.
***
За первый месяц работы в сельской школе Людмила Николаевна узнала о ней довольно много интересного. Оказывается, большое каменное здание, в котором сейчас размещается школа, принадлежало когда-то знатному в здешних местах помещику Тимофею Харлину, дочь которого стала впоследствии видной революционеркой и погибла в 37-м году на Соловках. Что барская усадьба стояла когда-то среди густого яблоневого сада. Рядом с ней и сейчас ещё белеет пустой гранитный круг неработающего фонтана, а чуть далее расположен каменный мостик с аркой, соединяющий два берега небольшого оврага. И хотя яблок на старых яблонях уже нет, ни с чем несравнимый дух спелых плодов всё еще витает в осеннем воздухе. Земля под яблонями кое-где красна от падальцев. Школьники на переменах привычно лакомятся ими. Дети подбирают яблоки с земли, вытирают их о широкие штанины и едят с аппетитным хрустом.
Директор школы уже немолодой, но полный человек, произвел на Людмилу Николаевну приятное впечатление. Она отметила для себя, что он ничего не делает, молча. Любая его затея тотчас обрастает досужими разговорами, как снежный ком. Он ходит из кабинета в кабинет и привычно раздает обещания, выслушивает жалобы, иногда пробует шутить. И всё это, по-видимому, воспринимается им как работа. Ибо по натуре своей он не работник, а утешитель, наделённый излишней и не всегда понятной рассудительностью. Он способен легко обнаружить корень проблемы, но часто не может и не умеет эту проблему разрешить. Наверное, поэтому в школе нет ни должного порядка, ни запасов угля для котельной, ни хорошей столовой. Но особенно сильно Людмилу Николаевну огорчало то обстоятельство, что при школьном здании до сих пор не работает теплый туалет, хотя прежний хозяин этим помещением располагал, но революционные массы в двадцатые годы почему-то решили переоборудовать вместительный туалет под избу читальню.
– Вы уж извините нас за это неудобство, – пояснил Людмиле Николаевне словоохотливый директор. – Это не наша вина. Денег последнее время школе не выделяют на такие вещи. Ремонт ещё кое-как проводим своими силами, а всё остальное оставляем на потом.
– Понимаю, – ответила Людмила, хотя сильно сомневалась, что директор говорит правду.
– На будущий год обещали увеличить финансирование. Тогда мы все проблемы решим. Вы не сомневайтесь.
Людмила Николаевна вскоре заметила, что ученики в сельской школе какие-то излишне скромные, даже, можно сказать, испуганные, тайно ожидающие от своих учителей не похвалу получить не похвалу, а очередную порцию нравоучений. По глазам видно, что они не испытывают большой тяги к знаниям. Когда Людмила Николаевна начинает в классе опрос, – никто в ответ не поднимает руки, – наоборот – все, молча, склоняют головы к партам и стараются на новую учительницу не смотреть. Но Людмила Николаевна безжалостна. Она просит рассказать домашнее задание, и если не получает нужно ответа – ставит в журнале точку.
Конечно, ей хотелось бы работать как-то иначе, быть мягче, выглядеть интереснее, но здесь принято быть с учениками построже. Школьников в Журавлях отрывают от занятий на сезонные работы в колхозе. До середины октября они собирают картошку на бескрайних колхозных полях, потом на школьном огороде обирают черноплодную рябину. Из-за этого учебные программы сокращаются, пробелы растут. По этой причине молодые учителя долго в этой школе не задерживаются, рвутся куда-то в большой мир, как птицы из клетки. Сельский быт им кажется тяжелым, местный народ глупым и неинтересным.
Дети в Журавлях ходят в школу в больших, купленных на вырост фуфайках, и когда встречают где-нибудь на дороге Людмилу Николаевну, то обязательно здороваются с ней, иногда по несколько раз за день. Когда же в хорошем настроении она пытается заговорить с ними на какую-нибудь отвлеченную тему – они сильно смущаются и долго ничего не могут ей ответить. К такому общению они не привыкли.
Иногда Людмила Николаевна водит своих учеников на прогулку в сумрачный еловый лес, где на траве влажным бисером блестит тенётник. На таких прогулках дети оживают, становятся совершенно другими и тогда с ними удается поговорить по душам.
Квартира у Людмилы Николаевны находится при школе, на первом этаже. Единственное удобство в ней – это водопровод, доставшийся ей в наследство от прежнего хозяина. Эта квартира состоит из двух больших комнат, отделенных друг от друга толстой кирпичной стеной и тонкой деревянной дверью. В одной из комнат у Людмилы Николаевны стоит газовая плита и большая русская печь с подтопком. В другой комнате – кровать и письменный стол. Эта вторая комната очень нравится Людмиле, она большая и удобная, с видом на реку, с белыми гладкими стенами и высоким потолком. Людмиле Николаевне приятно просыпаться в ней и дышать через открытое окно влажным осенним воздухом.
По утрам Людмила Николаевна делает несколько гимнастических упражнений. Это возбуждает её и придает ей уверенности, что она живет по системе, что она сохранит здоровье и молодость для красивого и долгого будущего. Ведь всё самое хорошее у неё ещё там – впереди.
***
Очередная зима наступила как-то незаметно и неожиданно. Первый снег выпал второго ноября на промерзшую землю и уже не растаял. Этот снег не обрадовал и не удивил, просто напомнил, что будет ещё холоднее, чем сейчас. Дни станут короче, а ночи темнее, что не за горами длинная скука холодных вечеров, завывание снежных буранов и вьюг. И так до конца февраля, а может быть, и до середины марта. Потом снег растает, и тогда опять начнется что-то новое. Только надо ждать, надо жить и надеяться на лучшее. Почему ждать и надеяться? Этого никто не знает. Просто, наверное, так принято: зимой ждать весны, а весной лета, как в юности ждут любви, а в старости здоровья. В общем, снег выпал и больше уже не привлекал внимания, только по утрам Людмила Николаевна уже не вставала рано из-за того, что за ночь сильно остывала печь в её комнате, и к утру там становилось прохладно.
Чтобы не потерять бодрости, Людмила попробовала было заняться бегом трусцой в вечерних сумерках под соснами школьного парка, но получила насморк и бросила это утомительное занятие. Потом решила написать несколько правдивых и образных стихотворений, но почему-то когда много думала о серьёзном, то ей хотелось спать, а потом наоборот – долго не спалось, и в голове при этом рождались самые искренние, самые совершенные строки.
Что особенно раздражало Людмилу Николаевну в Журавлях, так это однообразное и скудное питание. Дети в школе довольствовались только булочками и чаем. Примерно так же Людмила Николаевна приучилась питаться и дома. От скверного питания она начала быстро полнеть. Попробовала было покупать у местных рыбаков речную рыбу, но эта рыба оказалась совершенно безвкусной и вскоре надоела, а в местном магазине, как назло, продавали только соленое и сладкое. Продукты, которые быстро портились, в сельский магазин никто не завозил, поэтому местные жители давно уже кормились тем, что смогли вырастить в своем огороде или домашнем хозяйстве.
Радовала Людмилу Николаевну только печь в большой комнате, которая была украшена старинными изразцами. Людмила Николаевна нравилось её топить, особенно по вечерам, без света. Печью она была довольна как ласковой родственницей. Она дарила Людмиле Николаевне волшебное тепло, так нужное сейчас для тела и для души. В любой момент можно было придвинуть к печи стул и долго-долго сидеть около неё, глядя на пылающий огонь внутри печи, слушая приятное потрескивание еловых поленьев.
Все люди в Журавлях с некоторых пор стали делать вид, что хорошо знают Людмилу Николаевну и очень её уважают. По этой причине ей приходится здороваться с каждым встречным, и по привычке она уже начала здороваться со всеми приезжающими в деревню родственниками аборигенов. Только местные парни всё ещё смотрят на неё как бы снизу вверх, видимо, заранее решив, что они ей не пара. А она, если честно признаться, была бы рада познакомиться с кем-нибудь из них; узнать их интересы, пристрастия, заветные мечты.
Правда, есть и здесь один человек, который запросто подходит к ней и спрашивает «денюшку» на чебурек. Это Вася дурачок. Над Васей подтрунивает вся деревня, но местные старухи его тайно уважают: он хотя и дурачок, но работящий, к тому, же на него иногда нисходит божья благодать. Например, он когда-то пожелал Леониду Ильичу Брежневу «царствия небесного», увидев его портрет в газете, и через несколько дней престарелого генсека не стало.
***
В марте, когда днем от яркого солнца уже слепило глаза, и шумная капель безудержно струилась с покатых крыш, в село к родителям приехал летчик – наблюдатель за лесными пожарами Павел Александрович Хватов. Он и стал тем единственным человеком, который считал себя равным по достоинству и уважению с местными учителями, врачами и начальником пристани. Он прошелся по Журавлям в своей темно-синей форме с блестящими пуговицами, и во многих сельских домах тут же проснулись спящие красавицы, ждущие от жизни чего-то необычного. Павел давно вышел в люди, и поэтому его авторитет в Журавлях был безукоризненным. К тому же Павел был холост и знал себе цену. А какая деревенская девушка не мечтает стать женой летчика, от которого пахнет дорогим одеколоном под звучным названием «Чарли».
Уже на следующий день после приезда в Журавли, Павел побывал в гостах у Людмилы Николаевны. Пришел познакомиться запросто. Постучал в высокую, обитую черным дерматином дверь. Подождал, когда откроют, потом зашел с обезоруживающей улыбкой, и сразу же заговорил как давний знакомый:
– А мне сказали, что у нас новая учительница. Я заинтересовался, знаете ли. И вот решил познакомиться. Скучно тут у нас, знаете ли, и поговорить, как следует не с кем. Кругом люди хозяйственные, занятые.
Павел приблизился к Людмиле Николаевне и протянул ей руку.
– С вашего разрешения, Павел Александрович Хватов, летчик.
– Людмила Николаевна, – проговорила она смущенно и подала ему свою маленькую ладонь.
– Очень рад, – заученно проговорил он и быстро нагнулся, чтобы поцеловать запястье женской руки. Людмила Николаевна позволила ему это сделать, но потом посчитала, что это в данных обстоятельствах нечто лишнее, быстро убрала руку, и вышло как-то неловко. Молодая учительница растерялась и покраснела, чего давно с ней не случалось. «Одиночество дает свои плоды», – подумала она про себя. Что и говорить, раньше она была другой. Элегантные мужчины ей нравились. Тем более что Павел Александрович выглядел довольно прилично. Можно сказать, привлекательно. Особенно приятно смотрелись его густые, черные усы на фоне румяного лица. Нос, правда, был немного великоват, но это Павла не портило. Людмила Николаевна, излишне волнуясь, усадила гостя за стол, и, пообещав вернуться через минуту, ушла заварить кофе.
– Откуда вы к нам пожаловали? – громко спросил Павел, оставшись в одиночестве.
– Из Ленинграда, – охотно ответила она.
– Вы там жили?
– Да. Правда, не с рождения. Не с детства.
– Ну и как вам наши Журавли после северной столицы? – снова спросил Павел.
– Не знаю даже как сказать… Привыкаю, – ответила Людмила.
– Не тот культурный уровень? – снова спросил Павел.
– Ну, грязновато, конечно. Но что тут поделаешь. Приучаю себя к мысли, что я обязана эти трудности преодолеть, я должна.
– Это только слова.
– Я думаю, ничего не пропадает даром, – не расслышав реплики Павла, докончила свою мысль Людмила.
– Нет, нет! Тут вы не правы. Вы молодая, красивая – вам и жить надо красиво. Я так считаю, уж как хотите, так и думайте обо мне. Но, мне кажется, не всегда нужно следовать правилам, не все обещания исполнять. Иногда, знаете ли, спасает исключение из правил.
Между тем Людмила Николаевна стояла у плиты, слушала Павла и всё никак не могла решить, как ей поступать дальше. Соблюдать этикет, разыгрывая скромность, или сесть к столу с намереньем сыграть роль одинокой женщины, которая в глухой провинции соскучилась по общению с настоящим мужчиной. Пить кофе без молока и говорить умные вещи, похожие на банальности.
Нет, пожалуй, она так поступить не сможет. Он пришел в первый раз, а разговаривает с ней как давний знакомый. Вместе с тем, он высок, усат и чем-то похож на гренадера. Вне всякого сомнения, у него уже были женщины, и он знает, как себя с ними вести.
– У меня здесь родители. Иногда приезжаю помочь им по хозяйству и так – для успокоения души. Они старые уже. Скучают, – пояснил Павел.
– А я дома давно не была, – отозвалась Людмила.
– Это ничего. Зато потом уедете на всё лето. Время быстро идет.
– Для меня – медленно.
– Так кажется, – заверил её Павел. – Я тоже думал, что медленно, а тут опомнился и удивился. Оказывается, мне уже тридцать пять. Лучшие умы к этому времени добивались всего. Всего, понимаете? А мы?
– Для мужчины это немного, – успокоила его Людмила.
Кофе пили молча. Людмиле снова отчего-то сделалось неловко. Ей хотелось встать из-за стола и отойти к окну, но Павел вдруг предложил:
– Может, выпьем чего-нибудь покрепче за знакомство? – и, не дожидаясь ответа, достал из широкой штанины неполную бутылку коньяка с пробкой из газеты. Людмила Николаевна даже вздрогнула от неожиданности.
– Рюмочки, надеюсь, у вас найдутся?
Но рюмочек как раз не нашлось. Пришлось разливать коньяк по фарфоровым чашкам с вездесущими фиалками на боках…
После нескольких глотков обжигающего нектара знакомство двух молодых людей стало проще и приятнее. Правда, в первый момент Людмила ощущала опьянение как вязаную шапку, которая немного давит на виски, но в остальном всё было хорошо, даже очень. Она вдруг поняла, как стосковалась по мужчине, по тому ни с чем несравнимому запаху, в котором смесь одеколона и табака. По тихой речи с хрипотцой, по взглядам жадным и решительным, по горячей физической силе.
Через какое-то время Людмила почувствовала себя совершенно свободной и даже прочитала несколько своих стихотворений из миниатюрной записной книжки, которую держала в теплой, слегка влажной руке. И голос у неё при этом звучал вдохновенно, так же, как на поэтических вечерах в институте. Павел слушал её с явным благоговением и всё никак не мог поверить, что эти складные и красивые строки написала именно она, а не какой-нибудь Бальмонт или Мандельштам.
Хотя в глубине души Павел уже мечтал о другом. Он думал, что хорошо знает этих городских, интеллигентных и одиноких женщин, живущих в провинции. Они могут произвести впечатление, когда захотят получить от мужчины взаимности. Тем более в такой интимной обстановке. И он был готов исполнить эти тайные желания сельской учительницы. Он не мог предположить, что Людмила Николаевна сейчас занята совершенно другими мыслями. Что она только что решила, будто Павлу Александровичу, уже пора уходить, что он и так порядочно у неё засиделся. Первое знакомство не должно затянуться. Это некрасиво.
Между тем, Павел увлечённо рассказывал ей о своей работе, привычно жестикулировал руками, и при этом поглядывал на Людмилу с каким-то странным веселым прищуром, оценивающе и двусмысленно. Как будто ждал, что скоро с ним может произойти нечто необыкновенное. А вернее сказать, то, чего больше всего хочет молодой мужчина от молодой красивой женщины. Его лицо становилось то серьёзным, то простодушным, то настороженным и слегка лукавым. В какой-то момент ему показалось, что Людмила испытывает те же чувства, что и он.
– И вот, послушайте, как же это понимать, если у нас в деревне не только машины скорой помощи нет, но и кислородных баллонов на всякий случай, – нарочито громко возмущался он, пожирая её жадным взглядом. – А дороги! Осенью по нашим дорогам никуда не выехать. И во всей округе – ни одной работающей церкви. Разве так можно в России? В Святой Руси.
– Да. Нельзя, нельзя, – согласилась с ним Людмила.
– А если телевизор сломается, к примеру, – вообще, хоть волком вой. Сиди и смотри целый день в окно, как сыч. Никаких развлечений… Хорошо, я своим старикам два цветных купил на всякий случай. Пусть смотрят. У меня пока деньги есть, получаю неплохо.
– Да-да. Я вас понимаю, – ответила ему Людмила.
– Провинция вымирает от бескультурья, я вам скажу. Люди замыкаются в своем убогом мирке и живут одними заботами о пропитании. Большая политика здесь никого не интересует, большая литература – тем более. Люди живут, повинуясь инстинктам, опираясь на некую пуританскую философию, в основе которой христианский аскетизм. Но эта философия не обогащает. Она заводит в тупик.
– Да-да, – зевая, согласилась с ним Людмила, толком не понимая, о чем идет речь.
Он, глядя на неё, стал широко и обольстительно улыбаться. Потом, удовлетворенный чем-то своим, вышел покурить на крыльцо. Под ним звонко пропели промерзшие половицы. После этого Людмила быстро встала со своего места, подхватила на руку его плащ и вышла следом за ним. Он как-то удивленно и растерянно посмотрел на неё.
– Вы извините меня, но я уже сплю, – сказала она виновато, протягивая ему верхнюю одежду. Он с печальным видом принял синий плащ летчика и, ничего не сказав, отвернулся. Видимо, не ожидал такого быстрого финала, не предвидел его.
Ночь была удивительно тихой и лунной. Серебристый свет струился по снегам и проталинам. Улица была неподвижна и холодна. Часть её оставалась в тени, а другая часть была залита, затоплена до краев ночным синеватым сиянием. Глаза у Павла Александровича, кажется, тоже блестели.
– Вы, вы не знаете, как мне здесь одиноко, – вдруг со слезой в голосе признался он, набрасывая плащ на плечи. – Жить не хочется, Людмила Николаевна, жить не хочется!
В это время он повернулся к ней лицом, и она увидела в его тёмных глазах влажный блеск. Обними он её сейчас – она бы ничего не смогла с собой поделать – отдалась бы ему… Но он нахлобучил меховую шапку на голову, сердито повернулся на одном месте, так что её обдало легким ветерком и зашагал прочь. Потом скрипнул подошвами у калитки и пообещал зайти завтра. Она ответила:
– Да-да, заходите.
Холод охватил её плечи мягкими лапами, потом сдавил так, что сошлись лопатки, и ей показалось, что нет ничего на свете сильнее этого холода.
***
Утром, в учительской, к Людмиле Николаевне подошла Клавдия Петровна – высокая слегка полноватая молодая женщина с глазами, красными от слез.
– Ну, как вчера спалось? – спросила, глядя в сторону.
– Хорошо, а что? – простодушно ответила Людмила.
– Знаю, что хорошо… Отец у моего Игоря пожаловал.
– Павел Александрович? – изумленно произнесла Людмила Николаевна.
– Он самый… Только не Павел Александрович, как вы выразились, а Пашка Хват… Даже не зайдет, даже не посмотрит на свое творение. И как только у него сердце устроено?
Клавдия Петровна, не стыдясь, смахнула со щеки крупную слезу.
– Ты, Люда, с ним не связывайся. Это не тот человек, который тебе нужен. Он тебя обманет, как меня обманул.
Людмила Николаевна почувствовала себя виноватой перед Клавдией Петровной. Оказывается, она чуть было не стала очередной любовницей этого сельского проходимца. Хотя, если честно сказать, он сразу ей не понравился, не заинтересовал. При всем его щегольстве из него выпирал обыкновенный сельский парень, который, скорее всего, за всю свою жизнь ни одной книги не прочитал, не посетил ни одной художественной выставки. К тому же перед глазами Людмилы стоял образ милого глазастого мальчугана, которого уже много лет воспитывала Клавдия Петровна в полном одиночестве. То, что Игорь сын этого человека имело сейчас решающее значение. Мальчик чем-то походил на отца. Обидеть этого маленького человека было бы преступлением. Он этого не заслужил, и Клава этого не заслужила. Она всё ещё любит своего бесшабашного летчика, всё ещё мечтает о встрече с ним, на что-то надеется.
***
Вечером Людмила Николаевна написала большое и обстоятельное письмо своему бывшему ленинградскому возлюбленному Борису Борисовичу Волнухину. В письме поведала ему о той обстановке, которая окружает её в диком вятском захолустье. О том, что от плохого питания она неожиданно стала полнеть и забывать лучшие четверостишия из прекрасных стихов Пастернака. Что ей больше не снятся белые ночи, Нева и шпиль Петропавловской крепости. От былой романтичности в её душе не осталось и следа. Хотя иногда ей очень хочется попасть на Невский проспект, где всегда многолюдно, хочется побеседовать с кем-нибудь на отвлеченную философскую тему. Хочется надеть что-нибудь модное и пройтись по аллее Александровского садика, шокируя встречных прохожих своим экстравагантным видом, потому что настоящая женщина обязана восхищать. Но здесь ей не до этого. Здесь вокруг такая дикость, такое убожество, что справлять нужду за кустами сирени возле школы считается чуть ли не нормой.
Перечитывая письмо, она то смеялась, то плакала, и думала о том, что этот год в провинции для неё – самое тяжелое испытание. Вот проживет этот год и почувствует себя сильной.
Когда письмо было написано, она вышла на улицу, чтобы отдохнуть от нахлынувших чувств. Там в вершинах школьного парка протяжно гудел ветер. Он налетал откуда-то с юга мощными порывами, принося то капли дождя, то мелкие снежинки. В темных гнездах на вершинах сосен громко каркали грачи. Небо было цвета молочной сыворотки. Где-то на западе тонкой розоватой полоской угадывался догорающий закат. Людмила Николаевна прошлась до конца темной аллеи и, почувствовав озноб, решила повернула обратно.
***
Постепенно в школе Людмила Николаевна стала завоевывать авторитет. Дети перестали её бояться, привыкли к ней, и от этого на уроках биологии стали много шуметь. Но всё равно, когда она входила в класс, сердце у неё замирало от какого-то странного беспокойства. Ей казалось, что она делает что-то не так, что она забывает об основных правилах педагогики, не учитывает детскую психологию, не сразу видит их способности и недостатки. Порой она слишком открыта перед своими учениками, порой излишне строга. Им сложно её понять.
Хотя где-то в глубине души она стала гордиться своими успехами, своим терпением, своей способностью переносить лишения и невзгод. Но иногда эта гордость как-то подозрительно быстро оказывалась погребенной под лавиной новых проблем. В какой-то момент она перестала считать свою молодость потерянной напрасно. Она делает и может сделать ещё очень много хорошего в полном одиночестве, превозмогая житейские трудности и неудачи. Она несет свой крест и будет нести его дальше, только для этого надо работать так, чтобы не хватало времени на серую и пустую меланхолию.
Временами Людмила всеми силами старалась взрастить в себе оптимистку, говорила сама себе, что она сильная, она всё может перенести, со всем справиться. И несколько дней ей удавалось быть бодрой, отзывчивой и спокойной. Но иногда сырой ветреный вечер вдруг пробуждал в ней депрессию, которая то накатывалась, то отступала, как порывы ветра, сминая первые робкие ростки оптимизма.
Она пробовала вставать в семь часов утра и бегать в шерстяном, спортивном костюме по гулкому весеннему саду, пока её щеки не станут румяными, пока не появится во всем теле необыкновенная птичья легкость. Порой в такие минуты ей казалось, что всё у неё хорошо, она прекрасно выглядит, её лицо молодо и свежо, тело послушно, сердце бьется ровно и легко. Что же ещё ей в таком случае нужно? Прерывая бег, она неожиданно останавливалась где-нибудь в самом заветном уголке яблоневого сада и глубоко дышала, впитывала в себя восторженно просыпающуюся природу вместе с утренней прохладой. Голова у неё начинала слегка кружиться, а на губах появлялась улыбка. Утро начиналось с хороших мыслей, с алой полоски зари вдоль горизонта, приплюснутой с боков случайными облаками, с прилива сил, с приступа молодой беспричинной веселости.
Но проходил яркий день, заполненный неотложными школьными заботами, домашними делами и случайными обидами, вслед за ним наступал вечер, – и снова откуда-то из глубины сада подкрадывалась к Людмиле грусть. Людмила пробовала убежать от неё, спасаясь у Клавы, но странный упадок сил настигал её и там. Тоска садилась рядом и не уходила, приглашая к тяжелому разговору с внутренним «я». От скуки Людмила стала много есть мучного, полюбила сладкое. За чаем у Клавы пробовала весело и умно говорить, но сбивалась, теряла тему и понимала, что подруга толком не слушает ее, только делает вид. У неё в голове были свои проблемы.
Иногда вместе с Клавой они начинали мечтать о чем-нибудь хорошем, но вместо красивого будущего почему-то все чаще говорили о красивых и сильных мужчинах, которых встречали когда-то на своем пути. При этом Людмила вспоминала Федора – своего первого мужа, а Клава Павла. И обе после этого как-то неожиданно понимали, что встретить здесь такого мужчину не удастся. Чтобы случилось нечто подобное надо ехать в большой город или на юг. Здесь все стоящие мужчины давно живут со своими женами. Они уже не вспоминали ни Ахматову, ни Есенина, не старались вслух перечитывать волшебную прозу Набокова. Читать толстые современные журналы им стало неинтересно, углубляться в сложные литературные и философские вопросы – лень. Поэтому всё чаще целыми вечерами они с Клавой говорили о дефиците колбасы и масла в перестроечной России, о том, что в городе жить интереснее и проще, особенно если сможешь заработать там хорошие деньги.
Иногда в разговоре перемывали кости директору школы, представляя его то хитрым жуком, то болтуном. Рассказывали смешные истории о его скупости и глупых выходках. Потом вдруг начинали говорить о глобальных проблемах современного мира, о стирании границ между народами, о пугающем одиночестве России средь этой всеобъемлющей гущи. Делали вид, что интересуются мировыми проблемами, а на самом деле жили только своими маленькими заботами. В такие минуты Людмиле Николаевне казалось, что блестящее образование для неё, как для сельского жителя, это очень дорогая плата за пожизненное раздражение в будущем, когда большие знания никак не стыкуются с примитивным образом жизни, допотопной техникой и дикими нравами провинции. Человек с большими знаниями здесь оказывается выбитым из колеи. Он ищет себе что-то подходящее, что-то соответствующее его интеллекту и не может найти, и от этого чувствует себя ещё более одиноким.
***
Между тем народ в Журавлях настолько привык к Людмиле Николаевне, что один из представителей этого народа, Боря Мамонт, стал заходить к Людмиле за деньгами, когда ему не хватало на пиво или водку. Мамонт был черен, широк в плечах и тяжеловесен, как дубовый кряж. После тюрьмы он нигде не работал. Если честно признаться, Людмила Николаевна немного побаивалась этого человека и поэтому всякий раз давала ему денег, зная, что тот, скорее всего, не вернет. Однажды она попробовала денег не дать, чтобы избавиться от неприятных визитов этого человека, но Мамонт почему-то не ушел. Он сел в кухне на стул и стал ждать, когда она передумает. Потом с сердитым видом повертел большой головой, нахмурил брови и громко сказал, так, что Людмила Николаевна заметно вздрогнула:
– Может, пузырек какой найдешь… тогда?
– Какой ещё пузырек? – не поняла Людмила.
– Ну, с пустырником или валерьянкой, – уточнил тот. – Валерьянку-то перед сном пьешь, небось, толстушка?
– Нет, – растерянно ответила она и захотела сейчас же посмотреть на себя в зеркало. «Неужели правда уже заметно»?
– Ну, рубль хоть дай тогда. С получки отдам, раз фунфырика никакого у тебя нету.
Она смущенно протянула ему рубль, забыв застегнуть кошелек. Мамонт заметил, что в кошельке ещё остались деньги, и нагло спросил:
– Дак уж дай буди трёшник. Чего скупишься. С получки верну.
Людмила Николаевна покорно отдала еще три рубля и отвернулась.
– Благодарю, толстушка. Век не забуду.
Когда Боря Мамонт ушел, она торопливо заперла за ним дверь, подошла к большому зеркалу на стене, задернула занавески на окнах и разделась до сорочки. Придирчиво стала разглядывать свое отражение в зеркале. Решила, что она вовсе даже не толстая, только подбородок в последнее время стал чуточку больше и плечи округлились. Ну, может быть, бедра выглядят чуть полнее, чем прежде, да слегка выступает живот, но сбоку это смотрится даже красиво, женственно. Почему же этот наглый пьяница решил, что она толстушка? Даже странно. Нет никакого повода так считать.
Людмила Николаевна снова стала бегать по утрам, старалась глубоко дышать, делать специальные физические упражнения. Но вскоре вынуждена была признать, что это не помогает. После утренней пробежки у нее появлялся хороший аппетит, во все щеки горел румянец, а вес между тем оставался прежним. В сердцах она подумала было, что ей, вероятно, необходим мужчина, но тут же постаралась отогнать от себя эту мысль. Это не логическое заключение. Это какой-то нелепый посторонний порыв. Иметь хорошего, достойного ее мужчину здесь – это роскошь, это мечта, которую почти невозможно осуществить.
***
После введения талонов на вино в Журавлях появились первые проблески надежды на трезвую жизнь. Но вместе с этими надеждами появились и покойники – доверчивые люди, отравившиеся кустарными заменителями спиртного. Людмила Николаевна заметила, что люди в Журавлях стали пить все, имеющее в своем составе спирт. Этот список начинался с духов, а кончался политурой. Многие жители села занялись производством спиртных напитков на дому. А Боря Мамонт стал заходить к Людмиле Николаевне в начале каждого месяца, чтобы выпросить (или, как он выражался, «вымолотить» у сельской учительницы) положенный ей «талон на вино». Всё равно ей этот талон ни к чему. Такие, как она водку не употребляют.
В общем, вскоре Людмила Николаевна с удивлением обнаружила, что те люди, которые крепко выпивали до принятия строгих мер, пить вовсе не перестали, только слегка перестроились. Они начали терроризировать местных старух и стариков, вынуждая их отдать им водочные талоны.
Трезвые жители в Журавлях по инерции всё ещё старались рубить новые дома, ремонтировать заборы, копать колодцы, но хмельная масса забулдыг смотрела на это занятие косо, как бы давая понять, что не стоит много горбатиться, пока о них заботится государство. Наверное, поэтому Журавли потихоньку ветшали и в раннюю весеннюю пору имели весьма неказистый или, как сейчас говорят, непрезентабельный вид. Повсюду в Журавлях до половины лета стояли обширные лужи, из которых по привычке пил домашний скот, а напротив сельского Совета даже выросли высоченные камыши, в которых плодились и вырастали дикие утки, так как лужа там постепенно превратилась в болото и стала привлекать к себе разную одичавшую живность. Председатель сельского Совета с открытием охоты начинал палить по уткам прямо из окон административного здания и говорил всем, что это доставляет ему истинное удовольствие, которое даже сравнить не с чем.
Обветшалых домов в Журавлях с каждым годом становилось всё больше. В некоторых из них жили пенсионеры, а в некоторых поселились огромные серые крысы. Так что если местные жители по своей инициативе начинали травить крыс в одном конце села, то крысы тут же перебирались в другую его часть, – то есть попросту меняли место проживания. А когда гонения на крыс прекращались, они тут же возвращались обратно. По старой традиции крыс тут называли «хомяками» и говорили, что они умнее всех животных на свете. Утверждалось так же, что если в селе водится много крыс, то значит, это село зажиточное и в нем обязательно должен проживать крысиный король – огромная крыса черной масти, у которой на груди белое пятно в виде ромба. А если есть крысиный король, то где-то должен быть его дом, где-то должна проживать его свита, его слуги и подданные. Говорилось так же, что с обыкновенными крысами можно делать всё, что угодно, но крысиного короля трогать нельзя. Ибо если король умрет, то на сельских жителей могут обрушиться все возможные на земле несчастья, начиная от голода и кончая страшными болезнями.
Замок крысиного короля – это пустующий дом где-нибудь на сельской окраине, куда лет десять уже никто не заглядывал. Инстинктивно люди боятся этих домов и не решаются в них заходить. Дети в этих домах начинают плакать. Даже кошки обходят их стороной, и только лесные бесстрашные ежи иногда заглядывают в такие дома, чтобы принести крысиному королю подношение – сушеный гриб или спелое яблоко.
***
Первая зима, которая казалась Людмиле Николаевне бесконечной, похожей на бескрайнее белое поле, наконец, закончилась. За ней пришла яркая, но прохладная и тягучая весна, продуваемая иногда резкими северными ветрами. А вслед за весной появилось на горизонте пышущее жаром, желто-зелёное деревенское лето, от которого хотелось получить чего-то необыкновенного, заманчивого и нового. Парилась, просыхая, оттаявшая земля, искрилась мутная вода на речке Журавихе, медовым цветом озарились ивы. Мать-мачеха зацвела мелкими желтыми цветочками. В лесу распустились анемоны, и проклюнулся, потянулся к солнцу узколистый иван-чай, обрамляя пышной зеленой зарослью лесные опушки.
Мужики посадили картошку на своих обширных огородах, и сами спокойно селись отдыхать на первых солнечных припеках с огромными бутылями мутноватой браги. Пили и беседовали о будущем урожае, о сенокосе и заготовке дров, о том, чего им ожидать от начавшихся в стране передряг, которые умные люди в правительстве называли перестройкой.
Пчелы стали летать над лугами с тонким угрожающим жужжанием, как пули. Пастух Абросим, собирая по селу скотину, стал каждое утро кричать где-то в конце Кооперативной улицы на отборном русском эсперанто: «Я вам, б……! Куда они, суки такие лезут»! И получила Людмила Николаевна свой первый долгожданный отпуск, который её захотелось прожить так, как подскажет сердце. Не оглядываясь на прошлое, не учитывая нравственные догмы и рамки приличия. Чтобы встречный ветер бил лицо, солнце ярко светило над непокрытой головой и ничего её не ограничивало, ничего ей не мешало.
Она стала собираться домой, складывала в чемодан вещи и пела. Сердце у неё радостно колотилось, в голове был туман. Наконец-то она свободна. Она может поехать туда, где её знают и любят, считают своей.
Через два дня она взяла билет до Кирова. Сто девяносто третий поезд уходил из Кирова в Ленинград утром. Она не спала всю ночь и всё старалась представить себе, как она пройдет по Невскому проспекту, как выйдет на набережную Мойки, а потом к Неве. Как увидит высокий золоченый шпиль Петропавловской крепости, и слезы радости появятся у нее на глазах. Она дома. Она смогла преодолеть все трудности, она вынесла, она победила, и сейчас она может вновь оказаться в стране вечной молодости, в сумраке любви, в спокойных берегах реки желаний. Там, где сможет, наконец, стать сама собой.
***
Уже при появлении первых новостроек Ленинграда она не смогла сдержать слез радости. Стояла в проходе между двумя испуганными провинциалками и тихонько шмыгала носом, часто промокая глаза скомканным носовым платком.
Домой от Московского вокзала Людмила ехала на такси и всё смотрела по сторонам счастливыми глазами. Яркие летние улицы её завораживали, они утопали в густой, волнистой зелени. В некоторых с детства знакомых местах Людмиле хотелось остановиться, выйти из машины и вдоволь насладиться красивым видом сквера или канала, попутно удивляясь тому новому, что возникло уже после её отъезда, но было неудобно просить об этом шофера.
На Таллиннской машина свернула во двор, проехала тёмную арку и остановилась возле детской песочницы. Людмила рассчиталась с водителем и пошла по тенистому дворику мимо огромных каштанов к знакомому подъезду. Ощущение было такое, будто она никуда отсюда не уезжала, потому что здесь ничего не изменилось без нее, даже обветшавший грибок меж детских качелей стоит так же косо, как раньше. Те же машины во дворе, те же скамейки в сквере.
Мать, увидев ее за дверью, всплеснула руками, расплакалась, расцеловала в обе щеки. Начала расспрашивать.
– Ну как ты там, на новом месте? Давай рассказывай скорее. А то я из писем твоих ничего толком не поняла. Федя твой два раза приходил, адрес спрашивал. Я не дала, хотя жаль мужика… Квартира-то у него хорошая.
Людмила Николаевна привычно села на кресло в гостиной, стала рассказывать о своей деревенской жизни, и когда в разговоре дошла до эпизода личной встречи с Борей Мамонтом – мать от души рассмеялась.
– Надо же, как народ распустился!
– Да таких, как он, немного. Остальные люди в деревне много работают, а выпивают, чтобы отдохнуть. Мне так кажется. Им одних дров на зиму надо заготовить гору, да ещё сад, да сено ещё, да картошка. Летом там люди работают от зари до зари, без выходных.
– Да и здесь ведь тоже без дела-то никто не сидит. Наш сосед, Всеволод Станиславович, докторскую защитил. Ездил в Германию опыта набираться. Дочка у него в медицинском институте учится, сын в училище имени Серова поступил. Живописью занимается.
– А Кира Соломоновна?
– Она в нашей поликлинике на приёме работает. Хорошая женщина, обходительная. Я её очень уважаю. Мы когда с ней на улице встречаемся – она всегда о моем здоровье спрашивает, советы разные дает по народной медицине. Тут у нас мода пошла травами лечиться.
Мать неожиданно замолчала, взглянув на усталое лицо дочери. Потом спохватилась:
– Что это я всё говорю да говорю. Ты, небось, есть хочешь с дороги. Давай, приходи ко мне на кухню, там и поговорим. У меня раньше после длинной дороги спина болела. А у тебя, как? Не болит?
– Нет, не болит пока, – ответила Людмила с улыбкой.
– Ну и, слава Богу.
Мать направилась на кухню. Людмила пошла было за ней, но по пути зашла в ванную, вымыла лицо и руки, и, взглянув на свое отражение в зеркале, спросила через открытую дверь:
– Мам?
– Да, дочка.
– А Борис не звонил?
– Нет, – ответила Маргарита Валерьевна после непродолжительной паузы, – как ты уехала – так больше не звонил ни разу. И, слава Богу.
– Ну, мама…
– Да уж не буду. Не понимаю я его. Мне Федора твоего жаль. Такой видный мужчина. На висках седина. Видимо, переживает. До сих пор не могу понять, почему ты с ним так обошлась? Ведь этот Борис Борисович-то в подметки ему не годится.
– Мама!
– Да чего там! Я Федора сердцем чувствовала. Он человек хороший. А этот, писатель-то твой, говорит со мной и в глаза не смотрит. Неудобно ему, что ли? При живой жене вторую бабу завел. Усищи как у таракана, и лицо всегда блестит, как будто жиром намазано.
– Ха-ха-ха! – тихонько хохотнула дочь.
– А чего. Мать зря не скажет. Мать сердцем чувствует, где твое счастье.
– А Наташка Семенова, как? Моя лучшая подружка.
– О, она совсем с пути сбилась. Про нее такое говорят.
– Что? – заинтересовалась Людмила.
– Ну, будто она с криминальным бизнесом связалась, и что-то там такое организовала для них непотребное. Вроде дома свиданий.
– Да что ты!
– Я сама точно не знаю, но люди говорят. У Марии Игнатьевны сын сейчас в милиции работает, так вот она мне рассказала по секрету… Жуть что в России творится сейчас. Жуть и срам.
После завтрака почти до обеда мать и дочь снова говорили, только сейчас вопросы задавала мать, а дочь отвечала. И во время этого спокойного разговора Людмила не заметила в матери никаких признаков старения, скорее, наоборот – увидела юный задор в глазах, спокойную размеренность в движениях. Мать явно не собиралась сдаваться.
Вечером Людмила решила пройтись по городу. Она с детства любила это время медлительных летних сумерек, когда оранжевый закат заливает мягким светом вершины высоких зданий, а все остальное вместе с деревьями и людьми начинает тонуть в синеве, в призрачной дымке. В это время город начинает зажигать огни, становясь при этом ещё более ярким и манящим, ещё более обольстительным. На многолюдном Невском в это время нарядная молодежь гуляет парами, у Гостиного двора влюблённые назначают свидания, и на набережной Невы тоже не пусто, только ветер, всё ещё резкий и холодный, гонит от Финского залива крутую волну.
На перекрестке, возле знакомого с детских лет гастронома, Людмила остановилась и, после короткого раздумья, подошла к телефонному автомату, который был сейчас в тени от зелёного облака липы и выглядел очень уютно. Набирая номер Бориса Борисовича, она неожиданно разволновалась, боясь, что его нет дома, что трубку возьмет его жена, и тогда придется говорить что-нибудь совершенно нелепое, лгать, ища выход, объяснять, что случайно не туда попала. Но трубку, к счастью, поднял Борис, она поняла это по его дыханию.
– Алло! Я слушаю вас, говорите, пожалуйста.
– Боря! – не проговорила, а прошептала она.
В трубке всё стихло.
– Боря, ты слышишь меня?
– Это ты, Людмила? – спросил Борис.
– Да.
– Здравствуй, милая! Здравствуй, дорогая! Я так по тебе соскучился. Когда ты приехала, на сколько?
– Вчера.
– Нам надо сейчас же встретиться. Так хочется поговорить с тобой. Ты не представляешь. Весь год я прожил тут без тебя, как в клетке, как в неволе.
– А почему так редко писал?
– Не люблю писать писем, не умею. Ведь в письмах и десятой доли не передашь от того, что чувствуешь.
– Я тебе не верю.
– Это правда. Без тебя я остро чувствую свое душевное одиночество, – стал оправдываться Борис Борисович. – Мыслями своими, самыми сокровенными, поделиться не с кем. Это хуже всего.
– Я понимаю. Но…
– Тогда я заеду за тобой… через полчаса. Идет?
– Да.
– Ну, пока!
***
Через сорок минут синий «москвич» Бориса Борисовича стоял внутри двора на Таллиннской. Около него неспешно выхаживал, разминая ноги, высокий мужчина в сером костюме. Это был Борис Борисович Волнухин, человек с густыми усами и каким-то особым, неизменно свежим лицом. По правде сказать, его внушительные усы выглядели сейчас излишне тяжеловесно, но дурного впечатления не производили, так как были тщательно прибраны, промыты и уложены. Это лицо украшали очки в безукоризненно темной оправе. Он был коротко пострижен, надушен и держал в руке свежую газету, на ходу проглядывая какую-то статейку в ней.
Через какое-то время к нему во двор спустилась Людмила в потертой джинсовой юбке и желтой кофточке с перламутровыми пуговицами. Он наклонился к дверце машины и достал из салона букет цветов. Людмила, искренне радуясь, приняла красные гвоздики, поднесла их к лицу, вдохнула, закрыла глаза, и сделала вид, будто у неё кругом пошла голова. Потом поцеловала Бориса в гладко выбритую щеку и деловито села в машину. Машина завелась, плавно сдвинулась с места и покатилась по двору, описывая эллипс возле детской песочницы. Немного позднее нырнула под арку и скрылась из вида.
Вскоре Борис и Людмила уже были в Озерках на даче у давнего друга Бориса Борисовича, военного моряка-подводника Михаила Крашенинникова, который серьёзно увлекался живописью. Это было видно по картинам, которые украшали стены дачи, по запущенному, но удивительно красивому саду, где вперемешку росли яблони и ели, клены и груши, по тому особенному запаху, который издают только что написанные маслом этюды и натюрморты.
Людмила принялась готовить ужин, а Борис Борисович стоял у неё за спиной и шутил, рассказывал занимательные истории из городской жизни. Иногда он обнимал ее за талию и пробовал поцеловать в шею. Она нехотя останавливала его. Ещё не выпив ни грамма спиртного, он уже чувствовал себя хмельным и счастливым, помолодевшим на несколько лет. Потом вдруг посерьёзнел, сел на стул в углу и долго молчал, следя за ловкими руками Людмилы и одновременно думая о чем-то своем. Наконец решился, кашлянул и сказал:
– А знаешь, Люда, я этой зимой несколько ночей не мог глаза сомкнуть.
– Почему? – шутливо переспросила она.
– Вот сейчас, если ты не против, принесу листок бумаги и объясню всё. Это очень интересная теория, знаешь ли. Очень.
– Философское что-нибудь? – спросила Людмила без особой заинтересованности.
– Да, чисто теоретическое. Я бы сказал, абстрактное даже.
Он долго искал листок бумаги и ручку в соседней комнате. Наконец нашел всё, что нужно, и подсел к столу рядом с Людмилой.
– Я когда начинаю об этом с женой разговаривать – она меня не понимает, друзья – тоже. Вся надежда на тебя, ты всегда была умницей. Вот посмотри.
Он положил перед собой листок бумаги и приготовился что-то нарисовать на нем.
– Ты знаешь, что древние философы бесконечность когда-то изображали восьмеркой, лежащей на боку?
– Ну, допустим. И что из этого следует?
– Так вот, мне всегда представлялось, что бесконечность – это круг, который увеличивается в размерах. А у них почему-то восьмерка.
– Ну?
– Ты не догадываешься, почему?
– Нет, – чистосердечно ответила Людмила.
– А я задумался, и знаешь, к какому выводу пришел?
– К какому?
– Я понял, что та точка, где два эллипса, образующие восьмёрку, соприкасаются между собой, – не что иное, как логический фокус Вселенной.
– А что такое, логический фокус? – удивилась Людмила.
– Дело в том, что вся вселенная состоит как бы из одинаковых частей, только одни из этих частей очень большие, а другие очень маленькие. Ну, например, строение атома чем-то напоминает строение Солнечной системы. Протон – это Солнце, электроны – планеты. То есть структура построения и взаимодействия в микромире почти тождественна структуре космической. И между ними есть связующее звено – это логический фокус… А что может быть логическим фокусом? Только разум, осознающий симметрию, только общечеловеческое сознание с его возможностью накапливать знания.
– Но, почему именно фокус? – переспросила Людмила.
– Потому что человеческий разум может смотреть в обе стороны бесконечности одновременно. В бесконечно малое и бесконечно большое.
Он ловко нарисовал на листе бумаги внушительную по размерам восьмерку.
– И что из этого следует? – снова задала вопрос Людмила, глядя на странный рисунок и не понимая до конца, как можно объединить бесконечно малое и бесконечно большое.
– Так Бог хочет познать самого себя, – вкрадчивым голосом проговорил Борис. – Ведь он создал человека по образу и подобию своему.
– Бог, – удивленно повторила она.
– Да. Создав человека, Бог получил возможность видеть себя со стороны. Наши глазами он смотрит на Вселенную, которая вокруг нас. С нашей помощью он старается понять тот мир, который когда-то создал.
– Твои рассуждения озадачивают, – после недолгого молчания призналась Людмила.
– Меня к таким выводам подтолкнули стихи Блока. У него в стихах особая гармония, рассчитанная на отклик души. На что-то тайное, о существовании чего мы даже не догадывались.
– А кстати. Блок свою незнакомку здесь написал, в Озерках, – вставила свою реплику Людмила.
– У него в стихах больше музыки, чем здравого смысла, – продолжил Борис.
Ужин был готов. Людмила и Борис удобно разместились возле стола, на котором особенно привлекательно выглядел салат из свежих помидоров. И тут Борис о чем-то вспомнил, вышел к машине в сад и вернулся с бутылкой марочного, с запахом влажного вечера и с непокорно поднявшейся прядью на лбу. Людмила внимательно посмотрела на него и спросила по-домашнему спокойно:
– На улице ветер?
– Да. Наверное, будет дождь.
Она перевела взгляд на окно и увидела там плотное кружево листвы, расплывчато блестящее на фоне восковых сумерек. Ей нравилась тёплая тягучесть июньских вечеров, бархатные тени от деревьев, стрекот кузнечиков и та полупрозрачная череда облаков, которая не затеняет ни земли, ни неба.
Людмила была снова в той атмосфере культурного общения, к которой привыкла, и даже ученические картины на стенах дачи, яркие как цветочная клумба, не раздражали её. Борис заговорил о поэзии, и ей было приятно слушать его, хотя уже не так интересно, как год назад, в пору их знакомства. Кое в чем он повторялся, но это не портило общего впечатления. И говорил он увлеченно, потому что сам иногда пописывал стихи… А может быть, и не иногда. Кто его знает.
После двух рюмок ароматного вина ноги у Людмилы Николаевны сделались невесомыми, и вся она немного поплыла вместе со стулом куда-то назад, к настенному шкафу. Она почувствовала, что щеки у неё горят, а пальцы сделались непривычно тёплыми. Если выпить ещё одну рюмку этого восхитительного вина, она или уснет или взлетит в небо. Тень сна уже витает над ней, давит на ресницы. Она уже ни о чем не способна думать. Совершенно ни о чем. Она только смотрит перед собой и слушает своего собеседника, да иногда поворачивает лицо к окну, если там начинает шуметь ветер, слегка изгибая тёмные ветви яблонь.
– А вот и дождь пошел, – вдруг произнес Борис из темноты, от окна. Она открыла глаза и удивилась, что решительно не понимает, как он там оказался. «Неужели заснула?» И с улыбкой призналась сама себе, что такое вполне может быть, потому что устала в дороге, потому что выпила, потому что успокоилась. Её сон мог продолжаться всего несколько минут или несколько мгновений. Так с ней уже было когда-то.
– Может быть, приляжешь, – посоветовал ей Борис каким-то неуверенно вкрадчивым голосом.
И Людмила с приятным томлением подумала о том, что уснуть ей не удастся ещё долго. Он непременно придет к ней взволнованный, часто дышащий. Тихо ляжет рядом, и тёплые руки его обнимут её талию, потом отправятся в путешествие по всему её телу, заскользят, заиграют. Их тела сблизятся, сольются и начнут неистово проникать друг в друга, всё ярче вспыхивая в радуге долгожданных чувств, как вспыхивает и звучит волшебная музыка до той последней ноты, которая кажется самой желанной, потому что эта нота завершающая.
Но на этот раз всё было немного не так, как предполагала Людмила. На этот раз он как-то томительно долго обнажал её молодое тело, а потом вдруг стал целовать всю от пяток до волос, жадно, ласково, но не спеша, как будто старался насладиться этой минутой как можно дольше. И когда его губы прильнули к её губам, а потом с поцелуями стали опускаться всё ниже по груди и теплому животу, – она вдруг почувствовала, что тайно ждала от него именно этого проявления нежности. Сейчас у неё было сладкое чувство безвыходности происходящего, потому что она вся была в его власти, в пагубной неволе любви. Наконец она не выдержала этой сладостной муки, и каким-то не своим, хрипловатым голосом простонала: «Иди же ко мне. Иди!»
Потом опьянение чувством прошло, прошел туман сладкой, затмевающей здравый рассудок муки, и от этого, а может быть отчего-то ещё, возникло в душе неприятное, отрезвляющее чувство стыда. Она увидела себя со стороны. Вот она лежит на кровати рядом с мужчиной, у неё ярко горит на щеках румянец, волосы её веером разметаны по подушке. И вся она совсем не такая, какой должна быть настоящая Людмила Николаевна. Ведь на самом-то деле она совсем другая. Она чище, интереснее, возвышеннее… Хотя, может быть, всё наоборот. По-настоящему она именно такая, какой была несколько минут назад. И это понимание её вовсе не огорчило, в конечном счете, она женщина, она хочет любить и быть любимой.
***
Утром Борис проснулся первым. Ему было приятно увидеть рядом с собой Людмилу. Особенно хороши сейчас были её русые волосы, веером лежащие на подушке, и слегка позолоченные солнечными лучами. Её загорелое лицо, с полными щеками, как у ребенка, веки с густыми ресницами, полуоткрытый рот с маленькой круглой родинкой над верхней губой умиляли его. Улыбаясь, чему-то своему он повернулся к отпотевшему за ночь окну, за которым неподвижно блестели листья яблонь с матовой изнанкой и подумал о том, что мог бы пролежать вот так до вечера. Потом осторожно встал с постели и оделся, стараясь не разбудить Людмилу. Но она неожиданно скоро проснулась, повернула к нему лицо и спросила:
– Ты куда собираешься, Боря? Разве мы не останемся здесь еще на день?
– Да-да, непременно останемся, – ответил он, – только мне надо съездить в город часа на два. Ещё вчера в издательство заказывали. На обратном пути я провизии захвачу… Ты не возражаешь?
– Нет. Только не езди долго, не забывай про меня.
– Не забуду. Спи.
Он направился к выходу, но у двери приостановился.
– Если хочешь – в саду погуляй. Купаться не предлагаю. Вода холодная.
После его ухода Людмила Николаевна ещё долго лежала в кровати, наслаждаясь тёплым спокойствием своего тела, которое отдыхало от ласк, измученное и счастливое. «Он уехал, чтобы всё объяснить жене, – без тени обиды подумала она. – Он всегда так делает, потому что боится её потерять». Она перевернулась на другой бок, чтобы видеть зелень за окном. «И всё-таки хорошо быть одной. Семейная жизнь меня тяготила бы, – родилось в её голове. – Там каждый имеет свои обязанности, исполняет свою роль, а у нас с Борей полная свобода. Свобода без границ. Вот захочу – и уйду от него к маме».
Через час она встала с постели и прошлась по даче, на ходу расчесывая волосы. Дача ей понравилась, она состояла из двух светлых комнат и кухни. Обе комнаты смотрели окнами в сад, а сад располагался с южной стороны, поэтому в комнатах было много сухого уютного тепла, которое присутствует в деревянных зданиях, построенных из свежего леса. Здесь хорошо дышалось и думалось, запах смолы каким-то образом успокаивал, рождал светлые мысли.
Миновав невысокое крыльцо с желтыми деревянными ступеньками, она спустилась в сад и, уже шагая по узкой тропинке между деревьями, подумала, что Борис вчера с серьезным видом излагал ей какую-то странную теорию, а она толком не могла понять, для чего он это делает. Он всегда ищет чему-нибудь оправдание, объяснение. Увлекается отвлеченными идеями, суть которых без подготовки, без определённого рода заинтересованности воспринимается с трудом.
Под ее ногами зашуршала сухая прошлогодняя листва. Это Людмила свернула с тропки в сторону, и шуршание листвы, делающее её шаги мягкими и как бы чуточку медлительными, стало приятным. Так она дошла до плотной изгороди окружающей дачу, нашла в одной из досок круглую дырку от выпавшего сучка, и, слегка наклонившись, посмотрела за ограду. Увидела там овраг, густо заросший можжевельником, несколько сумрачных елей в отдалении, кучу какого-то хлама, вперемежку с битым стеклом, ржавые трубы возле соседнего забора. Потом выпрямилась и пошла обратно, срывая на ходу мелкие невзрачные цветы. И уже заходя на крыльцо, неожиданно решила: «Всё-таки уеду. Сейчас же».
***
Вечером позвонил по телефону Борис, озабоченно спросил, что с ней случилось? Она ответила, что ничего не случилось, просто стало скучно одной. Объяснила ему, что одиночество в Озерках и одиночество в Журавлях почти ничем не отличаются. Он стал извиняться, объяснять, что его задержали в редакции «Нового времени», где будет напечатана его статья «Инерция переселений».
– Это что еще за трактат? – удивилась Людмила. – Примерно то же самое, что теория логического фокуса?
Он засмеялся в трубку. Ответил, что это серьёзная, аргументированная статья на социально значимую тему. Что там нет ничего умозрительного, ничего похожего на философскую теорию.
– В ней я рассуждаю о некоторых сторонах русского характера. Это довольно интересно… Так свои мысли я ещё нигде не излагал, – пояснил в трубку Борис.
Людмила Николаевна сделала вид, что заинтересовалась статьей, и попросила прислать ей статью для ознакомления. Борис удовлетворенно согласился. На этом и закончился разговор. Она облегченно вздохнула, и когда вешала трубку – вдруг отчетливо поняла, что не хочет его видеть сегодня. Так ей будет легче, потому что есть во всем его шике и блеске какая-то явная несостоятельность, неопределённость, которая раздражает. Когда она была студенткой, а он её преподавателем, она этого не замечала, но сейчас это почему-то остро чувствуется. В их нынешнем союзе он вовсе не опора ей. Он такой же, как все. К тому же, она с трудом его понимает.
Вечером друг Бориса по фамилии Депрейс привез в тёмном конверте обещанную статью. Людмила Николаевна проводила его до машины, быстро вернулась и стала читать небольшую по объему работу, тут и там исправленную хорошо отточенным карандашом. Начиналась она словами:
«По моему мнению, коммунизм в России был обречен потому, что идеологические его представители пытались создать общественный идеал в противовес идеалу религиозному. А такое строительство, в конечном счете, всегда было насилием над личностью, потому что на свете существует только один нравственный идеал, который у каждого человека в душе, и легче всего этот идеал воспринимается вместе с Богом – его идеальным носителем. К тому же Бог по законам теологии может контролировать наши чувства: он вездесущ, всезнающ и всемогущ. Правда, контроль этот только на уровне душевной открытости, свободы выбора: верить – не верить, – то есть на уровне вечной очистительной работы души. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, – эта святая коммунистическая троица изначально не могла заменить настоящей Святой Троицы, которой тысячу лет поклонялся русский народ и в которую тысячу лет верил. Собственно философская мысль в России всегда была мыслью христианской, схоластической, и в этом нет никакой беды, потому что она гораздо ближе русскому сознанию, чем коммунистическая идея, она гораздо более человечна, раскованна и патриотична, чем обезличенное учение о борьбе классов.
Однако попробуем заглянуть, что же происходило в истории России с чисто эмпирических позиций. Изначально наше государство – это суша, не имеющая четких границ на востоке. На западе эта граница были всегда. То есть – это огромный простор – равнина без конца. Этот простор долгое время позволял нашим предкам экспериментировать, уходить в неизведанное, чтобы найти там правильную и счастливую жизнь. Переехал на новое место, ушел от прежнего хозяина – и зажил по-новому, не так, как прежде… Это российское кочевье происходило веками, оно у людей в крови. Не зря же в России всегда было много бродяг и романтиков. Сначала люди переселялись на пал, в леса, на новое место. Потом – в города. И по своей психологии были готовы переселиться в коммунизм. В этом смысле первыми коммунистами были Болотников, Разин и Пугачев.
Но вот поиски земли обетованной завершились трагедией для всего народа. Новый предводитель переселенцев, товарищ Ленин, решил переменить не только государственную систему, но ещё по-новому устроить человеческую душу: склад ума, образ чувств, мыслей, что с точки зрения здравого смысла, вообще-то, невозможно. Получилась трагедия. Образовалось кровавое пятно на общественном идеале. Из-за этого пятна были обречены все потуги Михаила Горбачева возродить учение Ленина. К сожалению, оно навсегда в кровавом сталинском одеянии. Может повториться террор, большая уравниловка, бунт, хаос, но коммунистическая идея уже давно умерла. Поэтому, когда Михаил Сергеевич вновь обратился к Ленину, на этого странного человека многие стали смотреть с недоумением.
Но дело, в конечном счете, даже не в прошлом. Сейчас речь идет о будущем переселении в капитализм. Нужно ли это переселение российскому народу именно сейчас? И должно ли оно быть таким стремительным? С теоретической точки зрения – да, с нравственной и психологической – нет. В этом смысле я согласен с Валентином Распутиным, который убеждает, что за семьдесят лет правления большевиков многое изменилось, да и само учение о коммунизме приобрело иные черты: стало более человечным, лояльным, трезвым. Собственно, в последние двадцать лет мы не столько строили социализм, сколько примеряли на других его идеологическое одеяние, – сами же при этом давно уже жили в каком-то ином измерении, потому что давно забыли не только идеал общественный, но и нравственный идеал. Я бы не называл этот период застоем. Это был период явного разделения страны на два безболезненно существующие класса. Класс руководящих работников от партии и класс тружеников. Очень часто это разделение шло по семейному признаку: муж – рабочий, жена – управленец. С точки зрения стабильности – это была самая надежная система сосуществования классов. Да и с нравственной точки зрения это не так уж плохо. Но мина компромата, заложенная Сталиным, сработала. И надо сказать откровенно, что журналисты и писатели этому сильно помогли. Да, был альтернативный путь врастания в мировую экономику постепенно, по китайскому образцу, но с мутного дна перестройки поднялось столько «карасей-идеалистов», что они убедили весь российский народ в благопристойности «щуки капитализма», которая слегка насытится мелкой рыбалкой, но основной массе собственников обязательно будет послабление. Они смогут развиваться и расти.
И что же мы видим сейчас. Бунтари-идеалисты постепенно трезвеют, а некоторые даже уходят в оппозицию – поближе к толпе, к любимой стихии. Но уходят, опять же, только для того, чтобы при первом удобном случае оседлать стихийное возмущение и на волне этого возмущения прийти к власти. И все же самое страшное не в этом. Самое страшное – в упрямой надежде всех бунтарей-идеалистов на чудо некой известной только им экономической теории, следуя которой можно за год или два всю Россию преобразить в цветущий сад…»
И так далее, ещё на пяти машинописных листах.
Закончив читать статью, Людмила надолго задумалась. На её красивом матовом лбу поселились две еле приметные морщинки, которые не старили, а скорее украшали её. «Это не так глупо, как теория логического фокуса, – решила она и с облегчением отложила рукопись в сторону. – Надо сказать Борису об этом».
***
Весь следующий день она бродила по Ленинграду, наслаждаясь его спокойной красотой. На ней было белое легкое платье и модные туфли с блестящими застежками. Хорошо промытые волосы Людмилы струящимися волнами отлетали назад при каждом порыве ветра. При этом она чувствовала их ласковую тяжесть. Впервые, после долгих месяцев жизни в провинции, она стала обращать внимание на то, какие наряды носят сейчас молодые женщины. Заметила, что в сочетании охряных домов и синего неба есть какая-то неуловимая гармония, которой раньше она не замечала.
По старой привычке и с тайной надеждой увидеть что-нибудь новое, она зашла в Эрмитаж, нашла там зал Рубенса на втором этаже и долго гуляла по этому залу, медленно переходя от картины к картине. Почему-то именно Рубенс сейчас манил её больше всего. Картины Рубенса она видела даже во сне. Нарисованные удивительно сочными красками мощные мужские и женские тела завораживали ее своей внутренней экспрессией и силой, каким-то жгучим и радостным жизнелюбием. На этот раз она долго простояла перед его «Венерой и Адонисом». Борис однажды сказал, что Людмила очень походит на Венеру с этой картины Рубенса. Она решила рассмотреть Венеру получше, и чем дольше рассматривала – тем всё больше убеждалась, что Волнухин был прав. Пышнотелая (кровь с молоком), Венера, действительно чем-то напоминала Людмилу, только волосы на голове у Венеры казались Людмиле непривычно золотистыми. И ещё почему-то смущало копье в руке Адониса. Зачем ему копье в такую минуту? И для чего понадобились художнику тяжеловесные морды собак на переднем плане картины? Что они олицетворяют, о чем говорят? Если это фон – то весьма неудачный. Для нужного фона хватило бы, кажется, одного розовощекого амура и пары лебедей.
Из зала Рубенса её потянуло к скульптурным композициям Родена. Когда ещё девочкой она увидела эти скульптуры впервые – сердце у неё томительно сладко забылось, а щеки предательски зарделись. Все композиции Родена были о влюблённых, все были выполнены из белого мрамора, до блеска отполированного, и каждая скульптурная композиция была как книга, которую можно листать и листать, подходя с разных сторон к центральной теме. В слитках сплетенных тел угадывалось совершенство. Это была поэма о любви, реальная и романтическая одновременно.
После Родена был зал французских импрессионистов. И это тоже увлекло Людмилу, потому что «Париж в дожде» выглядел почти так же, как Ленинград в дожде, как любой южный город в летнюю пору. Вот только Пикассо, как она ни напрягалась к его картинам, чтобы что-то понять, ничего ей не сказал. Все его серые маски, желтые шахматы, треугольники и ромбы, на сером фоне холста, тушили в ней всякое стремление восторгаться и понимать. Всё в картинах Пикассо казалось ей безжизненным, как бетонная стена.
Из Эрмитажа она вышла на Мойку, остановилась напротив музея Пушкина, облокотилась на мраморный парапет и долго стояла так, наблюдая в воде сонные отражения соседних домов. И ей показалось, что нет ничего на свете дороже спокойствия, тепла и этого вот восторженного созерцания окружающей тебя жизни, куда не вписывается ни теория логического фокуса, ни диалектический материализм. Потому что всё в этом мире просто, как дважды два, и человек может быть счастлив всего лишь тем, что не лишен возможности видеть, слышать и понимать окружающую его жизнь.
Дома она с удовольствием раскрыла том Ивана Бунина и прочитала небольшой рассказ под названием «Благосклонное участие». Удивилась тому, как точно Бунин смог подметить в женщинах столько присущих им черт. Принялась было за «Дело корнета Елагина», но в тёмном коридоре зазвонил телефон, и мать каким-то металлическим голосом глухо позвала её, мелькнув в просвете двери оголенной по локоть рукой.
– Твой опять звонит. Говорит, срочно.
– Что срочно? – переспросила Людмила.
– Не знаю, – ответила мать.
Людмила взяла тёплую трубку из руки матери и услышала только одно слово: «Приезжай». Сказано это было таким тоном, каким никогда Борис с ней не говорил. И она вынуждена была поехать к нему на съемную квартиру, потеряв всякий интерес к Бунину, готовому обеду и солнечной домашней тишине…
Нашла Бориса возле горящего камина, среди бесформенной груды книг, в рубахе, расстегнутой до пояса, мятых брюках и без очков. Он разрезал шпагат на новеньких упаковках книг и бросал эти книги в огонь.
– Что ты делаешь? – спросила она удивленно, увидев его за этим странным занятием.
– Они отказались от моих стихов. От всего тиража, – проговорил он обреченно, не поднимая на неё глаз.
– Кто они? – не поняла Людмила.
– Торговые работники. Эта новая мафия. Все мне отказались… Я пробовал продавать книги сам. Ставил автографы. Три часа простоял на станции метро Площадь мира… И ничего не продал. Ничего! Поэзия сейчас никому не нужна. И это в России, в самой читающей стране! Представь себе.
– Но.
– Страна торгашей и пьяниц! Мы живем в стране торгашей и пьяниц! – зло хрипел Борис.
– Может быть, увезти их куда-нибудь в провинцию. Там ещё есть романтики, которые интересуются поэзией, – невпопад проговорила Людмила.
– Глупости! Не надо себе лгать. Не надо меня успокаивать. Я знал, что стихи сейчас никому не нужны, и всё-таки пробил эту книгу в издательстве. Нашел спонсоров. Договорился с редакцией. Договор заключил. Сейчас все эти деньги нужно возвращать.
В его глазах появились слезы, горький отсвет огня, бушующего в душе.
– Брошу всё! Брошу, Людмила! Стану, как все. Буду преподавать. Хватит глупостей. Время иллюзий прошло… Моя жена, к сожалению, оказалась права. Она никогда не воспринимала мои увлечения серьёзно. Смотрела на меня с иронией, этак снисходительно. И вот она снова оказалась права. Права, понимаешь. Сейчас на многое можно так смотреть. На всё, что не приносит прибыли сию же минуту.
– А если тебе заняться прозой? – неожиданно проговорила Людмила.
Он косо взглянул на неё снизу вверх, с глазами полными негодования.
– Ты никогда не воспринимала меня серьёзно. Ты только соглашалась. Я чувствовал. Иначе не стала бы предлагать мне такое.
Его правая рука заметно задрожала.
– Ты похожа на всех остальных людей. Трезвых и расчетливых. Как ты можешь предлагать мне писать прозу, после того как рухнули все мои надежды, все планы пошли под откос. И это после того, как я чего-то добился.
Камин уже полыхал так сильно, что от него сделалось жарко. На лбу и переносице у Бориса выступили капельки пота, а глаза расширились. Сейчас он чем-то напоминал Людмиле Демона, сидящего между землей и небом с одной из картин Врубеля. Она почувствовала, что ей лучше уйти. Он переживает за свою слабость и поэтому бесится. Одному ему будет легче. Книги из его рук большими белыми птицами летели в камин, махая страницами как крыльями.