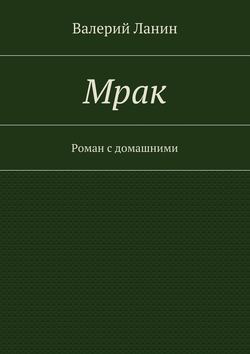Читать книгу Мрак - Валерий Ланин - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеЗдесь могла быть чья-то реклама, но её нет.
Здесь могло быть предисловие издателя. Но его нет.
Здесь мог быть пролог, как у Гёте в «Фаусте». «Пролог на небесах».
Пролога нет…
Нет пролога, нет прелюдии… а могла быть… почему нет? У Баха хорошие прелюдии в двухтомном «Хорошо темперированном клавире». У нас – нет.
Отсутствие информации об отсутствующем бытии вынуждает автора начать повествование с пустяков, собственно говоря, с нуля.
Люди давно догадались, что их используют втёмную. Но как признаться себе, что ты пешка…
Здесь вместо эпиграфа я вставлю картинку. Почему эпиграф обязательно должен быть вербальным? Совсем необязательно. Я вставляю графику, дизайнерский китч. Или кич. Без разницы. Вот это:
Китч вместо эпиграфа.
В наушниках сумбур вместо музыки.
Бельгийский астроном Эрик Вальтер Эльст лично открыл более 3600 астероидов, один из них, №11542 в Главном поясе астероидов, Эрик назвал в честь города Соликамска Соликамском. Что он хотел этим сказать, непонятно.
Логическая связь между понятиями не прекращается, если даже нигде нет объектов, соответствующих этим понятиям. Связь круга с его свойствами не прекратится, если исчезнут все круглые предметы…
Здесь автор (в нашем случае философ Введенский) выразился яснее ясного: бессмертие существует. Пусть оно существует лишь между понятиями, но оно есть…
В детстве я спал за печкой, слышно было, как трещат дрова и тянет дым в трубу, и видно было сквозь трещину в печной кладке жёлтое пламя, а чуть погодя, когда поленья сгорят, – красные угли; и как я сейчас понимаю, ребёнок угарал, надышавшись угарным газом, – сознание, растягиваясь, неслось ввысь, потолка не существовало, сознанием можно было менять скорость вознесения, наблюдать в высоте, как ты, уменьшаясь почти до точки, до искры, одновременно ширишься до бесконечности…
Как-то при одном таком вознесении к привычным звукам живущей своей жизнью печки прибавилось что-то неестественно бодрое и громкое, – это родители купили у Гуровых патефон, принесли домой и завели… Возможно, патефон спас меня от окончательного угарания: старшая сестра, на десять лет старше, растолкала братика в его кроватке, приказала: «Слушай!», – она хотела чтобы я стал музыкантом. В младенчестве, что естественно, я постоянно бубнил, подражая окружающим звукам природы. В раннем детстве, когда сестра прочитала про бунинского Арсеньева, который «слухом за версту слышал свист суслика в вечернем поле», брат признался, что слышит подземные скрипы, щелчки и гулы и пытался показать, как это всё звучит…
Тогда вовсю ещё гудели заводские гудки, созывая несчастных на трудовой подвиг, – гудок магниевого завода, гудок калийного комбината…
Дом наш стоял на склоне гигантского холма, холм глубоко под землёй истачивали шахтными туннелями, или как их там называют… штольнями, штреками, – получался такой подземный музыкальный орган.
Дома пели и мама, и бабушка, и сестра задумала, что как только брат немного подрастёт, она отдаст его в музыкальную школу. Брат подрос, заболел детской болезнью, не то корью, не то красной скарлатиной и скоро осознал, что заводские гудки точнее будет называть сиренами… как в блокадном Ленинграде при налётах немецких бомбардировщиков, – после болезни слух брата притупился, не получится уже из него ни Шостаковича, ни даже глухого Бетховена… Заодно ослабло зрение, заводская труба стала похожа на фагот… Обоняние вообще исчезло, брат никогда не будет пьянеть, как бунинский Арсеньев, «обоняя запах ландыша или старой книги». Осязание взяло на себя часть функций обоняния, осязаю я хорошо. Перед армией эскулап призывной комиссии сунула мне под нос рскрытую банку с нашатырным спиртом, чтобы таким макаром изобличить обманщика, утверждающего, что он не чувствует запахов. Я только немного поморщился, да и то из-за того только, что контрольный эксперимент проводится так грубо…
– Годен, – резюмировала комиссия.
Нашего дома давно нет. Иногда он всплывает в памяти чёрным деревянным слоном на снежном поле. Белое поле зимой, чёрное картофельное весной и осенью, и три неразменных фигуры на горизонте, три террикона калийного комбината, издалека похожие на египетские пирамиды в Гизе.
Сестра говорит: «Я тебя маленького лупасила нещадно, ты помнишь?»
– Нет, не помню.
– Как ты не помнишь?
– Помню, у нас был большой чёрный пёс. Сейчас думаю, что немецкая овчарка.
– Был Тарзан, да. Помнишь, он меня покусал?
– Не помню. Я его очень любил. Потом он куда-то девался, убежал, что ли?
– Отец его застрелил.
– Как застрелил…
– Из пистолета. Мама сказала: «Отведи подальше… На яму.» Вот, шрамы на ноге остались…
«И враги человеку – домашние его.»
Про соликамские ямы можно написать целый талмуд. Дело в том что город стоит на шахтах и местами проваливается. Давно роют под городом.
«Выдающийся химик Николай Семенович Курнаков, изучая совместно с геологом П. И. Преображенским соляные озера и минеральные источники СССР, открыл одно из величайших в мире месторождение калия – Соликамское.»
Потом сестра решила сделать брата «немцем», выучить на переводчика с немецкого. В Соликамске много немцев с Поволжья, с Украины.
В декабре 1941-го четыре эшелона с людьми и оборудованием прибыли из Луганской области, за десять месяцев запустили первую очередь порохового завода. При строительстве разобрали на кирпичи нашу усть-боровскую церковь. Среди приехавших было много квалифицированных специалистов – строителей, монтажников – заключённых Гулага НКВД.
Большой храм был, – вспомнил как-то отец, – двухэтажный, так в нём красиво пели, Таня, Катя…
Сестра отвела меня к Унруэ, старой учительнице, у которой сама училась.
Однажды отец принёс домой с порохового завода крошечного щенка, кто-то из охраны отдал за ненадобностью, – отец мечтал завести сибирскую охотничью лайку, но щенок был не от лайки. Повертев его в руках, пробурчав «сучка», спросил:
– Как её назовём, Валерик?
Я был ещё настолько мал и неразумен, что меня поразила сама постановка вопроса, – возможность называть вещи своими именами, – пожалуй, впервые в жизни тогда задумался, – выходит, что и я не всегда назывался так, как меня называет отец.
«Давай назовём Пальмой», – сказал он.
Логично, возле пирамид должна расти пальма.
«Па́вел Ива́нович Преображе́нский, министр народного просвещения в правительстве А. В. Колчака в 1919—1920 гг.
Родился в семье священника. Профессор. В 1923 избран деканом агрономического факультета Пермского университета. Создатель русской научной школы геологов-солевиков. В честь Преображенского назван минерал из группы водных боратов – преображенскит Mg3B10O18 4,5Н2О. Преображенский пережил и <…> 1937 год, а в ноябре 1941 года эвакуировался из Ленинграда в ставший уже родным Соликамск. К этому времени он уже был директором НИИ галургии, являясь крупнейшим специалистом по соли во всем СССР.»
Хорошо, Курнаков, Преображенский…
А Рязанцев?
Рязанцев что, не открывал калий? Странно. Книжка есть в серии «Замечательные люди Прикамья» – А. К. Шарц. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев.
Внук В. А. Рязанцева, владелец Рождественского солеваренного завода С. Н. Касаткин скрывался в районе деревни Мошево севернее Усть-Боровой в землянке, где и был убит чекистами.
Вячеслав Данилов, социолог, написал пару лет назад в Фейсбуке:
«Сейчас, наверное, уже немного стыдно белому европейскому человеку, что он открыл Австралию, Америку и прочий мадагаскар. Современная гуманитарная наука учит нас, что все эти открытия были лишь колониальной авантюрой, а дух просвещения и свет христианской истины были лишь фиговым листком, покрывавшим самые позорные места колониализма. Джеймс Кук не был героем, и его съели не зазря.
Когда-то географическая пространственная метафора довлела над образом науки – наука искала и находила, закрывала белые пятна на карте и никакой Паганель не мог уронить ее чести.
Но сегодня наука должна искупить свой долг перед аборигенами. Зря открыли их континент. Возможно, что наука столь же виновата перед электроном, как и перед индейцем. Главный вопрос постколониальных исследований: что делать с открытым, если оно уже открыто и закрытым не может быть?
И далее: какова ныне логика научного открытия, если быть открытым означает подпасть под колониальное господство новоевропейского буржуа?»
Всё верно, натворили делов… Но виновата не наука, а сама жизнь. Жизнь – вот главный проект, главое открытие во вселенной, но что с ней, с жизнью, делать – понятно, что всё не вечно – но всё же…
Мария Ростиславовна Преображенская, вдова нашего специалиста-солевика вспоминает: «За двое суток до кончины (10 сентября 1944 года) Павел Иванович шутил над собой так, что развеселил дочь с зятем и обеих медицинских сестер. А страдал он ужасно! И тут он не изменил своей удивительной выдержке!»
Преображенского похоронили на кладбище Донского монастыря.
Интересно, Павел Иванович среди ангелов, архангелов etc. тоже шутит…
Летом 1943-го из Средней Азии на Соликамский калийный комбинат привезли 587 узбеков, казахов и каракалпаков. Для них специально открыли чайхану и курсы русского языка, потому что большинство ни бельмеса не понимало по-русски.
Однако рабсила Средней Азии оказалась непригодной для суровых климатических условий Соликамска, 532 человека были отправлены обратно.
«Основной тягловой силой на производстве оставались женщины.
Через военкоматы и БРР (бюро распределения рабсилы) в Соликамск прибывали жители соседних областей.
Из Кировской области прибыли 114 мужчин и 430 женщин. Условия работы в карналлитовом руднике были невыносимыми: бывшие колхозницы понятия не имели о промышленном производстве.
206 женщин дезертировали.
Сбежавшие, как правило, возвращались в родные места, где председатели колхозов скрывали их от милиции, – в деревне тоже не хватало рабочих рук.»
Посёлок «Каналитово», вечно там что-то происходило, кого-то убивали, кого-то насиловали. Видно было по вечерам из окна нашего дома залитое электричеством «Карналитово», за ним Боровск… за Боровском – Боровая, которой уже не видно.
В «Карналитоао», кстати, находится любимая жёлтой прессой тюрьма «Белый лебедь»
Отца убили в двух шагах от того места, где Чехов Антон Павлович в гостях у олигарха Морозова, постукивая тросточкой по ступеням крыльца всеволодо-вильвенской школы, задумывал «Трёх сестёр», где Борис Пастернак, спустя 10 лет после Чехова, косил от армии, выдавая зарплату рабочим.
Убили отца, как убили Дерсу Узала из книги Арсеньева, за ружьё. За охотничью двустволку.
Всеволодовильвенские «Три сестры» начинаются со слов про отца… одна сестра говорит: «Отец умер ровно год назад.»
И продолжаются в том же духе. Чебутыкин: «я любил покойницу маму…»
А под самый занавес Ольга изрекает: «Еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем»
Прекрасно, слов нет.
31 декабря 1928 года Сталин пригласил чету Цифриновичей, Циву Марковну и Владимира Ефимовича, к себе на дачу для встречи Нового года. Ровно через 10 лет Владимира Ефимовича расстреляли, а Циву Марковну отправили в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь.
В 1990 году на стене церкви святого преподобного Михаила Малеина в городе Соликамске установлена мемориальная доска Владимиру Ефимовичу Цифриновичу. Чёрный прямоугольник на белой стене, справа от ворот.
Кто такой Михаил Малеин, чтобы на храме его имени размещать доску первого директора соликамского калийного комбината?
Михаил Малеин – родственник императора Льва VI Мудрого, дядя императора Никифора Фоки, в честь преподобного назвали Михаилом первого царя династии Романовых, соликамский солепромышленник и медный заводчик Михаил Турчанинов дал денег на строительство в Святотроицком мужском монастыре на берегу Усолки надвратной церкви Михаила Малеина.
Турчанинов не дожил до освящения церкви. Освятили без него.
Церковь закрыли в 1928-ом, передав её вместе с монастырём Калийтресту, где директорствовал Цифринович.
А в 1938-ом передали Усоллагу, предварительно перепланировав внутреннее пространство, разделив его на камеры для заключенных. Владимир Ефимович похлопотал перед Сталиным об «организовать тысяч на десять человек концентрационный лагерь» в Соликамске.
Для десятков тысяч прибывших на стройку заключённых и спецпереселенцев занятость на строительстве и впоследствии занятость на запущенных в эксплуатацию магниевом заводе, карналлитовом и калийном комбинатах – была единственным источником существования.
Сохранился приказ от 22 июня 1942 на заготовку подножного корма для рабочих, ровно через год после начала Великой отечественной войны, уже при новом директоре Калийтреста:
«Приказ по калийному комбинату.
Сбор грибов, ягод и щавеля на 1942 год в районе г. Соликамск устанавливаю в следующем размере:
1. Заготовить грибов … 3 тонны
2. «» ягод … 6»»
3. «» щавеля … 6,7»»
Для осуществления и выполнения плана заготовок ПРИКАЗЫВАЮ:
провести следующие мероприятия:
Моему заместителю т. Анисимову организовать бригады по сборке (так. – В.Л.) грибов, ягод и щавеля путём заключения договоров со школами, с ремесленным училищем, с пионерскими лагерями, с колхозами и единоличниками не позднее 1-го июля 1942 года.
Руководителям децзаготовок ОРС'а т. ИВАНОВСКОГО предупреждаю, что установленный мною план улова рыбы 50 тонн на ё942 год должен быть выполнен безусловно.
Учесть тов. ИВАНОВСКОМУ ошибки, допущенные им при невыполнении плана за май месяц.
План мероприятий, обеспечивающий безусловное выполнение улова рыбы 50 тонн, представить моему заместителю т. АНИСИМОВУ.
План сбора грибов, ягод и щавеля, представленный ОРСом, утвердить с моими изменениями и добавлениями.»
Тётя Тоня пишет: «Сегодняшним молодым это трудно представить, – когда я пошла в 1-й класс, у меня не было сумки для тетрадей и книг, я завязывала их в мамин поношенный платок и ходила в школу босиком, у меня не было своей детской обуви, я донашивала после кого-нибудь. Первые мне купленные хромовые ботинки я обула, когда училась в 7 классе, первый жакет на вате из остатка после пиджаков старшим братьям Васе и Мише мне сшили, когда я училась в пятом или в шестом. Первые пальто, зимнее и демисезонное, мне купили брат Миша и твой отец, Валера, когда они пришли из Армии, и в этих пальто я уехала учительствовать в 1937 году. Я была одета всегда хуже всех, потому что я крестьянская дочь, а подруги мои, скорей не подруги, а одноклассницы, дочь попадьи, дочь купца Плотникова, сбежавшего за границу, дочери заводских рабочих и служащих. У них мода платьев была другая. А я выпарывала из маминых юбок целые неизношенные полосы, красила их обычно в синий цвет и сама, начиная с 4 класса придумывала себе моду, и шила на швейной машине. Сама шила маме юбки, а твоему папе помню сшила матроску (мода тогда пошла) из нижней белой рубашки, а воротник синий с полосками, и манжеты он принёс, отдал утром и сказал: «К вечеру чтоб сшила». Я наверное в 5—6 классе училась, сроду не знала как этот проклятый воротник пришить так, чтоб не на бок. Потом догадалась и к вечеру было всё готово. Вот так, Валерочка, самой не верилось, что смогла. А он же шутник был, весельчак, засмеялся и говорит: «Если бы не успела, казнил бы!»
Возле дома висит на деревянном заборе зелёный почтовый ящик, приколоченный отцом.
Хотел написать «приколочен на заплоте», что было бы справедливо для сибирской этнографии, но пока ящик прибит по адресу: город Соликамск, улица Калийная, дом 184.
Для мало читающих оговариваюсь: это не электронный почтовый ящик, письма в нём лежат, заклеенные в конверты, они бумажные.
Оговорка могла бы звучать красивше, ну, типа как у Пушкина «неоконченный роман в письмах», здесь – роман в железном почтовом ящике, и начинаться мог словами профессора Чанышева из МГУ: «Помни, что ты небытие своего небытия! Если ты не гений, то неважно, кто ты. …Небытие окружает тебя со всех сторон.»
Гениальный Платонов как-то заметил: «По моему глубокому убеждению, достаточно собрать письма людей, слегка коснуться их разумной рукой и получится новая литература мирового значения.»
Что ж…
Я собрал письма людей… а до кучи (см. логический парадокс Евбулида «Куча») телеграммы, извещения, повестки, открытки… много открыток, можно писать «роман в открытках»…
С них и начнём, сохраняя правописание и стиль оригинала.
«Дорогая Надичка. Поздравляю тебя с праздником Октября и всех твоих детей. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, а у меня большое горе, похоронили Тиму, умер 2/X, а хоронили 4/X. Подробности письмом. Целую Клава.
Надя, 8/XI 40 дней и сразу уеду к Ниночке»
«Дорогие мои Галина Никитична и Надежда. Поздравляю Вас с праздником великой Октябрьской революции, от души желаю Вам отличного здоровья, долгих лет жизни, с праздничным приветом Клава сильно соболезную Вашему горю, знаю как это тяжело, крипис мая дорагая подружинька, судьба (нрзб. – В. Л.) так резко повернула Галина Ник жду к новому году Вас Клава (нрзб. – В. Л.) приедит.»
Возможно, скан удобней для читателя:
Как-то мы с отцом году в пятьдесят третьем заночевали в Боровой. Побыли у тёти Кати Негодяевой, пошли к тёте Тане… Перед Троицей. Я ещё в школу не ходил. Отец предпоследний в семье, после него только младшая Тоня идёт, тётя Тоня. Старшие сёстры по старой привычке посмеивались над братом. Пока сидели за столом, вспоминали как он в юности на балалайке играл, песни перед девушками распевал, частушки сочинял, хороший был паренёк, слушался старших…
На фронте отец научился водку пить, материться, получил звание лейтенанта, в сорок третьем году вступил в партию, был ранен, осколки под лопаткой носит (давал мне пощупать) немного посеръёзнел, а отношение сестёр к нему осталось прежним, будто и войны не было, и вообще ничего не происходило после детства.
С вечера договорились, что рано утром пойдут в Городище на службу. В Усть-Боровой церковь разломали, верующие ходили по праздникам за двенадцать километров в село Городище. Из Боровой через Боровск в город Соликамск, из Соликамска – в Городище.
Утром на свежую голову отец сообразил, что такое паломничество коммуниста не красит, тем более совершать его придётся с малолетним сыном, что, наверное, является отягчающим обстоятельством. Сообразил, поморщился, осколки, видно, пошевелились, но промолчал. Тётя Катя и тетя Таня, обе Негодяевы, за братьев Негодяевых замуж вышли, как только мы сошли с крыльца и вышли за ворота на зелёный конотоп, запели… Отец посмотрел по сторонам, взял меня за руку, напрягся.
Мы шли по улице Ульянова до пристани, где была автобусная остановка. Улица с деревянным тротуаром и со множеством проулков. Идти там минут десять. За эти десять минут сёстры, исполнив начатое у тётитаниного палисадника молитвенное песнопение, приступили к религиозной публицистике:
– Поза! – Вскрикнула тётя Катя.
Я вздрогнул.
– Поза-поза-вчера, в четверг, апостол Павел Христа отверг! – Громко, на всю улицу возгласила тётя Катя.
– Оюшки-оюшки! – Откликнулась тётя Таня, шлёпнув себя по щекам.
Я шёл уже спиной вперёд и от удивления открыл рот; тётя Таня, не меняя выражения лица, мне подмигнула.
– Пятница-распятица! – Опять в полный голос воскликнула тётя Катя.
– Ойё-ёшеньки, матушки-и-и!» – Запричитала тётя Таня, притопывая по деревянному тротуару.
Звякнуло кольцо калитки, к нашему шествию присоединились несколько бодрых старушек.
– Вчера была суббота, охранникам зевота, – на манер частушки пропела тётя Катя.
Тётя Таня мгновенно добавила в рифму:
– Прозевали ангелов, то-то!
– Воскресенье, проси прощенья! – в спину идущему впереди отцу крикнула тётя Катя.
– Прошу, сестрица, прошу… – Отозвалась, кивая головой, идущая следом за ней тётя Таня.
– Христос воскрес, народ из земли полез. – Закончила своё выступление тётя Катя.
Мы подошли к автобусной остановке.
– Воистину полез, – подытожила тётя Таня. – Никто в гробу не остался.
Мы с отцом остановились, стали дожидаться автобуса, старушки, не останавливаясь, потопали дальше.
Примерно через час подошёл автобус, мы сели, поехали, на подъезде к городу перед мостом через речку Усолку обогнали паломниц, обдав их едкой солёной дорожной пылью. За мостом автобус свернул направо, на соликамскую автостанцию. Тётя Катя и тётя Таня с сопутницами повернули налево, на Городище.
На фото мои родители.
На обороте надпись: «Фотографировались 20. 02. 49 г.»
Конец февраля. Это значит, я уже присутствую при фотографировании и через четыре месяца появлюсь на свет. То есть я уже всё слышу. Родители ещё не знают, кто у них появится: мальчик или девочка.
Я родился 25 июня, и эта дата постоянно попадается на глаза. Например: 25 июня 1673 года умер д’Артаньян, гасконский дворянин, сумевший при Людовике XIV сделать карьеру в роте королевских мушкетёров. Шарль Ожье де Бац де Кастельмор граф д’Артаньян.
Буквально через несколько дней после смерти прославленного мушкетёра случился невероятный пожар в наших северных палестинах, в славном городе Соликамске – сгорели все деревянные церкви. Все. Восьмого июля 1673 года, ни раньше, ни позже. Число соликамцы хорошо помнят, потому что 8 июля под Городищем, явилась икона Знамение Пресвятой Богородицы. Явилась самым банальным образом: молодому московскому мушкетёру-стрельцу из ночи в ночь стал сниться сон про дембель. Дембель, дескать, тебе подойдёт мгновенно, но только после того, как купишь на базаре икону Божией Матери.
Пошёл стрелец по базару, купил икону, получил дембель, поехал в своё Городище, там сенокос, то, сё, жатва, икону поставил в клеть и забыл. Вспомнил, а иконы уж нет. И соседи говорят, что мужик с Логов (село поблизости) лошадь искал и нашёл в лесу на старом пне икону Знаменье Пресвятой Богородицы. Такова присказка.
Суть в чем: в Соликамске не осталось деревянных церквей, начали строить каменные, в Городище поставили каменную Знаменскую, солепромышленник Михайло Ростовщиков денег дал.
При сатанистах, понятно дело, Знаменскую закрыли, но при Хрущёве опять открыли. Исторический постулат о хрущёвских гонениях на Церковь это не отменяет. Случается и у них проруха. Партийным руководителям срочно понадобилось закрыть действующую в центре города Соликамска Богоявленскую церковь, для подстраховки открыли сельскую Знаменскую в Городише.
Председателем городищенского сельсовета служил бывший церковный староста.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу