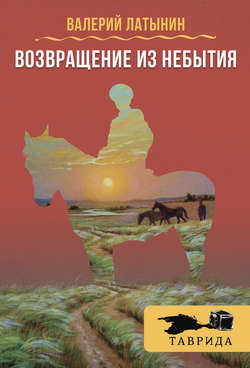Читать книгу Возвращение из небытия (сборник) - Валерий Латынин - Страница 5
Комкор Думенко
(К 95-летию со дня гибели)
2. Лавры и тернии
ОглавлениеОтмеченный за службу Отечеству двумя «Георгиями», прошедший полный курс окопных университетов, драгунский вахмистр Думенко ранней весной 1918 года возвратился домой в хутор Казачий Хомутец Сальского округа Области войска Донского. Мечтал получить землю от Советской власти, согласно ленинскому декрету, наконец-то зажить не униженным батраком, а хозяином-хлеборобом. Ой как наскучались по нему жена Марфа, дочка Муся (Маша), отец Мокей Анисимович, брат Ларион, сестра Пелагея. Новая справедливая жизнь грезилась им. Только работай, не ленись, и будет хлебушко, а с ним и достаток в хате. Вона подтелковцы тряхнули как Новочеркасск, Ростов, Миронов на Верхнем Дону и Медведице порядок наводит. Власть народная победно зашагала и по донским станицам и хуторам. Не всем она по сердцу. Зажиточные казаки пугают расказачиванием, принудительным трудом в коммунах, дележкой всего имущества и общим пользованием баб. Только народ этим вракам не верит, ему землю дай, справедливо – по числу едоков. Не надо у казаков отнимать, достаточно у кулаков излишки отрезать, угодья помещиков и конезаводчиков разделить. Земля, земля!.. Сколько же из-за владения тобой вспыхивало войн?! Сколько твоих пахарей и жней пролили кровь и сложили головы во имя единственного права – свободно работать в поле и пользоваться плодами своего труда!.. Не доведется и Борису Думенко вспахать свой надел, и брату его, и жене… Недолго продержится Советская власть на Дону. Малоопытные и малообразованные ее представители, особенно присланные из центра и других областей, расказачиванием, карательными мерами и иными притеснениями многовекового уклада местной жизни подорвут доверие к себе среди большинства населения, чем незамедлительно воспользуется зажиточное казачество, поднимая народ на борьбу за казачью автономию, добытую предками вместе с правом на землю в беспрерывных боях и походах. И закипит, заволнуется Область войска Донского от Хопра и Медведицы до Сала и Маныча. Начнут резко размежевываться силы.
Выбор Думенко – с кем быть – решился сразу и без колебаний. Поднял таких же обездоленных, как и сам, односельчан против войсковой атаманской верхушки, местных богатеев-конезаводчиков. У них и лошадей «позаимствовали». Оружие на первый случай добыли у споенных хуторянами белоказаков. Из казачинцев и соседей-веселовцев быстро набралась сотня. Командиром избрали Думенко. Действовать приходилось по-партизански – кругом в основном белогвардейские гарнизоны. Исключение составляли только те села, где в большинстве жили переселенцы из других областей. Переодевшись в офицерскую форму, Думенко в сопровождении небольшого отряда объезжал окрестные поселения, устанавливал контакты с подразделениями самообороны, договаривался о взаимопомощи, проводил разведку сил противника. Тогда-то и повстречался он впервые, при не совсем обычных обстоятельствах, с Семеном Буденным.
Конники из отряда Буденного искали лошадей в степной экономии помещика Пешванова. Около дома управляющего увидели вооруженных людей. Спросили – кто такие? Те ответили, что из Веселовского краснопартизанского отряда, а их командир Думенко в доме с хозяином разговаривает. Буденный зашел в дом и оторопел – за столом сидел казачий есаул. Семен выхватил наган: «Руки вверх!» А есаул в ответ: «Не валяй дурака, Думенко я – из Казачьего Хомутца».
…Белоказаки тем временем не дремали. В центре первого округа Области войска Донского станице Константиновской в марте восемнадцатого года Войсковой круг избрал новым атаманом генерала П. Н. Краснова. Начала спешно формироваться Донская армия. После неудачной экспедиции подтелковцев на верхний Дон и падения Советской власти в Ростове и Новочеркасске сальские и манычские партизанские отряды оставались небольшими островками в половодье красновских войск. Думенко первым в своем округе стал собирать разрозненные отряды партизан в единую силу, стягивать ее в кулак, способный оказать серьезное сопротивление противнику.
Из рассказа А. Ф. Терещенко: «Весной восемнадцатого я вернулся с германского фронта домой в хутор Золотаревский. Приехал ночью, на коне, при оружии. Жена несколько лет не видела, а встретив, не обрадовалась, запричитала: «Уходить тебе надоть. Атаман Кувиков лютуить в хуторе, мобилизуить всех фронтовиков в отряд, а кто отказывается, в холодную содют. Пастухов из Малой Орловки забил, скот забрал. Идтить надоть в «пешванову» экономию, там дед и отец с Борисом Думенкой стакнулись. Али в Большую Орловку – там Ковалев не пущаить кадетов в слободу». Той же ночью побег я верхи в «пешвану», что в верстах четырех от Малой Орловки. В хуторе Павлове чуть на юнкеров не наскочил, вовремя в балку съехал. Топали они по направлению к Большой Орловке, дюже злые, видать, кто-то им уже сыпанул перцу на хвост. От деда и отца узнал про Думенко, что это его отряд не дает покоя белякам в округе. Поехал я искать его в район станции Куберле. По дороге приманул тридцать хлопцев из Малой Орловки. Был среди них и Хохлунов, потом командиром эскадрона у нас стал. Не с пустыми руками к Борису Думенко пожаловали – при оружии, на конях. И служили под его рукой до передачи конной дивизии С. М. Буденному».
В начале июня в Куберле сальские и манычские партизанские отряды объединились в 3-й сводный крестьянский социалистический полк под командованием Григория Кирилловича Шевкоплясова. С этой поры все действия регулярной части Революционных войск Южной колонны Красной Армии будут отражены и запечатлены в боевых приказах и донесениях, в оперсводках, телеграммах и других документах, которые беспристрастно хранят сведения о Б. М. Думенко и его соратниках.
К вопросу о том, кто стоял у истоков формирования красной конницы на юге России. В приказе № 3 по 3-му сводному крестьянскому социалистическому полку говорится: «… командиру 2-го батальона тов. Думенко предписывается … формировать из кавалерии бывших отрядов Думенко, Шевкоплясова, Гашунского 1-й эскадрон и назначить кандидатов на необходимые по штату должности». Через месяц, когда полк Шевкоплясова развернулся в 1-ю Донскую советскую стрелковую дивизию, Думенко назначается командиром кавалерийского полка, его заместителем – Буденный.
В это время растет и крепнет слава краскома Думенко, катится по боевым порядкам, по колоннам беженцев, от заиленной степной речки Сал до красного Царицына и Москвы.
Из рассказа А. Ф. Терещенко: «Борис Думенко нравился бойцам своей сообразительностью и лихостью. Небольшой, но крепкий и жилистый, он с земли запрыгивал в седло. Рубил правой и левой рукой. Говорил мало, но живо, смачно и всегда прямо – будь то рядовой конник или командарм. Решения принимал быстро. Боем руководил не со стороны. Укажет, кому куда бить, куда выходить, и в самое пекло кидается. Под Чунусовской его в руку рубанули. Не вышел из боя, пока кадетов не отогнали. С рукой на перевязи повел полк на выручку Мартыно-Орловского отряда, когда к концу июля белоказаки кольцо вокруг партизан стянули.
После этого боя между Борисом Думенко и Семеном Буденным первая черная кошка пробежала. Нужно было вывозить раненых, а подвод не хватало. У Семена в обозе жена ехала вместе со скарбом на нескольких подводах. Думенко распорядился барахло скинуть и погрузить раненых. Стычка была скандальная, на виду у конников и беженцев».
Победа под Большой Мартыновской радостно всколыхнула части Красной Армии, оборонявшие подступы к Царицыну. Это была первая заметная победа красноармейцев над превосходившими силами противника на южном направлении. Командующий Южной группой войск К. Е. Ворошилов поблагодарил личный состав кавалерийского полка за успешную операцию и поставил полк в пример всем частям и соединениям.
В информационном бюллетене ВЦИК за август 1918 года сообщалось: «…особенной храбростью отличается полк под командой Думенко. С 1000 всадников он держит 80-верстный фронт».
После рейда по освобождению земляков-партизан кавалерийский полк был награжден Красным Знаменем и приказом Военного совета Северо-Кавказского военного округа переформирован в 1-ю Донскую советскую кавалерийскую бригаду. Командир и его помощник остались прежними.
В сентябре 18-го В. И. Ленин телеграфировал Реввоенсовету Царицынского фронта: «Передайте наш братский привет геройской команде и всем революционным войскам Царицынского фронта, самоотверженно борющимся за утверждение власти рабочих и крестьян. Передайте им, что Советская Россия с восхищением отмечает геройские подвиги революционных и коммунистических полков Худякова, Харченко и Колпакова, кавалерии Думенко и Булаткина, броневых поездов Алябьева, Военно-Волжской флотилии Золотарева. Держите красные знамена высоко, несите их вперед бесстрашно, искореняйте помещичье-генеральскую и кулацкую контрреволюцию беспощадно, покажите всему миру, что Социалистическая Россия непобедима».
Бригада Думенко почти не знала передышки. Как мобильному роду войск, коннице постоянно приходилось «затыкать бреши» в местах прорыва обороны стрелковых частей. К тому же вместе с донскими революционными полками к Царицыну тянулся восьмидесятитысячный отряд беженцев. Они тоже несколько раз подвергались нападению белоказаков, попадали в окружение, и конникам приходилось отбивать свои семьи у неприятеля. Семья Думенко осталась в родном хуторе. Комбриг долгое время не знал, каково пришлось жене, дочери и отцу.
Из рассказа П. А. Дербенева: «Своими лихими налетами Думенко дюже насолил красновцам. За его голову сулили большие деньги. Да руки были коротки, чтобы достать казачинского конника. Зато на родных его всю злобу выместили. Мне дочь Думенко, Мария Борисовна, рассказывала, как глумились над ее матерью и дедом. Мокея Анисимовича связанного водили по хутору, избивали, плевали в лицо, потом в тюрьму бросили. А Марфе и того хуже пришлось. Беременной она была, на последних месяцах уже. Только это не остановило красновскую контрразведку. Пытали ее, истязали, будто могла она сказать им что-то важное про мужа, секрет его непобедимости выдать. Так и загинула вместе с нерожденным дитем».
Первые симптомы будущей трагедии Бориса Думенко, как ни странно, наметились в момент расцвета его славы в боях за Царицын, под Абганерово и Гнилоаксайской. Там кавалерийская бригада под командованием бывшего вахмистра разобьет части генералов Попова, Виноградова, Голубинцева. Там Думенко получит из рук Ворошилова именное оружие – шашку с надписью: «Храброму командиру Думенко – за Гнилоаксайскую», будет вместе с Буденным представлен для награждения орденом Красного Знамени. Но в это же время схлестнется с Ворошиловым и Троцким. Ворошилову без обиняков скажет, что, прежде чем требовать наступления любой ценой, необходимо рассчитывать силы, обеспечить людей достаточным количеством оружия и боеприпасов, а то ведь можно войти в прорыв и не вернуться. На что командарм-10 резко напомнит, что пока он командует армией, а не Думенко.
Председателю РВС Республики комбриг вообще бросит в лицо такое, что все ахнут: дескать, Троцкий – дилетант в военных вопросах, неумный в суждениях о ведении боя, любой исход которого непременно окрашивается в красные тона, покрывается человеческими жизнями, и об этом необходимо всегда помнить.
Тогда судьба революции была в великой опасности, ее из последних сил спасали такие бескомпромиссные борцы, как Думенко, и его дерзость стерпелась, зато не забылась, припомнилась ближе к концу войны, когда уже многие подумывали о победных лаврах. За слабое руководство войсками царицынского направления Троцкий в конце 1918 года отстранил Ворошилова от командования армией, по той же причине была расформирована Стальная дивизия Д. П. Жлобы, ее кавалерия передана Думенко для сформирования сводной кавалерийской дивизии. Так под непосредственным руководством Б. М. Думенко родилась стратегическая конница Красной Армии.
В марте 19-го года в Царицын вновь прибыл Троцкий. В ряду других краскомов Думенко получил из его рук орден Красного Знамени № 33.
Вскоре Думенко назначают помощником начальника штаба 10-й армии по кавалерии. С этого момента он передал командование дивизией своему бывшему помощнику С. М. Буденному.
Во время весеннего наступления командарм А. И. Егоров поручает Думенко командование левой группой армии, куда входили две кавдивизии и три стрелковых соединения с войсковой конницей. Стремительный бросок красных полков практически деморализовал казачью армию Краснова, опрокинул конную группу генерала Мамонтова, погнал противника за Сал и Маныч, в солончаковые степи и калмыцкие пески.
О вкладе Думенко в успех общего наступления говорит телеграмма В. И. Ленина: «Передайте мой привет герою 10-й армии товарищу Думенко и его отважной кавалерии, покрывшей себя славой при освобождении Великокняжеской от цепей контрреволюции. Уверен, что подавление красновских и деникинских банд будет доведено до конца».
Однако отступавших красновцев мощно поддержали Добровольческая и Кавказская армии Деникина, почти в три раза численно превосходившие части 10-й армии. На их вооружении – аэропланы, бронепоезда, бронеавтомобили, большое количество артиллерии. Самый удобный и короткий путь к Царицыну – железнодорожная ветка, ведущая из кубанской станицы Тихорецкая. Ее-то и поручили оборонять группе войск во главе с Думенко. В этой трагической ситуации у народного полководца был единственный резерв – личное мужество. И Думенко без устали бросается в самые горячие места боя. Рассредоточивает на опасных участках артиллерию и пулеметные тачанки (кстати, впервые они были применены в его кавалерийской бригаде), подбадривает красноармейцев словом и меткой стрельбой, отчаянно скрещивает шашку с врангелевскими рубаками. Как степной орел летал он на своем скакуне по полю боя, пока вражеская пуля не сшибла его с коня. В этом же бою был серьезно ранен и командарм Егоров. Его и Думенко увезли в госпитальную хирургическую клинику Саратова, где профессор С. Спасокукоцкий едва ли не чудом выходил красных командиров.
У Думенко запало простреленное легкое, плетью висела правая рука. Можно было сказать с чистым сердцем: «Хватит, отвоевался!». Нашлась бы и в тыловых ведомствах подходящая служба. Кто-то другой, наверное, так бы и сделал и жил бы спокойно при славе и авторитете. Но только не Думенко. Не мыслил он себя без конницы, особенно в столь горький для Республики момент: сдан Царицын, белые на подступах к Саратову, Воронежу, Курску, Орлу… У Деникина рвутся на Москву конные корпуса Шкуро, Мамонтова, Улагая, Коновалова, Покровского, Топоркова… А что им противопоставить? Единственный корпус Буденного?.. Формировался еще один в Саранске Ф. К. Мироновым. Да недоразумение с ним вышло. Слишком медленно поступало пополнение, вооружение, боеприпасы, снаряжение. К тому же РВС Южного фронта направил туда группу политработников, которые в свое время участвовали в расказачивании на Дону. Казаки, призванные в корпус, не доверяли этим политкомам, те, в свою очередь, косились на комкора и его штаб. Чувствуя недоверие членов РВС корпуса и фронта, Миронов обратился за помощью в Казачий отдел ВЦИК. Не дождавшись ответа на свое письмо, он решил выступить на фронт самостоятельно, телеграфировав в штаб 9-й армии: «Прошу передать Южному фронту, что я, видя гибель революции и открытый саботаж с формированием корпуса, не могу больше находиться в бездействии, зная из писем, что он меня ждет, выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией».
РВС Южного фронта обвинил комкора в мятеже. Части Миронова были окружены конницей Буденного и разоружены. Миронов и десять его ближайших соратников были приговорены судом военного трибунала к расстрелу, но Президиум ВЦИК помиловал их. Таким образом, Миронову и многим другим командирам из народа был дан довольно прозрачный намек – не зарывайтесь, помните, в чьих руках ваша жизнь и судьба.
Мог ли думать Борис Мокеевич Думенко, вернувшись в начале сентября в 10-ю армию и формируя по приказу командарма Леонида Лавровича Клюева новый конный корпус, что и его в скором времени постигнет горькая участь Миронова?
Наверняка думал. Ведь за полтора года изнуряющей страну Гражданской войны, в которой он потерял семью, многих друзей и соратников, здоровье, мечта бедняков о реальном народовластии и справедливом переустройстве России не стала явью. Наоборот, породила множество сомнений в возможности своего воплощения. Только слепые не замечали, что на смену царскому самодержавию и помещичье-буржуазному произволу все более явно выдвигалась диктатура партийной олигархии – клана космополитических властолюбцев и их угодников. Надежд на возможность строительства обещанного марксистами земного рая для трудового люда оставалось все меньше. И все же хотелось верить в лучшее будущее.
Приказом № 1102 по войскам 10-й армии в новый кавалерийский корпус предписывалось свести кавбригады 37-й и 38-й стрелковых дивизий (командиры Текучев и Лысенко), а также кавбригаду Жлобы… Второй раз перекрещивались пути-дороги Дмитрия Жлобы с Борисом Думенко, и оба раза бывший организатор и начальник Стальной дивизии как бы ущемлялся высшим командованием. К тому же перед самым возвращением Думенко в строй Дмитрий Петрович получил весьма обнадеживающую телеграмму от комкора С. М. Буденного: «Комбригу Жлобе. х. Черемской. 1 сентября 1919 г. Для пользы общего дела войди в тесную связь с корпусом для совместных действий… При непосредственной близости смогу оказать поддержку в организации другого корпуса под твоей командой». Такие посулы из ничего не рождаются и быстро не забываются. И хотя Думенко и не был лично замешан в служебных неприятностях Жлобы, червячок обиды – чем я хуже? – все же подтачивал сознание комбрига, настраивая против нового командира корпуса.
Среди недоброжелателей Думенко оказался и комиссар 2-й Горской бригады Пескарев. Прибывший к месту формирования корпуса Думенко застал его на станции Качалино за совместным с бойцами разграблением спирта из железнодорожных цистерн. Обругал крепко, грозил в другой раз под суд отдать. Позже к разряду обиженных примкнут начальник политотдела Ананьин – Думенко не дал согласия на его назначение комиссаром корпуса; начальник особого отдела Карташов – комкор сдерживал его неистовое рвение в выискивании «врагов» в соединении, ведь пополнять части личным составом становилось все труднее, приходилось привлекать и пленных, и заключенных из тюрем.
Сначала Пескарев пустил наверх «утку», что Думенко как-то в приступе ярости сорвал с гимнастерки орден Красного Знамени и швырнул его в угол со словами: «Не надо мне его от жида Троцкого, с которым придется еще воевать», потом и другие обиженные стали «докладывать». И пошла двойная информация о делах корпуса: с одной стороны – боевые донесения и иные служебные документы, с другой – околоштабная нудистика – не так сказал, не того наградил, выдвинул недостойных, не принял строгих карательных мер, пособничает…
Думенко мало заботили подобные интриги. Он был создан для боя и мерой боя воздавал каждому своему бойцу и командиру. Поэтому храбрецы любили его, разносили из уст в уста легенды о боевом комкоре, а трусы и завистники боялись и ненавидели. Были таковые не только возле Думенко. В каждой части, соединении и объединении мерзавцев хватало. Кстати, доносили и «о полном разложении у Буденного». Только одни командиры имели иммунитет против оговорщиков и неистовых ревнителей, своевременно принимали контрмеры против них, а другие не придавали серьезного значения подобному злословию, предпочитали открытый бой с врагами, а не закулисную междоусобную возню. Командир корпуса Думенко принадлежал к последним. В архивах нет документов, где бы он жаловался на своих недоброжелателей, требовал суда над ними. Есть свидетельства горячности Бориса Мокеевича – он мог обругать, наказать за нерадивость, за пассивное ведение боя, нарушение законности и дисциплины, но фискальство, очернительство – не по нему. Он весь остаток своих сил и здоровья отдавал приближению победного конца войны.
В приказе № 174 войскам 10-й армии Юго-Восточного фронта отмечается: «…в бою у станицы Алексеевская 2 ноября 1919 г. доблестными частями кавкорпуса Думенко одержана блестящая победа, взяты богатые трофеи: 1000 пленных, 50 пулеметов, 2 орудия, 500 подвод разного груза. От лица армии поздравляю молодой корпус с блестящей победой и приношу глубокую благодарность командиру корпуса тов. Думенко, всему комсоставу, политкомам и героям бойцам. Командира 3-й бригады тов. Лысенко, врид. командира тов. Трехсвоякова представляю к награждению орденом Красного Знамени, а полки 3-й бригады – к почетным знаменам. Уверен, что доблестный корпус своими действиями разобьет наголову белых бандитов и принесет не одну победу Советской Республике. Ура красным героям!»
В бою в районе станицы Усть-Медведицкой конники Думенко схлестнулись с кавалерией генерала Голубинцева, опрокинули ее. Сам Голубинцев был тяжело ранен. Затем думенковцы разбили под Урюпинской конные части и пехоту генерала Коновалова. Через семь дней пал город Калач-Воронежский. Первыми в него ворвались всадники Думенко. Они торопились на юг России, к Дону, Салу, Манычу… Домой, к родным очагам и нивам.
Перешедший в оперативное подчинение 9-й армии корпус Думенко продолжал наращивать успехи. Каждый бой приближал его к столице Дона – Новочеркасску.
Третьего января 1920 г. член Реввоенсовета 9-й армии А. Г. Белобородов направил телеграмму Ленину: «Вне всякой очереди. Предсовнаркома Ленину. Москва. Калач. 3 января 1920 г. 14 час. Противник, с целью воспрепятствовать нашему наступлению, бросил против нас свою конницу в районе ст. Миллерово. Конницей Думенко противник разбит наголову, взято 4500 пленных и изрублен штаб 5-й дивизии противника».
К вечеру 7 января думенковцы совместно с другими войсками 9-й армии овладели Новочеркасском. Донская армия генерала Сидорина уничтожена. Пленено более 12 тысяч солдат и офицеров противника. Красноармейцы ликуют. Командарм-9 Степин поздравляет Думенко, других командиров и бойцов с блестящей победой. А комбриг Жлоба «по секрету» информирует прибывшего в конно-сводный корпус члена РВС 9-й армии Анисимова о готовности Думенко и его штаба… перейти на сторону белых. В реввоенсовет армии Белобородову, четыре дня назад сообщавшему Ленину о героических победах корпуса, летит телеграмма: «Думенко – определенный Махно, не сегодня, так завтра он постарается повернуть штыки… Подтверждают Жлоба и другие… Считаю необходимым немедленно арестовать его при помощи Жлобы… Через некоторое время будет поздно, он наверняка выступит. Поговаривают о соединении с Буденным…»
Черные тучи сгустились над головой комкора и его ближайших сподвижников. Информация дошла до председателя РВСР. Печальная развязка могла наступить со дня на день.
В это время, как громоотвод, появился в корпусе новый военком Микеладзе. Он не пошел на поводу у недоброжелателей. Предпочел сам вникнуть в суть проблемы. И разобрался в истинных причинах конфронтации, предложив Белобородову убрать из корпуса некоторых непригодных политработников, заменить особый отдел, а также удалить кое-кого из штаба. Микеладзе понял «колючего», но справедливого Думенко, установил с ним отношения, способствовавшие успешной совместной работе.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу