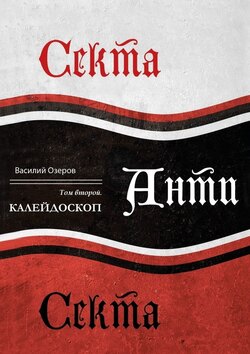Читать книгу Секта Анти Секта. Том 2. Калейдоскоп - Валерий Озеров - Страница 4
часть IV
ОглавлениеВселенная всегда играет честно: если мы должны, то сможем.
Джед Маккена
Не помню, кто сказал такую фразу: «Женщина соблазняет, не будь, дураком», возможно, кто-то из мудрых мира сего: этим самым дураком мне приходилось уже много раз бывать. А я-то по наивности своей первой молодости тогда думал, что действую исключительно по собственной воле.
Не успев ещё, как следует начать учиться, а тем более, работать в университете под мудрейшим руководством моего обожаемого учителя – профессора Первацельса, как я пал жертвой этого самого соблазнения его миловидной секретарши, и к тому же, лаборантки; а как я узнал позже, и страстной любовницы моего дорогого мэтра.
Об этом Катарина рассказала мне, уже, когда я наслаждался её, право слово, чудесными и даже в чём-то необычными, для меня, в то время, прелестями. Кажется, она была еврейкой, но может, это просто слухи завистниц по альма-матер: внешне она была более похожа на бурлящую и будящую кровь, горячую испанку, хотя и родилась на юго-востоке Франции. Кстати, о таком предмете, как человеческие носы: её нос был с внушительной горбинкой, что, впрочем, мне ни о чём пока не говорило. Специалистом по носам и доказавшим зависимость женской сексуальности от внешнего вида, стал в будущем, как известно, русский писатель Николай Гоголь, посвятивший данной теме целую повесть. Это, так, к слову пришлось, если что.
Точно не знаю, только негласная меж народная мужская молва гласит о том, что еврейские женщины, но и то лишь в ранней своей молодости (мы все стареем, увы!), бывают чрезвычайно сексуально привлекательными и обладают магической властью над мужчинами, особенно над бедными впечатлительными французами. К тому же они те ещё красотки на предмет внешнего вида. Может быть, может быть…. Возможно, что это всего лишь просто их самопиар, поддерживаемый всякими сомнительными Суламифями?! Впрочим, отдадим сей вопрос на откуп историкам…. Которые, впрочем, почти никогда не говорят правды.
Но я-то знаю одно, что меня тогда погубил необычайный магнетизм этой девушки вкупе с помрачительно чёрными волосами, распространяющими этот магнетизм во все стороны. Магнетизм Марии был другой, светлый что-ли, и не навязывал её мне.
С Катариной же было иначе. Эти смоляные иссини чёрные волосы, она распустила передо мной, и сами волосы этот самый магнетизм с дьявольской силой излучали в пространство, которое окутывало меня, словно паутина муху, приготовленную всего лишь к вечерней трапезе паука.
Он, этот самый магнетизм по-еврейски (жена еврейка – жизнь твоя как канарейка… в клетке) и заставил меня в тот момент забыть всё на свете, включая и мечту мою Марию. Да, да и саму прекрасную Марию, которую я любил до сих пор всего лишь на расстоянии, но к которой пока не испытывал никакой подобной страсти. Мария для меня была тогда иконой, идеалом: таковой ей суждено было и остаться, о чём я всегда смутно подозревал, ныряя иногда в осколки собственного рассудка. Мои мысли в то время бегали туда сюда, как сумасшедшие. А что касается Катарины, то это была страсть, страсть более дикая, чем та, что я получал совсем недавно в буквальном смысле мимоходом к своей лачуге: от пышногрудой булочницы Марты.
Словами её, на письме, на любом языке, тем более в романе, даже в этом странном, даже на могучем русском языке, никакими не выразить, даже человеку, испытавшего, тем или иным образом, оную любовь. Почему?! Страсть надо ощутить, а что касается самой любви, то само слово затёрто и понимается так, как кому угодно, а чувство страсти и чувство любви, как я недавно стал понимать, разные вещи, не понятые никем. Кроме меня! Да уж, где самодовольство, там и самообман: сию аксиому я понял позже…
Эта страсть подобна дикому мельканию сабли в каком-нибудь бою, где опытный фехтовальщик, вроде моего папаши, размахивая своим острым палашом, запросто укладывает на зелёную травку своих соперников, заставляя вмиг её покраснеть бурыми пятнами, делая тем самым им только мнимое алхимическое перерождение, якобы освобождая сии телеса от земной кармы. Ну что ещё сказать: воин меня поймёт… И вот почему!
Я ведь тогда действовал единственно возможным для меня клинком, – своим молодым упругим фаллосом, то есть естественным орудием здорового парня. И вот что происходило со мной на протяжении нескольких месяцев: днём я слушал наставления старого доброго Первацельса, занимался вместе с ним и помогавшей нам Катариной лечением приходивших к нему на приём страждущих болеющих горожан нашего славного города, а вечером…
Почти каждым вечером мы с Катариной предавались бурной и продолжительной страсти, стараясь, однако, сохранять втайне от посторонних, в особенности от самого профессора, эти наши, более чем близкие, отношения. Я сказал, «почти каждым вечером», имея в виду то, что в другие вечера Катарина отдавалась самому мэтру, тем самым значительно то ли подбадривая, то ли забирая, его жизненные силы, в чём я тогда не находил ничего зазорного, но только лишь добавляло в моих глазах всё большую толику уважения к уже стареющему профессору.
Как выразилась как то сама Катарина, её отношения со мной вполне компенсировали ей вялотекущие услады доктора, пусть даже и медицины, но пока ещё, судя по всему, не открывшего истинный нектар вечной молодости и здоровья, чтобы пить амриту жизни из полной чаши земного бытия.
«Головой профессор, умён и остр, как никогда, а вот тело начало уже сдавать», – сказала мне Катарина. Я же был молод, крепок и здоров и, как все самодовольные желторотые юнцы, резок в суждениях, и потому часто несправедлив к окружающим меня людям. Такой же противный был характер и у моей теперешней возлюбленной, в чём мне вскоре пришлось убедиться.
Она была та ещё язва, хотя всем своим видом, особенно на службе у Первацельса, корчила из себя добродетельную матрону. Однако сами её мысли, точно змеи медузы Горгоны, были совсем противоположного содержания, впрочем, как и у большинства представительниц прекрасного пола, особенно в наше «добродетельное» время.
«Вся сила у доктора осталась в голове, между ног её почти нет, несмотря на всё его увлечение алхимией», – как то обмолвилась мне Катарина… Мне было неприятно это слушать, и я вежливо попросил её заткнуть свой бархатистый ротик и более не поднимать передо мной сию тему.
В это самое время я почти не бывал у Ариасов, лишь изредка забегая в лабораторию Пьера и делясь с ним теми новостями, а иногда и секретами, которые познавал у своего знаменитого мэтра, но в основном они касались медицины в новейшем экстравагантном изложении доктора.
А новости последние были просто замечательными. Пожалуй, то был самый счастливый период моей жизни: по крайней мере, так тогда мне казалось. Днём я занимался любимым делом, а вечера и ночи проводил с любимой девушкой, бывшей, несмотря на относительую молодость, весьма искусной в постельных баталиях и доставляющей самое сладкое земное удовольствие, какое только возможно было тогда получать такому юнцу, как я.
Я в то время был очень доволен собой, доволен своей жизнью, и думал, что достигну всего, что только пожелаю. Да, я честно признаюсь вам, что спеси самовлюблённости у меня было тогда предостаточно. Забегая вперёд, могу всё же сказать, что будущие события выбили её из меня напрочь, чему я никак не мог противиться, даже если бы и желал оного.
…Нет, нет, я не забыл совсем Марию, но мои отношения к ней были, как бы это сказать, слишком платоническими, какими-то воздушными, даже божественными, что ли, не побоюсь этого слова. С чем бы их сравнить?!
А вот… Знаете, чувства человека, на мой взгляд, более выражает музыка, нежели печатное слово, каким бы искусным, талантливым и лакированным оно не было…. Потому что истинная музыка идёт напрямую от Бога, тогда как у слов весьма извилистая дорога к сердцу читателя. К тому же проза, особенно современная, всего лишь работа рассудка, а в работе рассудка мало божественного, но зато много страсти пробуждается при его просыпании или …смерти. А музыка сразу схватывает в плен ваше сердце. Или не схватывает. Что ж, тогда это не ваша музыка, дорогие мои. Ищите свою! Моя любовь тогда напоминала музыку спокойного позднего Вивальди, которая ходила вокруг да около, но огня страсти не давала….
Поэтому и эта странная, но всё же юношеская любовь не горела, но медленно и томно тлела, подобно угольям, в моём сердце, чтобы когда-нибудь вырваться наружу подобно вулканическому взрыву…. А пока это было то, что иногда некоторые искатели возвышенного или божественного понимают под идеальной платонической любовью самого Петрарки? Не знаю, просто чуть позже я прочитал в его автобиографии про подобную любовь, но плохо её понял. Я имею в виду, что плохо понял ту любовь, которой так восхищался Петрарка.
Или же, к примеру, русский философ будущего века Владимир Соловьёв, проживавший много позже нашего времени. Он так всю жизнь любил и перелюбил одну, только ему самому ведомому, Прекрасную Даму. Кто она такая, до сих пор никому не известно.
Так что подобная любовь была мне совершенно незнакома, она приходила лишь с Марией, как дуновение ветра… и куда-то убегала прочь, когда я забывал про Марию среди бытовой суеты или участия в опытах Первацельса, а тем более в постели с Катариной.
Право слово, возможно я ещё плохо знаю, что такое настоящая любовь, хотя и стремился к ней с самой моей юности. Ну не та же, про которую в веке двадцатом, а тем более в двадцать первом будут петь по искусственному ящику, называемому телевизором. Слава Богу, у нас, у алхимиков, есть другие задачи…. Мы не любим враждовать и воевать, как я уже отмечал раньше, мы с отвращением относимся к политике любого рода….
Такие мысли иногда приходили мне в голову просто ниоткуда, и я даже не знаю почему. Лежу я себе спокойно на койке в своей комнате, а эти мысли возьми, да и появись в моей голове. А иногда мне приходили зримые картины будущего, которые мелькали в моём разуме, будто причудливый калейдоскоп, в котором эти картины то застывали, то резко изменялись, чтобы предстать передо мной в ином обличье и форме. Прошлое меня волновало тогда совсем мало, будущее тоже, я был счастлив своим теперешним настоящим, и особенно не обращал на эти калейдоскопические картины своего сознательного внимания.
Ну, это так, лирика, люблю иногда поговорить о себе. А кто не любит этого? Ладно, хватит обо мне, ведь я ещё только учусь! Учусь любви, жизни и алхимии. А пока же будет лучше, что я здесь, читатели, расскажу вам о своём замечательном Учителе – докторе Первацельсе.
Любви может быть сколько угодно, а Первацельс один, на то он и ПЕРВА-Цельс. Это поистине живая легендарная личность, даже для такого просвещённого и бурного времени, как наше. Впрочем, разве время бывает непросвещённым? Как сказал классик, «На всякого мудреца довольно простоты»; а каждому времени довольно своей учёности, добавил бы я. Ну, это я так, к слову, люблю иногда поболтать, знаете ли, почти, как женщина или философ. Вы это уже поняли, надеюсь!
Сейчас наш мэтр уже довольно стар, по крайней мере, в глазах его молодых аспирантов и студентов, к примеру, таких как я, или моих друзей бакалавров. Мне представлялось, что ему более пятидесяти лет, но может и меньше. Всё это наверно потому, что в моём теперешнем возрасте, все, кому больше тридцати, представляются чрезвычайно старыми людьми, типа моего папаши.
Рассказывают о Первацельсе всякое, как и о прочем, любом, хоть чем-то от обычной толпы отличающемся человеке, уверен, что более половины россказней выдуманы его завистниками и недоброжелателями, поэтому я не буду их здесь описывать вообще, если только они не относятся к теме моего рассказа. Вы можете найти их в записях его «учёных» оппонентов, коих разбросано в сети интернет более чем предостаточно. Всё есть в будущей сетИ, на то они и сЕти… Добрых слов хватает, но и пасквилей тоже: увы, последних гораздо больше.
Каждая кукушка всегда найдёт для своих личных яиц подходящее гнездо, чтобы навек от них избавиться. Кукушки любят отдавать своё; представляющееся им лишним в своей жизни. Ну, или своего петуха… надеюсь, вы понимаете, о чём это я??? А вот то, что лично мне представляется правдой, чему я сам склонен поверить, без всякого сомнения, и предубеждения, то я и поведаю без прикрас и выдумки. Ведь я же СЕБЯ знаю! Итак, послушайте!
По его собственному утверждению, родился Первацельс в Италии, на северо-востоке сей темпераментабельной страны. В свои молодые годы, перебрался в Швейцарию, где окончил университет в славном городишке Базеле, теперь известном всему миру. После чего он предпринял ряд путешествий по странам Европы, включая Францию, Голландию и Испанию.
Врачевание и медицина были всегда его любимыми занятиями, в коих он оставил позади, особенно во вновь нарождающейся медицине, всех своих завистливых и алчных коллег по этому цеху. Обладая чрезвычайно острым языком, он не давал им спуску даже в своих собственноручно написанных трактатах, посвящённым разным наукам, чем лишь увеличил число своих недругов. Он был крупным специалистом по наживанию себе врагов, причём сие происходило спонтанно, в силу бурного характера моего неутомимого мэтра. Есть такие выдающиеся натуры, знаете ли, их ещё правдорубами зовут. Тяжко им жить на этом свете, однако.
Кроме врачевания, на кафедре ходят слухи, что наш гений также занимался и многочисленными алхимическими опытами. Некоторые завистливые суфлёры приписывали ему даже получение философского камня, о сути которого никто из нас тогда не имел никакого понятия.
Однако сам мэтр никогда не распространялся на этот счёт, так как, несмотря на свой острый язык, был тёртым калачом в этой, и не хотел привлекать к себе внимание милых пастырей добрейшей римской католической церкви с её справедливейшей в мире инквизицией, занимаясь, последнее время исключительно наукой, не забывая и практику непосредственного исцеления страждущих.
Он постоянно изобретал всё новые снадобья на основе лекарственных трав, минералов, а также применяя свои алхимические знания, получал их и из твёрдых и полужидких металлов, включая золото, сурьму и ртуть. Говорят, что в Европе в наше время ему нет равных в области излечения недугов постоянно страдающего и болеющего человечества…
Мой любимый профессор не бедствовал, но и не жил на широкую ногу, подобно какому-нибудь герцогу, либо барону. Все свои свободные средства он вкладывал во вновь создаваемую им самим науку медицину, изобретая и испытывая всё новые рецепты различных лекарств. Его считают основателем той медицины будущего, которая составится к двадцать первому веку. Однако это совсем не так, наш профессор не нуждается в лаврах, приписываемых ему будущими медицинскими историками. Мервацельс был в первую очередь алхимиком, алхимиком души и тела. Читатель вскоре убедится в этом.
Катарина рассказывала мне, что профессор в годы своей далёкой молодости, много путешествовал по Ближнему Востоку и даже сказочной и недоступной для простых смертных Индии, насыщая свою и без того талантливую голову всеми тайнами восточной премудрости. Однажды на востоке он умудрился попасть в плен то ли к туркам, то ли к маврам, вылечил одного из них, уже готового отправиться в рай к своему любимому Аллаху, и тем самым заслужил его благосклонность и уважение.
И тогда при расставании с Первацельсом этот мавр поделился с ним многими секретами, в том числе даже рецептом получения загадочного философского камня. Так об этом мне рассказывала Катарина, сообщив, что она делала несколько попыток узнать подробнее об этом загадочном камне, дарующем вечную молодость и здоровье, но всё время натыкалась на глухую стену: Первацельс имел качество уходить от прямых ответов, искусно вуалируя их.
…Мне было бы тоже интересно узнать об этом таинственном камне от самого Первацельса, и я только и делал, чтобы найти подходящий момент и спросить его об этом. Пока ещё такие туманные для меня объяснения Пьера, лишь только отчасти сделали прояснение в моей голове, занятой в то время, в основном, лишь сравнением тайных прелестей своих новых подружек. То, что я уяснил для себя сейчас, пока заключалось в том, что без этого мудрёного камешка невозможно получить ни золота, ни, тем более, здоровья, не говоря уже о действительном безсмертии, к которому всегда стремится истинный алхимик, поставив его своей конечной целью.
Но лично я пока так далёк от этой их запредельной идеи! Мир так примитивен и жесток, бывает порой, и полностью непредсказуем, в чём мне самому вскоре придётся убедиться. А, странноватые эти чудаки алхимики собираются жить вечно! Не понимаю я их, никак не понимаю, может быть, я ещё слишком молод? Может меня пока привлекает больше просто земная любовь, чем длительное существование ради неизвестной мне цели? Да, главное, это цель, а для меня же эта цель сейчас, – лишь любовь.
Вот земное золото, – это совсем другое дело, оно одно правит нашим бренным миром в его извечном стремлении всё к большему и большему, лучшему и красивому. Я как то понял, что наш мир весьма жаден. Жаден сей мирок не только до золота, но и до самой жизни, которая в его глазах равна вечности. Иначе, зачем всё это?! Бренное и разрушаемое тело часто рядится в вечные одежды, но увы, таковым не является. Ведь мы все умрём, одни раньше, а другие позже…. Ну вот, опять я заболтался!
Посему вернёмся к моему достопочтенному и уважаемому профессору…. Вы узнаете о нём, так сказать, из первых рук и из первых уст его любимого ученика, коим я, Виктор де Лагранж и являюсь.
Он был в наше время воистину гений врачевания и ведовства, и ни один страждущий не ушёл от него неудовлетворённым или обиженным, а о самом удивительном случае, которому я сам был свидетелем, расскажу чуть позже.
Итак, продолжу. Первацельс был воистину противоречивым человеком, но, как я уже говорил, честным в суждениях и прямой в высказывании своего мнения, за что, в конце концов, и поплатился позже своим местом в этой нашей альма-матер.
Само его имя расшифровывалось как Первый, Первоблагородный. Первый в науках и благородный в действиях, в то время он был для меня примером и идеалом во всём. К тому же он в совершенстве знал ачтрологию, без которой, как всем известно, излечение больных почти невозможно, если не применять и алхимии. Я, думаю, вы поняли, мои читатели, что он был настоящим гением века сего.
Таким Первацельс был для меня, моих друзей студентов и многих исцелённых им бедных и больных людей. Но далеко не для всех (теперь о дёгте, как обычно), поскольку есть ещё и неблагодарные людишки, которые на сделанное им добро отвечают злом и коварством, и среди них, как я уже заметил, большинство составляют властные и знатные кичливые особи, мнящие себя элитой этого подпорченного ложью гнилого мира. Что ж, в чём то они правы, элита есть и у лжи и у гнили, нет её лишь у правды, но последняя редко выставляет себя напоказ. Правда не бывает элитарной: она гола и неприкрыта, а порой ужасна, безжалостна и свирепа. К сожалению, Первацельс действовал прямо, был у всех на виду, специально не выставлялся, но и ложной скромностью не обладал.
Профессор как то рассказал мне одну историю из своей бывшей практики, заметив попутно, что подобных ей происшествий, с ним случалось множество.
Однажды его пригласил в свой замок в Саксонии некто граф Будунский, который был болен воспалительным несварением желудка, от которого жестоко страдал и не мог принимать столько пищи, сколько хотел. Как только съест бедняга граф что-нибудь, так сразу получает вопли и стоны со стороны своего желудка. Я так понял, что оное воспаление появилось у того графа в результате банального обжорства и ежедневного пьянства, сродни традиционной болезни богачей – тривиальной подагрой, только в более жестоком варианте.
Как же тут не заболеть, если каждое утро вставать с бодуна от непомерных винных возлияний и разнообразной еды. Хорошо известно любому мало-мальски образованному человеку, что Древний Рим погубили обжоры, – они просто забыли обо всём другом, кроме еды, питья и плотских утех, и в результате однажды еле заметили, как их «вечная» империя приказала долго жить. Римская империя была пропита, как, впрочем, и любая иная империя. Россию, к примеру, пропили в начале 20 века генералы и пьяные дурные депутаты, которые очень много о себе мнили…. А в конце того же века полстраны было пропито откровенным алкашом-расстригой атеистической религии. Эту бедную страну пропивали несколько раз за всю её историю. Самомнение, чванство и шапкозакидательство, вот истинный локомотив истории человечества…
Вновь, чуть отвлекаясь от темы, замечу, что для того, чтобы продлить свой ненасытимый кайф от поглощения самой изысканной еды и сделать его непрерывным, отдельные особи великого Рима, даже не дожидались переваривания пищи желудком, а выблёвывали и изрыгали её вон, с целью его опустошения и возможностью наполнения едой вновь и вновь. Этим постоянно занималась так называемая элита Рима, возведя поглощение пищи и вина в один из главных смыслов своей жизни. Такие люди были уже неспособны ни воевать, ни управлять и конец империи был предсказуем… А в учебниках пишут, что в гибели виновны варвары, вот и верь после того учебникам!
Очевидно, что к подобным типам и принадлежал упомянутый выше граф. Так что моему профессору пришлось решать почти невозможную задачу, – излечить не излечиваемое, с которой он, впрочем, справился превосходно.
Доктор, однако, на прощание предупредил Будунского, что если тот вернётся к прежнему образу жизни, то через время болезнь обязательно вернётся, поэтому необходимо менять свой рацион в сторону сокращения, что предполагает и укрощение непомерного аппетита бедняги. Ведь никакое лечение не отменяет приход матушки-смерти, вопрос лишь во времени её прихода, тонко, намекнул Первацельс Будунскому.
Эти слова сильно не понравились элитному графу, и тот выгнал Первацельса, не заплатив ему ни пфеннига, к великой радости злопыхателей и врагов моего любимого профессора. А что ж граф? Молва гласит, что он умер то ли от подагры, то ли от разжижения мозгов,… если, разумеется, он ими обладал, в чём у меня большие сомнения. Да и бес с ним!
Несмотря на подобные случаи, мой профессор многих бедняков лечил безплатно, вызывая всю ту же ярость «коллег» по лекарскому делу…
* * *
Так продолжалось примерно с год. Я обучался медицине у Первацельса, перемежая свои занятия бурными ночами с Катариной и ставшими теперь редкими походами к де Ариасам.
Как теперь выяснилось, моя помощь Пьеру была пока не очень то и нужна. Он частенько говорил мне, что сам не готов для производства окончательного алхимического делания, и поэтому помощник ему пока не нужен. Однако Пьер повелел мне ждать лишь его сигнала, чтобы присоединиться к нему и начать совместное наступление с ним на смертность и ржавость бренной окружающей жизни, как он сам выражался.
«Лишь истина не ржавеет, мой друг, всё остальное преходяще и мнимо, не забывай об этом». Эту довольно банальную сентенцию Пьер де Ариас любил часто повторять в моём присутствии. Иногда он добавлял: «Главное, найти её вовремя, эту самую истину». Были случаи, что мы сидели, как и прежде за большим столом в их гостиной и пили кисло-сладкое тягучее вино матушки Тересы.
Изредка к нам присоединялась и Мария, которая была, как обычно, прекрасна в этой своей пугающей меня девственной чистоте; однако в последнее время, и это было очевидно для меня, была покрыта лёгким, едва заметным, флёром непонятной мне, чёрствому, девичьей грусти. Непонятой мной, но очень даже заметной, и даже такому твердолобому человеку, как я, Виктор де Лагранж.
Я ведь по-прежнему взирал на неё лишь как на икону, возведённую мной почти на уровень самой Матери Христа, Божественной Марии, недоступную для понимания простого смертного. Мои чувства к Марии сейчас были мне самому непонятны, честно вам скажу. Такой уж я молодой болван был тогда, что поделать с этой глупой юностью.
Да, я по прежнему любил красавицу Марию, но любил её какой то, странной даже для самого себя, любовью. Я не мог себе представить, что мы когда-нибудь будем вместе с Марией не только духом, но своими молодыми телами, и я бы мог проделывать с ней все те штуки, которые проделывал вчера с Катариной или когда то ранее с пышногрудой булочницей Мартой.
Сам для себя я не мог понять своих чувств к ней. Да, я никогда не видел ангела наяву, и Мария в то время заменяла мне его место… И заменяла его до самого конца моей короткой жизни….
Так прошло более года и вскоре в моей Альма Матер произошли значительные события, благодаря которым я стал бывать у Ариасов всё чаще, пока, наконец, Пьер не объявил мне, что он, наконец, готов к Великому Деланию, и ему будет нужна моя помощь в ассистировании алхимического процесса. Он дал мне старую большую книгу, написанную по латыни, и приказал тщательно изучить её.
Честно говоря, это было чертовски трудно, несмотря на то, что латынь я знаю в совершенстве, как уверяет меня любимый учитель Первацельс. Сложность понимания сего фолианта заключалась главным образом, в том, что одни и те же понятия, которыми оперировал его автор, относились, на мой взгляд, к совершенно разным предметам и материям. Но об этом я ещё скажу позже, когда мы с Пьером приступим к нашему таинственному Деланию.
Далее де Ариас лично провёл со мной несколько уроков, рассказывая об этапах великой транс мутации золота из вторичных, как их ещё называют, загрязнённых или неблагородных металлов. Главным в его скрупулёзных наставлениях были особенности верного соблюдение пропорций исходных материалов, время их преобразования, и последовательность всех намечаемых процедур. И ещё он мне сказал, что основным во всей алхимической процедуре является безошибочность выполнения всех предначертанных заранее действий, любая погрешность в которых абсолютно недопустима. Нужна чёткость наших с ним действий во всём. Иначе распад атомов одних веществ и их собирание в другие будет невозможен.
В этих трудно описываемых на этих страницах действиях мы должны были с Пьером «перейти от черного к белому, от гниения к растворению, от мрачной ночи к золотому утру» – таков был великий переход к бессмертным вратам жизни, слишком тесным для того, чтобы всякий суфлёр мог протиснуться сквозь них, как выразился кто то из великих алхимиков, кажется, Василий Валентин.
Об алхимии и её непреходящем значении в истории всего человечества, написано множество заумных трактатов, так что я отсылаю интересующихся более подробным изложением технологии прохождения работ к их авторам, не забывая, впрочем, намекнуть, что они все (я имею в виду оные трактаты), слишком тяжелы для восприятия средним человеческим мозгом, занятым лишь исключительно собой и своими мелкими проблемами в поисках пищи, женщины, крова и прочих развлечений.
Мозг большинства людей тупеет по мере развития цивилизации, как ни странно, вот и непонятно, куда ж она развивается? Люди всё более становятся потребителями, нежели открывателями и производителями, не говоря уже о настоящих творцах, которые служат Богу. Ох, это не мои возвышенные слова, куда мне! Это де Ариас вчера изрёк, а я запомнил.
Иногда и меня захлёстывала эта философия жизни, жизни такой, какой её видел только я и никто другой. Увлечение ею было сродни увлечением вином начинающего пьяницы. Что поделать, так человек устроен или его устроил господь Бог, что нам неведомо. Дружба моя с Пьером, как и ученичество у Первацельса были для меня в то время всем. Пьер говорил, что алхимия, она не для всех, и это очень правильно, иначе всем ростовщикам и банкам мира грозит опасность разорения, а правителям государств – оскудение казны, и вследствие этого – потеря власти, что совершенно недопустимо для анти природной системы, – главной космической и невидимой Секты управления нами, людьми…
Так Пьер прояснял мне понемногу истины мира сего. Он говорил в тот раз долго, а закончил фразой, до конца мной так и непонятой в той сумбурной жизни:
– Поэтому главное в нашем Великом умном деле – строжайшая тайна. Я неоднократно буду повторять тебе эти слова, Виктор. Это шифр безопасности от безумия этого мира, отпавшего от Непознанного им Великого Бога. А Этот Истинный Бог отнюдь ни от кого не требует никакого поклонения. Ему важно лишь Его Признание и всё.
Вот так меня поучал Пьер почти каждый день, надо вам признаться, что он был слишком зануден: и лишь много позже я узнал, что занудство и педантичность есть необходимые качества для настоящего алхимика.
* * *
А многочисленные завистники в университете продолжали «копать» под моего любимого мэтра, и после их подлых, но скрытых усилий им удалось избавиться от него, причём моя страстная любовница Катарина сыграла против Первацельса ключевую роль…, как мне поначалу и не хотелось этого признавать: я не видел очевидного.
Так что же произошло с профессором Первацельсом?
Да вообще-то ничего особенного, зависть, увы, обычная человеческая зависть… один из пороков, и всегда энтропийных двигателей человечества, ведущих его в неведомое «завтра», которое так никогда и не настаёт.
Вновь назначенный «проректор» в наш Парижский университет, как бы сказали в более «просвещённом» двадцатом веке, по научной работе, отчаянно ревновал именитого профессора к его научным трудам и открытиям, а главное, – адски завидовал тому почитанию и благолепию, которое ему оказывали студенты и излеченные, от, казалось бы, неизлечимых недугов, горожане нашего благословенного города.
Ну и что скрывать, как уже указывалось ранее, мэтр наш зачастую был остёр на язычок, и не особо жаловал своих коллег по лекарскому сословию, часто публично объявляя их то профанами, то недоучками, а то и просто идиотами. А кому такое может понравиться? Ведь подлинный идиот никогда не признает себя идиотом или дураком. Он банально обидится, затаит злобу и ненависть на своего визави, и будет только лишь ждать удобного случая, чтобы нанести решающий удар исподтишка.
Таковым был и молодой проректор, недавно занявший место почившего в бозе нашего прежнего старичка, которого все мы, вчерашние школяры любили за его наивность, добрый нрав, и крепкую дружбу со своей полной, но гениальной противоположностью по характеру, каковым являлся Первацельс. Идиотом назвать себя может лишь умный человек: однако я таких пока не встречал! Пока старичок был жив, он постоянно заступался за Первацельса при любых конфликтах в алма-матер. Но его неожиданная смерть многое изменила в Сорбонне.
…А Первацельс действительно творил чудеса, от коих его слава лишь увеличивалась и росла, как снежный ком в конце февраля: он никому не отказывал в приёме, и никто из страждущих граждан не уходил от него не удовлетворённым.
В городе, разумеется, в нашей среде, часто поговаривали, что он имеет порошок проекции философского камня, но не алхимическое золото привлекает его душу, а милосердие и любовь к ближнему своему. Впрочем, были и такие глупые завистливые профаны, которые распускали слухи о его связях с самим дьяволом, якобы давшему ему возможность получить алхимический философский камень, дарующий его обладателю возможности избавиться от всех болезней и даже добиться бессмертия. Однако профессор вполне выглядел на свои лета и не был похож на мальчика. Но, чтобы там не шептали злые языки покорёженных и ржавых умов, поток больных к нему не иссякал…
Как-то раз в это время Катарина поведала мне такую историю: она часто ассистировала профессору при приёме больных, особенно в тяжёлых случаях. Тяжёлых не для Первацельса, разумеется, а для самого больного и для неё, потому что при приёме таких больных ей приходилось крутиться, как белка в колесе, доставая и смешивая всякие снадобья из шкафчиков по команде профессора. Снадобья эти были большей частью растительного происхождения, но небольшую часть среди них занимали и металлические порошки, а также их производные, и, естественно, минералы.
Лекарство для каждого больного Первацельс назначал сам, и обычно оно было строго индивидуальным для пациента. Очень тщательно профессор относился к дозировке лекарства, двое больных одним и тем же заболеванием у него всегда получали индивидуальную дозу своей панацеи.
И вот Катарина заметила, что, когда к Мэтру приходят страдающие неизлечимыми болезнями, как тот несчастный прокажённый, боящийся даже приблизиться к собору Нотр Дам де Пари. Ведь прокажённых нигде не жалуют. Но только не наш любимы и благородный сострадательный Первацельс. Этого прокажённого пациента доктор, после одних из субботних собраний в совместном в то время храме религии и науки, велел слуге наутро привести к нему на приём. В тот раз Первацельс старался не пользоваться услугами своей помощницы и отослал её прочь. И не только её услугами, но и помощью других ассистентов.
А значит, и те снадобья, и мази, которые стоят в шкафчиках и на полке лаборатории, он не использовал в той работе, чтобы поставить больного на ноги.
Тогда что же использовал наш неутомимый профессор, чтобы больной мог избавиться от такой страшной напасти, за которую обычные врачи даже и не пытались браться? Неужели в действительности таинственный порошок проекции? Этот вопрос мне не давал покоя ни днем, ни ночью…
В одну из встреч с Пьером, который, как я уже упоминал ранее, сам был знаком с Первацельсом, и также, как и он, являлся хорошим врачевателем, я задал этот вопрос де Ариасу.
Тот задумался почти на целую минуту, показавшуюся мне в моём молодом пылком нетерпении сравнимой с вечностью, и сказал мне:
– Скорее всего, да, твой профессор знает тайну камня и получения из него порошкща проекции. Видимо этого порошка у него не так уж и много, раз он использует его очень редко, лишь в экстраординарных случаях. Восполнить запасы порошка не всегда удаётся, видимо он давно не занимается настоящей алхимической практикой, переключившись на медицину и преподавание.
Великое Делание ведь, мой юный друг, требует времени и полной, абсолютной самоотдачи, во время которого необходимо забыть про всё остальное, о врачевании, преподавании, и даже о любви!
Я ничуть не обиделся на этого «юного друга», каковым себя, в действительности и считал. А самого Пьера де Ариаса с этого момента я теперь уважал и почитал ничуть не меньше славного профессора Первацельса.
К этому времени я знал, что порошок проекции есть не что иное, как таинственный Философский камень, измельчённый в ступке алхимика специально для приёма его внутрь при тяжёлых заболеваниях людей и животных, да и просто так, для долголетия или продления жизни. Люди же чрезвычайно любят цепляться за свои драгоценно озабоченные жизни, они не прочь стать ближе к Богу безо всяких видимых заслуг…
Также упомянутый порошок можно было использовать для простого получения золота, либо серебра. Короли и герцоги нашей старушки Европы гонялись в наше время за порошком проекции похлеще, чем за самим золотом, намереваясь царствовать вечно, оседлав мнимую лошадь безсмертия, которую на свой страх и риск им подводили прямо к палатам некоторые истинные и мнимые алхимики средневековья.
Ведь при помощи порошка можно было получить не только молодость и здоровье, но также золото и серебро, то есть осуществить вековую и действительно извечную мечту земного человечка: быть здоровым и богатым!
Тут, к слову, я вновь не выдержал и спросил Пьера:
– А когда же ты сам думаешь приступить к Деланию?
Тот внимательно посмотрел на меня, глядя в глаза, и, одновременно, как бы сквозь меня и заявил:
– Ещё не все составляющие для Великого Делания приобретены, дорогой Виктор! Кое-чего не хватает, но думаю, что это вопрос двух-трёх месяцев. Я жду сейчас прибытия одного турка, который привезёт мне для Великого делания корни одного растения. Они потребуются для фиксации косной материи в нашем процессе. В самой же лаборатории у меня давно всё готово к трансмутации.
Я очень полагаюсь, на тебя, Виктор, надеюсь, ты помнишь наш договор! Тебе и наблюдать за процессом придётся лишь по утрам, всего часов пять-шесть, когда мне придётся спать. Эх, друг, если б ты знал, как бы я желал освободиться от этого сна вообще!
Тогда бы я мог сам всё время готовить Камень! К сожалению, пока такое невозможно, хотя ходят слухи, что были в старину такие алхимики, которые никогда не спали, постоянно бдя днём и ночью, и лишь благодаря этому они добивались успеха. Однако, я подозреваю, такими они стали лишь благодаря порошку проекции, который они получили и стали применять его для себя.
Мне тут стало даже немного страшно. Как это, – никогда не спать?! Это же невозможно! Даже боги отдыхают! Видимо этот Пьер был истинным фанатом алхимии, ничем не хуже моего уважаемого профессора Первацельса.
Наверняка он почувствовал мою недоверчивую мысль и вдруг внезапно переменил тему:
– Что-то ты стал реже у нас бывать, Виктор?
Я неловко замялся и сказал ему в ответ:
– Профессор стал уж слишком загружать работой, особенно вечером, зато утром я всегда свободен и сплю столько, сколько захочу!
Разумеется, после очередной бурной ночи, проведённой с Катариной! Об этом, я, конечно, благоразумно, умолчал.
Пьер тотчас заметно оживился:
– Значит, ты сможешь всегда приходить ко мне по утрам, чтобы замещать меня в моём дежурстве на атаноре?!
– Конечно, же, Пьер, я же тебе дал слово ещё тогда, на нашей встрече в Соборе! Я буду делать всё, что нужно, не сомневайся, друг!
Де Ариас пожал мне руку, и мы расстались с ним почти на две недели…
* * *
…Тем временем, над Первацельсом и над всей нашей кафедрой сгущались тучи, которых я, ввиду своей молодости и неопытности в так называемых житейских делах, не замечал и не видел.
А пока произошло необычайное… Как правило, наш профессор принимал страждущих исцелиться во второй половине дня, после занятий со своими студентами и бакалаврами. Ассистировала ему, как я уже говорил, Катарина; частенько во время приёма больных присутствовал и один из бакалавров, в тот день этим бакалавром был я.
И вот, вечером, уже на исходе дня, в нашу приёмную комнату зашёл странный человек, у которого, в буквальном смысле слова, не было лица, вернее, оно было, но изуродовано до такой степени, что казалось немыслимым и отсутствующим.
Вошедший сразу же напомнил мне одного из ужасных демонов «Божественной комедии» великого Данте! На лице пришедшего не было носа, ушей, губ и бровей; страшный, лысый, гладковыбритый череп завершал чудовищную картину, которую всем нам ранее никогда не представлялось лицезреть. Мы с Катариной просто были в шоке, лишь профессор сохранял своё обычное хладнокровие, присущее ему, впрочем, не в обычной жизни, а только при приёме пациентов, ведь, увы, как ни крути, всё же он был человеком, хоть и гением!
Только одни глаза вошедшего монстра, иначе оного и не назвать, чёрные колодцы без дна, смотрели на вас, и, казалось, хотели поглотить всякого, кто мог задержать на них свой взгляд. Кажется, радужная оболочка его глаза слилась воедино со зрачком, или попросту отсутствовала. Я лишь мельком взглянул на него и опустил, как говорится, очи долу. Иначе я рисковал утонуть в его глазах, либо они бы меня съели. Эти его глаза горели, каким то неземным дьявольским светом, будучи отражением всех сил самой бездны Вселенной.
– Что привело вас сюда, сударь? – спросил, наконец, Первацельс ужасного визитёра, который без приглашения уселся на стул, впрочем, предназначенный как раз для пациентов доктора.
И, о боже! Такого тембра звука я ещё никогда в своей жизни не слышал! Пришедшее чудище заговорило, но заговорило оно таким голосом, который и должен принадлежать явившемуся перед нами страшилищу. Голос его был глухой и звучал, как будто из закрытого крышкой, то ли гроба, то ли погреба, куда страдальца поместили на время за какую-то провинность:
– Профессор, как я вижу, ваши юные помощники не в восторге от моего внешнего вида, а в особенности от лица, точнее, того, что от него осталось. Я тоже ему не рад. Моё лицо ведь и рылом не назовёшь, слишком много чести для него. Посему очень коротко расскажу свою историю, и то, что привело меня к вам.
Тут он сделал паузу и, как будто что-то вспоминая, продолжал своё ужасное чревовещание:
– Моё имя Кармог, уважаемый профессор, несколько лет назад я участвовал в войне нашей Священной Империи с турками, приняв участие в последнем Крестовом походе к Гробу Господню. Я был тогда ранен и попал к неверным в плен. Турки же пожелали продать меня арабам в рабство, но в ночь перед торгами я бежал, однако неудачно. Через день, сидящий перед вами урод (который в то время таковым ещё не являлся), был пойман и жестоко поплатился за свой побег, результаты которого вы видите на моём несчастном лице, точнее, на его отсутствии.
Результат на-лицо, так сказать; как видите, несмотря ни на что, я ещё обладаю чувством юмора, и посему надеюсь, что для меня в этом прекрасном, хотя и бренном мире не всё ещё потеряно.
Мерзавцы отрезали на моём бедном лице всё, что только можно. Пощадили лишь мой язык, да глаза, и то лишь для того, чтобы я всем рабам рассказывал свою историю побега в целях острастки. Но и язык мой онемел от ужаса, поэтому я и говорю таким голосом, кажущимся вам нестерпимым… Язык мой стал негибким, подобным твёрдой древесине, он плохой стал помощник моей гортани!
«Всё же средние наши века не такие уж и романтичные, как свидетельствуют некоторые поздние учёные мужи, придавая им флёр возвышенной духовности», эта мысль часто приходила ко мне в голову, – особенно по мере моего ужасно медленного взросления. Рыцарство и преданность высоким идеалам, в этом мире почему то уживаются с гнусностью и мерзостью. Описываемые события происходили незадолго до так называемой эпохи Возрождения, но и в ту достославную эпоху, воспетую поэтами и, особенно, художниками, если святая церковь признает вас еретиком, право слово, вам трудно будет избежать костра её святейшей и добрейшей инквизиции.
Бедняга, к которому моё сердце уже до краёв прониклось сочувствием, тем временем, продолжал жаловаться на свою горемычную судьбу:
– Мой язык пусть и деревенел, закоснел, но остался невредимым, благодаря Богу, которому я не оставлял молитвы моей души! Будучи в плену, у меня и изменился голос, что невозможно для обычного человека. Для правильного произношения не хватает природной гибкости языка, вот в этом всё дело! Но куда больше меня волнует моё лицо, вернее, то, что образовалось на его месте…
Кармог сделал небольшую паузу, и через минуту продолжил своё «чревовещание»:
– Вскоре война вспыхнула с новой силой и турецкий паша, по чьему приказу я был изуродован, был убит, а все его рабы получили свободу от имени нашего Христа.
После возвращения в Европу я посетил более сотни магов, чародеев и знаменитых лекарей, но на мою просьбу везде получал отказ. Я пытался добраться до Индии, однако судьба распорядилась иначе. Теперь я пришёл к вам, и умоляю вас, не откажите мне в просьбе, о, великий и мудрый Первацельс!
– Да, конечно же, почему нет, я никому не отказываю, но в чём заключается ваша просьба, что мучит Вас, уважаемый Кармог?
– Как же в чём? Я хочу, чтобы вы чудесным образом вернули мне мой прежний вид, моё настоящее лицо, о всемогущий профессор! Я являюсь в этом виде не только пугалом для детей, но и для взрослых, как вы сами только что изволили видеть! Я знаю, что вы великий алхимик, месье!
Мы все трое буквально остолбенели от этого заявления уродливого незнакомца! Даже Первацельс был изумлён, а он то, уж поверье мне, давно ничему не удивлялся в этом удивительном, но, увы, часто предсказуемом мире. После затянувшейся, чисто гоголевской паузы, профессор, наконец, произнёс:
– Увы, я не всемогущий алхимик, и тем более, не Бог, а всего лишь его весьма скромный слуга. Нарастить вам нос, губы, уши, и всё прочее на вашем… ммм, лице, совершенно не предоставляется возможным. Даже моя магическая медицина тут безсильна… это невозможно!
Первацельс закончил свой спич, как отрезал, и тут в приёмной комнате наступила гнетущая тишина, должная, по обыкновению, чем то разрядиться. Так и случилось. Произошло нечто, из ряда вон выходящее, чего вновь никто из нас никаким образом не ожидал. Этот явившийся нам Кармог внезапно упал на пол пред нами, и стал выть и кататься по нему, что бывает, как при приступах падучей. Он катался по полу, выл и визжал, словно его должны вот-вот зарезать… Или уже режут! Этот вой проник внутрь меня и достиг пяток!
Сказать, что мы просто были в шоке, это ничего не сказать. Однако профессор первым взял себя в руки и быстро распорядился вызвать ещё пару молодых бакалавров. Припадочного уродца усадили на крепкий стул, связали ему руки и ноги, поскольку он ими постоянно вертел и дрыгал, сопровождая эти телодвижение ужасными утробными звуками.
Минут через десять он также внезапно успокоился и довольно внятно произнёс:
– Вы просто убили меня наповал, профессор, вы были моей последней надеждой…
Голова Кармога упала на его грудь, и в комнате наступила тишина, которую через пару минут нарушил уже мой любимый профессор:
– Я просто не хочу Вас зря обнадёживать, Кармог, кто бы вы ни были на самом деле. Органы и члены одних людей, другие люди, которых зовут хирургами, могут в наше время лишь удалять, но никак не наращивать и наставлять… Может быть, когда-нибудь позже, в будущем…
И тут мой любимый Первацельс, до сего момента расхаживающий туда- сюда по комнате, вдруг встал, как вкопанный, напротив необычного, но успокоенного верёвками пациента, и внезапно произнёс:
– В будущем эта задача, несомненно, разрешится настоящей медициной! Я в этом нисколько не сомневаюсь! Но почему бы мне не попробовать и сейчас?!
Мы с Катариной переглянулись в изумлении! Может у Первацельса тоже поехала крыша при виде уродливого незнакомца?! Но этого просто не может быть!
Внезапно, однако, в своём привычном, слегка резковатом стиле, профессор скомандовал мне:
– Развяжите ка его, Лагранж! А вы, сударь, – он в упор посмотрел в немигающие глаза Кармога, – потеряйте вашу последнюю надежду на свои нелепые упования, дабы более не расстраиваться! Это вам необходимо сделать, чтобы ваши припадки, очень схожие с припадками эпилептика, более не повторялись! Для начала, что вам нужно сделать, – это полностью смириться с судьбой. Запомните, мой дорогой: «Полное смирение даёт шанс на избавление! Помните всегда, что всё в руках Божиих!».
Таким набожным я никогда ещё не видел своего любимого мэтра.
Профессор помолчал немного, и продолжил вновь свою речь, глядя на пришельца:
– Я проведу с вами несколько сеансов лечения новым способом, который хочу на вас проверить, только и всего. Запомните ещё раз, – шансов у вас нет. Никаких. Но кое-что я попробую сделать. Приходите ко мне завтра вечером… сразу после захода солнца. Я приму вас, и мы побеседуем одни, без свидетелей.
Мы вновь переглянулись с Катариной, и в наших с ней взглядах просто таки сочилось недоумение и растерянность. Что же задумал профессор?
…Тут Кармог вскочил со стула и испарился, будто его и не существовало вовсе, и этот случай нам привиделся.
Мы с Катариной вопросительно уставились на профессора, который лишь произнёс:
– Надо же было его как то успокоить, чтобы бедняга совсем не сошёл с ума! Несколько дней придётся его потерпеть. Ну, а вы, оба, рот на замок закройте, этого случая не было, а вы все ничего не видели и не слышали. И этого теперешнего посетителя тоже у нас с вами никогда не было. Ясно?
– Да, – только и оставалось нам пролепетать с Катариной.
Не знаю, как она, но на этот раз я, почему то не поверил Первацельсу, как верил ему всегда. У меня возникло убеждение, что он, что то задумал. И, как оказалось впоследствии, интуиция меня не подвела: я оказался прав.
С тех пор Кармог стал приходить на приём к профессору через день после заката солнца.
Принимал его Первацельс всегда в одиночестве, выпроводив Катарину из лаборатории, и о чём они там беседовали, нам не было известно, как и о возможном «лечении» этого получеловека… Я потерялся в догадках, но так и ничего не выудил у Первацельса; когда ему было нужно, он умел молчать. Это продолжалось почти с месяц. Кармог приходил к профессору через день, они запирались в кабинете последнего, а что происходило внутри его, нам с Катариной было совсем непонятно…
И вот что произошло далее. Моя милая любовница Катарина не сдержала своего обещания, данного ей Первацельсу, и не призналась в этом даже мне…. Всё её дальнейшее поведение говорило об измене великому мэтру. Но я узнал об этом вновь позже всех.
С лёгкого болтливого языка этой недалёкой, и, как оказалось позднее, довольно вздорной, но весьма интеллектуальной потаскушки, Катарины, по альма-матер, а затем и по всему Парижу, поползли слухи:
«Первацельс сошёл с ума, профессор Первацельс хочет отрастить губы, нос и уши беглому каторжнику! Каторжник платит Первацельсу бешеные деньги за регенерацию лица!». И всё прочее в подобном ключе.
Слухи эти росли, как снежный ком, и, как это обычно и бывает, случайно или нет, они дошли до «начальства», в частности, до моложавого завистливого проректора, который при первой же возможности, собрал то ли учёный совет, то ли ещё какое-то подобное ему сборище учёных мужей и суфлёров Сорбонны. Естественно, с единственной целью: отлучить Первацельса от кафедры медицины якобы за шарлатанство, что ему и удалось сделать…
Удалось сделать при помощи таких же завистливых бездарей, пауков от науки, как и он сам. Наука действительно бывает похожа на сборище пауков, ведущих человечество не к прогрессу, а к невиданной катастрофе. Есть люди, работающие на созидание, а есть учоные, работающие на разрушение. Однако тут был всего лишь частный случай, иллюстрирующий общую закономерность…. Закономерность полной безнравственности современной науки.
Наш профессор, как я уже упоминал выше, был весьма гордым человеком; обозвав своих коллег бездарями и тупицами, он хлопнул дверью и навсегда исчез из Сорбонны. Первацельс был, разумеется, прав, однако, и характер у него был, резким, как горький перец.
Вместе с ним пропал и таинственный беглец или каторжник… по имени Кармог, и предполагаемый Философский камень в виде безсмертного порошка проекции, о котором мы тогда так ничего и не узнали от своего любимого Учителя.
***
…А ещё ранее, вскоре после злополучного визита Кармога, странное чувство овладело мной, истоки которого я никак не мог понять. Если сказать проще, услады Катарины и любовь к ней, если это вообще можно было назвать любовью, стали мне казаться какими-то пресными и нереально глупыми и тупыми. Два тела, словно две змеи, сливались на короткое время в одно, а затем наступало почти мгновенное разочарование в этом мнимом и фиктивном физиологическом единстве. У меня точно наступало это охлаждение, думаю, что и у Катарины тоже, потому что после наших встреч на неё почти всегда нападала икота и зевота…
Каждый из нас хотел лишь что-то получить в этом бешеном соитии, именуемом всеми людьми любовью, которое было каким-то нелепым и неполным. Мне стало в этих отношениях чего-то катастрофически не хватать. Но чего?! Словами я не мог объяснить, но чувствовал, что из паутины моих отношений с Катариной пришло время выбираться, чего бы это мне не стоило.
Трудно назвать это моё чувство охлаждением эмоций, простите бедного бакалавра за тавтологию образов и их понятий, но лучшего определения дать мне будет весьма затруднительно. Да и не поэт я по определению, а так, будущий литератор средней руки, которому всё же есть о чём поведать миру…
Катарина мне стала постепенно безразлична, и я стремился с ней видеться как можно меньше, и меньше вспоминать о её лощёном и гладком смугловатом теле, отчасти напоминающим тело молодой, но уже хорошо объезженной кобылицы. Но окончательный разрыв произошёл лишь после ухода Первацельса, когда у меня наконец открылись глаза на происходившее на кафедре, да и в самой альма-матер.
…Однако это произошло не сразу, а, постепенно. Повторюсь, меня в ней привлекало уже только тело, как магнит, постоянно воскрешающий оное в моей памяти. Да, тело у Катарины действительно было восхитительным, ни сучка, ни задоринки, как сказал бы я, если б родился и вырос в снежной России (что, возможно, когда-либо и произойдёт). Чрезмерно умная молодая женщина, но чертовски хитрая, как я понял лишь позже, она поначалу была украшением самой кафедры Первацельса, который, любил и баловал её, словно ребёнка, почти ни в чём не отказывая. Хоть Первацельс и был выдающимся врачом и алхимиком, однако человеческие страсти были ему знакомы не понаслышке, и ни для кого не были секретом.
Баловал, то баловал, но, как я понял, до конца тоже не доверял, раз использовал на трудных больных предполагаемый нами порошок проекции втайне от своей длинноногой любовницы. И правильно делал, учитывая сотворённое ей впоследствии предательство профессора, из-за которого тот был вынужден покинуть Париж.
Естественно, что Катарина за ним не последовала, вскоре вновь став секретаршей нового выскочки-проректора. Мои же отношения с Катариной сразу же развалились после внезапного и вынужденного ухода моего кумира и учителя из университета, чему поспособствовал донос Катарины в ректорат о визитах к Первацельсу уродливого Кармога…
Но это я так, к слову. Мне тогда было не до того, чтобы выяснять отношения и ушедшего мэтра, и нового проректора с молодой лаборанткой, потому что мои собственные отношения с внешним миром всё ещё так и не смогли сложиться в более- менее связанный калейдоскоп, а пребывали всё в тех же разбросанных там и сям осколках этой так называемой земной жизни, которой я в виду моей молодости, совершенно не видел конца…. У меня иногда было такое чувство, будто я живу вечно. И, по большому счёту, я был недалёк от истины, если сравнить вечность с придорожной пылью. Пыль будет существовать всегда, пока существует Земля.
Всё же алхимия алхимией, а реальная обычная жизнь, проходящая у тебя пред самым твоим носом, а, тем паче, глазами, несколько иная, и ты иногда запутывается в ней до основания самого черепа, где хранится главный осколок твоего давно и прочно подзабытого рептильного мозга, управляющего твоими подсознательными инстинктами; а иногда, почему то она бьёт тебя самым неожиданным образом, и ты долго не можешь понять, почему это и за что?
Но всё же… Я пока что довольно успешно лавировал в потоке собственной судьбы, но мне однозначно чего-то не хватало. Тоска стала приходить ко мне всё чаще вскоре после ухода любимого Учителя, моего Первацельса.
Вот так, лёжа однажды в своей комнате поздним вечером я долго никак не мог уснуть и ворочался с боку на бок. Что было причиной вдруг нахлынувшей ужасающей меня тоски, я тогда, ввиду то ли глупости, то ли молодости, не понимал…. Соседи за стеной моей лачужки апогейно завывали в пьяном угаре, мне хотелось либо убить их, или заткнуть себе чем-то ушные раковины: пока что я выбрал последнее….
Наконец, настала полная тишина, которая, однако, не принесла мне никакого успокоения: моё внутреннее смятение лишь возросло…. Жизнь казалась мне в этот момент безрадостной и лишённой всякого смысла.
…И вдруг совершенно внезапно в моей голове возник образ Марии! Господи, радость моя, Мария, ну почему я стал вдруг забывать про тебя? Этот образ так отчётливо появился предо мной, что я невольно вздрогнул, как будто опасаясь немедленного появления Марии здесь, в этой моей грязной лачуге, совершенно не предназначенной для такого воплощённого ангела, как она.
И, словно в подтверждении моим мыслям, за стеной вновь раздались ужасные вопли соседей, делящих между собой скромное чувство любви и рвущие его на осколки взаимных упрёков и претензий этих скучных человеческих существ. Ушные затычки были в данном случае безполезны.
Слушать стенания окружающих – боже мой, какая тухлая пошлятина! Каждому человечку хочется любви, хотя бы на мгновение, каждому её мало и каждому не хватает: он оглядывается по сторонам и ищет, где бы ему вытрясти хоть её малую толику!
Я вновь задумался… Боже, как мало света в этом мире, и только одна лишь алхимия может удовлетворить мою жажду жизни и ещё всё-то светлое, что я испытываю, когда встречаю иногда девушку по имени Марию де Ариас.
Я так долго лежал и думал всё это долгим весенним утром, оставив происходящее вокруг за пределами моего восприятия.
Что сейчас происходит со мной? Что я хочу? Новой, единственно неповторимой любви? Это Мария! Я буду помнить тебя вечно!
Эта мысль грела моё сердце приливами радости и любви.
А быть может, я просто никчемный человеческий слабак, как иногда внушал мне мой любимый papa? Человеческий неудачник? Я боюсь тебя любить? Так я люблю тебя, либо боюсь любить себя? Я окончательно запутался.
А эти мысли вымывали из меня весь свет бытия и надежду на будущее.
Эти мысли выматывали всё моё существо, но ответа в тот раз я так и не нашёл. Быть может, я ещё просто молод и ничего не понимаю в жизни?! Скорее всего…. Если б молодость знала, что будет потом!
…Господи, боже милостивый, помоги мне разобраться и понять, что же я действительно хочу получить от своих таких непонятных для меня самого, полу-застывших и странных отношениях с Марией? После ухода Первацельса и разрыва с Катариной, мир вокруг явно стал сложнее и стремится навязать свои правила жизни…. Нет, только не сдаваться!
И здесь я вспомнил своего отца. Право слово, моему папаше, бравому вояке, было намного проще: старший Лагранж, не задумываясь рубил головы врагам короля или протыкал их трепыхающиеся тела своей шпагой. Жизнь другого человека для него имела ценность не более ценности курицы, либо индюка, следующих предназначенной им дорогой в суп.
Таковы они, эти бравые солдаты всех времён и народов! Что и говорить, папаша в своём деле всегда был на высоте и теперь заслуженно почивает на лаврах, получая солидную королевскую пенсию. Иногда я ему искренне завидую!
* * *
Шло время, я продолжал читать лекции в университете, а пациентов более там никто не принимал: запрет наложил новый проректор, заявив, что университет не есть лазарет… Разрешалось лишь приготовление лекарств и сбыт их в аптеки, контролируемые этим прохвостом.
Без Первацельса мне стало совсем тоскливо и я с нетерпением ожидал весточки от Пьера, чтобы, наконец, уже заняться настоящим делом.
И вот, наконец, драгоценный день настал, Пьер во время одной из наших алхимических встреч в Великом Соборе сообщил мне, что готов начать большой путь алхимического Делания, и я уже завтра рано утром должен прийти после восхода солнца к де Ариасом, чтобы сменить его у атанора.
Что я испытал при этом известии? Трудноописуемое чувство предвкушения нового счастья, вот как это называется. Это чувство открытия нового, знакомого каждому истинному художнику своей собственной жизни. Моя тоска и хандра моментально испарились, будто их и не было.
Чувство открытия, чувство новизны, чувство исследователя! Оно сродни с самостоятельным прочтением первого слова твоей жизни в тексте Букваря, лежащего пред тобой, с первым снегом, с его редкими снежинками, дарящими умиротворение и надежду, и, конечно же с первым чувственным томлением, которое охватывает душу подростка при виде понравившейся ему девушки, и принимаемое им, как это обычно бывает, за «великую» «любовь». А вдруг?! Повторюсь: всю мою вчерашнюю ночную меланхолию как ветром сдуло.
Я был рад и счастлив до такой степени, что вечером вновь долго не мог уснуть в своей каморке, из-за чего наутро чуть было даже не проспал, хотя привык вставать с рассветом, но только в тех случаях, когда не встречался с Катариной.
Выскочив на улицу, я вприпрыжку побежал по ночному городу к дому де Ариасов и через полчаса уже был у такой знакомой мне двери. Не успев дёрнуть шнур звонка, как дверь тут же распахнулась передо мной, и на её пороге возникла Мария, в строгом длинном белом платье без всяких следов декольте. Это платье сразу же показалось мне чересчур серьёзным и даже монашеским, несмотря на его высший алхимический цвет, что я машинально отметил в то самое время, когда Мария произносила эти драгоценные для меня слова:
– Здравствуйте, мсье Виктор, заходите, мой брат ждёт вас с нетерпением!
Она взглянула на меня своими огромными глазами, и в тот же момент опустила вниз свои красивые и слегка взлохмаченные длинные веки.
Боже, как я рад был сейчас слышать этот голос! От моих вчерашних ночных сомнений не осталось и следа. Конечно же, я люблю её! Как только я мог сомневаться в этом! Для меня стало совершенно очевидным, что до сего момента Катарина занимала моё воображение незаслуженно! Оказывается, мне нужно было всего лишь её тело! Мгновенно Катарина оказалась в пучинах мёртвого прошлого. Как заметит заинтересованный читатель, я понемногу стал прозревать… это хоть что-то. Или нет?
Я поблагодарил девушку и прошёл вслед за ней к двери лаборатории Пьера, где она меня и оставила.
Первое, что захватило меня при прибытии в святая святых Пьера де Ариаса, это был запах. Я уже несколько раз ранее посещал эту его тайную от всех комнату, и такого запаха никогда здесь не чувствовал.
Надо сказать, что лаборатория у Пьера была шикарная, не то, что каморка какого-нибудь суфлёра, в коей мне однажды ранее пришлось побывать по поручению доктора Первацельса… У Жана также была лаборатория слабенькая, – одно название.
Запах тут стоял особенный, где кислое вуалировалось сладковатым привкусом расплавленного лёгкого металла, и предвкушал во мне раскрытие великой тайны алхимии. Мои чувства вновь обострились до предела. Как при встрече с Марией несколько минут назад Пьер стоял возле атанора, который имел форму башни, и через слюдковое окно которого хорошо был виден огонь, творящий волшебство трансформации. Взмахом руки он пригласил меня подойти поближе.
И Пьер тут же стал мне давать наставления вкупе с поручениями:
– Я ночь не смыкал глаз, да и сейчас не хочу спать, поэтому побуду с тобой здесь немного. Этой ночью мной начат первый этап процесса: получение чёрного цвета, иначе он называется «умирание старого», или nigredo.
Сейчас этот этап происходит под воздействием Огня почти автоматически и твоя задача, Виктор, лишь поддерживать пламя масляной горелки под атанором (так называется чудесная алхимическая печь). Процесс этот относится к женскому началу и будет продолжаться пятьдесят два дня, это женское чётное число. За это время мы должны убрать всю воду из подготовленной материи, что находится в колбе атанора. Что такое «подготовленная материя», я объяснял тебе ранее. Эта материя под воздействием огня начинает чернеть, как обугливаются белые дрова при сгорании. Поэтому, для начала, получим, чёрное.
Итак, дорогой друг, возрадуйся и восхвали Небеса: мы с тобой приступили к великому Деланию, Оpus magnum. Пусть замолчат на это время все профаны! Итак, внимай.
Ты должен приходить ко мне в одно и то же время и всего лишь наблюдать за этим процессом, что более сложно в исполнении, чем в словах, но, – не беспокойся: я же почти всегда буду с тобой рядом. Возможно, что Мария тоже иногда будет нам помогать.
При его последних словах сердце моё ёкнуло, и озарилось радостным чувством, всплеснувшемся из меня чудесным фонтаном, которое я до сих пор называю любовью. Вернее сказать, преддверием любви; впрочем, кому как угодно.
…Итак, наконец-то мы приступили к настоящей алхимии. Той, которая Нечто нечистое превращает в чистое и неизменное, путём перемен, находя постоянное и недвижимое. А что, кроме материи золота, может быть неизменным в этом изменяющемся каждое мгновение мире?
Золото, только золото, только этот металл самого Солнца, он один сможет удовлетворить нас, ищущих счастья и постоянства. Золото даст долгую стабильность моей мятущейся жизни. Если б я тогда знал, как жестоко заблуждался! Всё, что произошло в дальнейшем, случилось со мной с точностью до наоборот!
* * *
Алхимический процесс был начат и теперь не должен был прерываться в течении длительного времени: в этом заключалась основа нашего успеха.
Так, день за днём я по утрам приходил к де Ариасам, и работал в лаборатории Пьера, выполняя его указания. Иногда во время моего бдения у алхимической печи, когда Пьер спал, заходила Мария, и мы, полные более духовного влечения друг другу, беседовали на алхимические темы, с нетерпением ожидая того момента, когда, наконец получим от своих бдений чего-нибудь стоящее. Что? Золото, либо потрясающую любовь, либо то и другое вместе, с жизнью, полной счастья, богатства и любви, которую мы с ней, безусловно, заслуживаем. Я полностью тогда был рабом формы, впрочем, это свойственно почти всем молодым людям. Таковы были в то время мои мысли и ощущения… Эти ласкающие мысли приходили ко мне всё чаще и чаще, я уже перестал глазеть по сторонам в буквальном смысле слова в поисках тех развлечений, которые так свойственны моему возрасту. Понемногу я стал перерастать самого себя. В мою жизнь входили Любовь и Алхимия.
Однако, по правде говоря, я плохо представлял себе в деталях весь процесс алхимического делания. Был так сказать, слабоват, и не только в коленках, ногах, но и в собственных мозгах, которые казались мне верхом человеческого совершенства. Но, увы! Мои мозги были ещё недоразвиты! Я боялся себе в этом признаться, но, однако, дело обстояло именно так, а не иначе. Посему я целиком и полностью полагался на Пьера, на его знания. И честно говоря, далеко не ушёл от обычных суфлёров с алхимической тусовки средне-мелкой руки. Но это и не было тогда для меня столь важно. Важно было другое, – я всё никак не мог признаться, моей доброй Марии в своих искренних чувствах, о которых та наверняка догадывалась. Пока ещё чувства, чувства любви были для меня самым важным. Впрочем, где чувства, где эмоции; всё было смешано во мне. Ясно было одно: сначала девушки, самолёты потом, – вот что такая моя молодость! Наконец, благоприятный случай вскоре представился.
Прошло уже много времени с начала нашего Делания. Однажды мы сидели вмести с Марией де Ариас в лаборатории у атанора, кажется, это было время сублимации алхимических веществ в последней стадии. Накануне Пьер предупредил меня, что процесс работы подходит к концу, и получение святой киновари или алхимического яйца должно вот-вот произойти.
Мария спросила меня в тот день:
– Виктор, скоро у нас будет столько золота, сколько мы только можем пожелать. Что вы будете с ним делать и как использовать? Зачем нам с вами много золота?
Вопрос этот не застал меня врасплох, он был весьма кстати.
Тут я и подумал, что настал решающий случай для объяснения с очаровавшей меня навеки девушкой. Это был великолепный повод продвинуть далее наши отношения: они ведь только начинались; мы, как два магнита, медленно, но верно притягивались друг к другу, чтобы соединиться навеки (так мне тогда казалось).
Набравшись смелости и глядя ей прямо в глаза, я проговорил:
– Я люблю вас Мария, люблю как саму свою жизнь, и буду просить вашей руки у матери Вашей Тересы. Но сначала я построю для нас дом неподалёку от этого места. Это будет большой дом с множеством комнат, и снаружи он будет похож вот на этот атанор, – я указал взглядом на печь, придвинулся ближе к Марии и вял её за руки. Он будет похож на эту башню, но символом этой башни будет наша любовь, она будет вечно властвовать в нашем доме! Клянусь, Вам, Мария!
Она молчала, лицо её при свете масляных ламп выглядело как то отрешённо, и удивления я не заметил на прекрасном лике Марии, даже тени смущения не было видно: казалось, что она всё знала заранее.
Я впервые прикоснулся к ней, взяв за руки; тепло рук девушки, казалось, перетекало в моё сердце, точно таким же образом, как киноварь, сублимируя самое себя, превращается в золото. Такие мгновения незабываемы для истинно влюблённого! Тем более, если эта любовь – с первого взгляда! После маленькой паузы я спросил её:
– Вы согласны, Мария, быть моей женой?
Она чуть прикрыла свои глаза, и лишь сказала:
– Да, – и тут наступила тишина.
Тишина нарастала, словно снежный ком, катящийся с горы и долженствующий вот-вот рухнуть, разбившись на части, превращающиеся, в свою очередь в исходный материал. Я заключил Марию в свои объятия, но всего лишь на какое то мгновение, потому что она почти сразу же стала освобождаться от них, со смехом говоря мне:
– Вам сейчас надо следить за процессом, милый Викто̀р, иначе мы так и не получим ни золота, ни всего остального!
Смутившись до корней волос, я освободил её и бросился уменьшать пламя масляной горелки, потому что кипение внутри уже достигало критической массы…. Процесс никак нельзя было нарушать,…отвлечения от процесса, бывают так опасны, чем они привлекательнее, эти отвлечения тем опаснее, сию истину я понял много позже.
Что и говорить, Мария девушка с юмором!
Надо ещё раз напомнить, что после исчезновения профессора Первацельса, я сразу же прекратил встречаться с Катариной, которая, очевидно, ввиду своего предательства последнего, пошла вскоре на повышение и стала любовницей нового проректора, с коим я был не намерен делить своё, уже канувшее в лету, но когда-то страстное любовное ложе. Был прекрасный повод расстаться с ней, расстаться, как мне казалось тогда, навсегда. Катарина тогда оставила след в моей душе, но всего лишь след, хоть и глубокий.
Из-за предательства Первацельса она мне стала неприятна и вызывала то самое смешанное чувство, которое я испытывал иногда, препарируя различных лягушек, змеюшек и жуков в университетской лаборатории. С образом любви, связанной с ней было покончено.
Как иногда быстро заканчивается любовь, переходя в отвращение и ненависть! Не перестаю удивляться этому до сих пор. Поводы к тому могут быть разные, зато результат всегда один и тот же. Одна любовь приходит, а другая предаётся забвению. Я не был исключением в этом всеобщем правиле нашей обыденной жизни. Однако моя любовь к Марии будет вечной, как сама жизнь! Сама Вечность, казалось, шептала мне об этом.
…Теперь я уже не мог ни о ком более думать, кроме как о Марии, и распылятся на остальных особей женского пола, как бы они не были привлекательны, не имел уже никакого желания, тем более, что все остальные мысли, вместе со временем, порождаемым ими, мною были заняты происходящим алхимическим процессом в лаборатории де Ариаса.
Моя учёба и работа в Университете также отошла на задний план, превратившись в обычную рутинную службу, которую приходилось посещать более по вынужденной необходимости. Тот, кто занял место Первацельса на его кафедре, даже не заслуживает того, чтобы о нём говорить тут, дорогой читатель, он был, что говорится, полным суфлёром как в медицине, так и в алхимии, зато был отличным знатоком, как теперь говорят, под ковёрных игр и служебных интриг. Впрочем, именно чинуша в любую эпоху и в любой стране остаётся чинушей, имей он хоть кейс ультрамодного и ультратонкого ноутбука. Последний не изменит его сути, а, наоборот, всё более поработит, превратившись в живую биомеханическую игрушку, самодовольную и подлую…
Именно поэтому большую часть времени я проводил у де Ариасов: то у атанора, заменяя Пьера у горелки, то беседовал с Марией и её матерью, которая, как я внутренне предчувствовал, будет готова рано или поздно отдать мне Марию в жёны. Пока к этому был не готов именно я, живущий в жалкой лачуге и еле-еле прокармливающий сам себя. О какой такой женитьбе вообще могла идти речь?
Шло время, прошло уже более чем шестьдесят девять дней с начала процесса, и то, что варилось внутри алхимической печи, начало, наконец, менять свой цвет.
Чернота обрабатываемой массы, которой вначале Пьер придавал такое большое значение, убывала с каждым днём, алхимическое яйцо за стеклом атанора белело на наших глазах. Пьер стал каждый день добавлять в сосуд, где происходила метаморфоза философского камня, какие то вещества: то в виде порошка, то в виде жидкости.
Глаза его в эти моменты странно блестели, его тело хоть и выполняло какие то действия у печи, но делало их автоматически. В такие моменты я всегда вспоминал то его состояние, в которое он иногда входил, когда молился самой Божией матери в её величественном Соборе. Пьер был истинным алхимиком и мистиком, совершенно не от мира сего. Быть может, позже я расскажу, почему это произошло…
…Пьер де Ариас был похож иногда даже на сумасшедшего, особенно в те моменты, когда проводил незнакомые мне манипуляции у своей любимой алхимической печурки:
«Скоро, скоро, – бормотал он, и тут же добавлял: но не будем спешить!» Эта фраза стала его постоянной спутницей во всё время великого делания.
С каждым днём содержимое в плавильном сосуде светлело и начинало приобретать белесоватый оттенок.
– Сегодня нам нужно добавить киновари и молодой ртути, что является довольно опасным процессом, – заявил Пьер решительно, не спуская с меня глаз, наблюдая за моей реакцией на его слова. Подавив своё смущение, я довольно тупо спросил его:
– А зачем?
– Для ускорения процесса плавки и для изменения состава и изменения состава зародыша, что приведёт к падению божественного белого вниз, так сказать, – на грешную землю, но только никак не потерявшим своё божественное, мой юный друг!
Я всё равно ничего не понял. Возможно, что я выглядел тупым и обескураженным, посему решил промолчать. Однако мой глуповатый внешний вид был отмечен де Ариасом, что повергло его на более пространное объяснение происходящего процесса:
– Послушай, мы сейчас с тобой творцы и наблюдатели великого делания, которое происходит вот в этом небольшом атаноре! Мы с тобой собираемся получить порошок проекции вещества, являющегося частью самого Незримого Бога. С его помощью можно очень долго жить на этой прекрасной Земле, к тому же возможно сказочно разбогатеть!
Но в нашем с тобой случае богатство может быть призрачным, а жизнь, сократиться, в результате действий завистников, коим несть числа. Поэтому, Виктор, смотри и учись: пока для тебя наиглавнейшее это процесс алхимии, результат – вторичен. Если честно, результат всегда вторичен, – главное это процесс.
Признаться, я был несколько обескуражен прозвучавшими словами моего учителя и друга: мне то, как раз был важен именно результат, то есть хороший кусок золота, благодаря которому я построю дом и введу туда свою Марию. К тому же я всё ещё плохо соображал и в самом процессе: превыше всего для меня была цель!
Мне просто повезло, что у моей возлюбленной оказался такой учёный брат; ну, или у моего друга-алхимика сестра оказалась потрясающей красавицей, в которую я влюбился с первого взгляда! И не только красотка внешне, моя милая Мария! Чёрт возьми, это слово красотка звучит как то дёшево, по-бульварному, оно опошляет мою возлюбленную! Очень плохое слово! Я никогда не писал любовных виршей, как иные суфлёры, но всегда считал себя поэтом в душе.
Ведь моя Мария заслуживает более лестных, а, тем более нежных слов, однако я становлюсь слишком косноязычным, когда волнуюсь от любви…. Да, я хоть и парень, но я сильно волнуюсь, доложу я вам, крепкие лишь передним умом читатели сей эпопеи. Любовь лучше чувствовать, о ней трудно говорить: пусть о ней говорят поэты…
Пьер, тем не менее, продолжал:
– В принципе, процесс не так уж и сложен, как он представляется профанам и суфлёрам.
Что мы с тобой сделали? Мы с тобой взяли сначала несколько грубых элементов земли, таких как олово, свинец и мышьяк или же сера, соль и ртуть… последние у нас символизируют дух, душу и тело…
Мы расплавили первичные элементы в алхимической печи, добавив к ним кое-что ещё, что я держу в тайне. Это то, что усиливает трансформацию процесса превращений. Раствор наш плавильный в атаноре поначалу имел грязно-серый оттенок… со временем он начал чернеть и к тому же выкипать.
Каждый день я добавлял в него ещё по элементу, мне известному, как говорится в великих алхимических книгах, так что в процессе делания в сосуде оказывается вся физическая вселенная. Я собираю в сосуде микроскопическую вселенную, которая подобна внешней, макроскопической, понимаешь, Виктор?
Разумеется, я ничего не понимал, однако лишь поддакнул кивком головы своему учителю.
Далее…. Эту собранную Вселенную, нужно её вернуть обратно к Богу, образно выражаясь, то есть трансформировать в изначальное Ничто или Пустоту. И, вот, наконец, наш состав стал чёрного цвета, цвета поглощения, что говорит о том, что все элементы, каковые имеются во Вселенной, впитаны им, а сам раствор есть материальное подобие Пустоты, и процесс готов идти дальше.
А дальше, на втором этапе, при последующей возгонке, чёрное начнёт понемногу распадаться, как бы отдавая самоё себя, отдавать не сразу, но постепенно. Это будет происходить, а вернее, уже происходит, на твоих глазах, Виктор! Ты видишь, как состав наполняется Божественным и превращается постепенно в белый?!
Я ничего не понимал и был просто сбит, как говорится с ног этим монологом моего учителя.
– Да, – пролепетал я, – но куда же девается чернота?!
– Видимо, испаряется, – ты же сам делал специальные отводы для пара и конденсата, вот она и оседает на трубах.
Также и вся чернота в душах людей должна испариться на этой прекрасной Земле, мой дорогой Виктор, ведь сама наша Земля представляет собой Божественный Атанор! Да, наша Земля есть станция сепарации душ, печь, Божественный Атанор.
Когда он говорил сие, то я чувствовал себя маленьким ребёнком, всего лишь школяром, пытающимся познать мне недоступное. Пьер же вновь заметил, глядя уже на наш лабораторный атанор:
– Да, Виктор, ты, правильно понял внешнюю суть процесса, малыш, но что сей час происходит внутри колбы?
– Что? – только и смог я тупо спросить в ответ на вопрос Пьера.
– Процесс внутреннего соединения частиц элементов, друг мой. Отдав часть себя общему делу, некоторая часть элемента испаряется в атмосферу, а сама чернота действительно оседает внутри трубок. Но, то, что останется в осадке, уже будет нашим!
Итак, мы подходим к самому главному, завершающему этапу нашей работы: сублимации всех имеющихся компонентов и выделению философского камня из них.
После того, как готовящийся раствор станет белым, я добавлю в него специальный агент, который на субатомном уровне свяжет всю массу воедино и после того она вновь начнёт менять цвет, но теперь уже из белого в тёмно-красный. И ты знаешь, почему этот раствор начнёт вновь менять себя, надевая это прекрасное красное одеяние?!
Вновь наступила пауза в разговоре, и я застыл в своих мыслях, или эти мысли остановились вдруг в моей голове, честно скажу, что произошло, я тогда не понял. Зато то, что происходит со мной, понял мой теперешний учитель, Пьер де Ариас, который продолжил:
– Да, возможно, что пока ты не поймёшь, как происходит процесс, но сможешь понять, зачем.
Красный цвет и его оттенки есть цвет самой жизни человека, цвет человеческой крови, что является общеизвестным фактом, это цвет жизни всего животного царства на Земле, включая и человека.
Только поэтому получаемый нами алхимический камень и будет иметь подобный красному цвет. Он прошёл великую трансмутацию и он предназначен для человека! Но этот цвет является лишь внешней оболочкой, это не содержание, которое мы будем иметь в нём в результате нашего многодневного процесса.
Это содержание таково, что включает в себя всё лучшее, необходимое для того, чтобы подвергнуть трансформации любое вещество и даже самого человека, продляя его жизнь на неопределённо долгое время.
В приготовляемом нами Камне заключена божественная искра, а Бог, как ты знаешь, не имеет ни времени, ни пространства, ни смерти. Ему они не известны, в отличие от человека, и Он им неподвластен. Так и человек, вкусив малую толику порошка, заметь, очень малую толику, становится отчасти подобным Богу, но лишь отчасти.
Почему отчасти? У неподготовленного мистика, суфлёра, могут появиться другие, ещё худшие проблемы при этом, что будет только означать, что он не понял самой сути алхимии.
А сама её суть заключается коротко, в следующем: «Алхимия есть варка первичной материи, чтобы адаптировать её для человека».
Человек не сможет напрямую прикоснуться к Божественному, чтобы не быть Им тут же уничтоженным, ввиду своей слабости. Посему он путём алхимии лишь прикасается к Нему, как нищий к не принадлежащему ему золоту.
Поэтому все эти знания и держатся в тайне: они не для суфлёров и профанов…
А пока у нас наступает последний этап, в котором, как отмечал благородный Артефий, «прекращается влажное и мрачное доминирование женского начала. Именно тогда белый дым пронизывает вновь сотворённое тело. И далее всё дело продолжается без вмешательства делателя».
Проще говоря, нам с тобой, мой друг, уже не надо вмешиваться в процесс, а, как и в начале работы, только поддерживать температуру происходящей в колбе атанора трансмутации.
Эти разъяснения Пьера де Ариаса дали всем моим действиям в его лаборатории толику осознанности. Я уже не чувствовал себя тупым исполнителем, а настоящим алхимиком! Я был счастлив сейчас, как никогда прежде! И даже забыл о Марии на несколько часов!
Однако «поддерживать температуру» нам пришлось довольно долго, а я был тогда довольно нетерпелив.
Оттенок цвета алхимического раствора белел и светлел, но не так быстро, как мне бы хотелось. Во время своего дежурства я, однако, почти ни на минуту не забывал о Марии, тем более, что она была рядом со мной.
Достижение алхимического безсмертия, про которое на наших встречах в Соборе рассуждали Пьер, Жан, Фламель и другие алхимики, меня тогда мало занимало, ведь в мои годы казалось, что у меня впереди – целая вечность! Я тогда был и прав, и одновременно, чудовищно заблуждался. Так уж устроен этот мир, то есть сам Я!
Сейчас, честно говоря, мне, как и всем нормальным людям, нужно золото, много золота! Зачем, могут спросить некоторые нетребовательные к себе, зато придирчивые к другим, недалёкие люди? Однако таковые ничего не смыслят в человеческой любви и в превратностях самой судьбы.
Такая девушка, как Мария, свет очей моих, не должна жить в нищете, в той закрытой каморке, в которой я сейчас обитаю! Это невозможно! Нам будет нужен хороший дом, с вышколенной и преданной прислугой,… которую в наше время трудно найти даже за золото.
Для меня золото – всего лишь средство, я не суеверен. Мария, вот моё настоящее золото! Ради неё я готов на всё! Вот моё настоящее счастье….
Эти мысли в то время постоянно вертелись в моей неугомонной голове: они не знали остановки, как и пламя нашего огня в атаноре.
* * *
Так дни шли за днями, я постепенно терял интерес ко всему происходящему в университете, и ходил туда более чем для проформы, чтобы получить хотя бы какую-то копейку на хлеб. Золото золотом, всё это маячит в неопределённом будущем, а копейка нужна здесь и сейчас.
Я стал преподавать основы медицины для ново начальных студентов; в нашей лаборатории после ухода Первацельса нечего стало делать: никто не проводил никаких экспериментов и не ставил новых опытов, как это было ранее, при великом мэтре, посему началось оскудение и запустение.
Кафедру мою задушил формализм и схоластика нового молодого, но тупого и завистливого проректора, не без помощи которого доктор Первацельс был вынужден покинуть Париж.
Таким образом, все мои теперешние интересы сместились из Университета в лабораторию Пьера и в гостиную матушки Тересы, где мы частенько пили вино или чай в перерывах от бдения у атанора. На скромные деньги, полученные мной от преподавания, я дарил Марии недорогие подарки: то букет из роз или гвоздик, то какую-нибудь незамысловатую брошь или колечко.
Я почти переселился к де Ариасам: часто несколько ночных часов наблюдал за пламенем атанора, с нетерпением ожидая окончание процесса, а после спал пару часов прямо на скамье в лаборатории, после чего всё же шёл на кафедру прочитать пару лекций студентам.
…Со временем алхимического раствора становилось по объёму всё меньше и меньше. Было видно, что он выкипал, при этом чисто белый цвет вновь стал темнеть, вернее, преображаться на наших глазах: от розового до светло алого, пока, наконец, не достиг чисто красного цвета крови и почти не превратился из предполагаемой жидкости в непонятную на вид аморфную крутую массу.
Прошло ещё несколько дней, и Пьер сказал мне:
– Всё, Виктор, дело сделано! Я уверен, мы не потратили эти месяцы напрасно. Процесс закончен, сейчас мы достанем камень и охладим его.
Он затушил горелку и снял верхнюю часть печи. Достал колбу с камнем, отошёл в сторону, и на железном столе аккуратно разбил её.
Раздался лёгкий хлопок, словно из райской петарды, красный дым вырвался наружу из этой «лампы Алладина» вместе с камнем полукруглой формы, который выпал на железную столешницу, издав при этом мягкий и глухой звук.
– Ну вот, пусть остынет, и мы займёмся им, – проговорил Пьер.
– Этот буро-красный кусок чего-то там и есть много жданный «философский» камень? – с любопытствующим сарказмом, доставшимся мне в наследство от папаши, спросил я его. Пьер же, с удивлением во взгляде на меня, отвечал:
– Да, он и есть. Мне понятно твоё недоумение, юноша. С другой стороны, ты что, думал сразу огрести золотые луидоры в пробирке?!
Пьер рассмеялся своим бархатистым лёгким смехом, от тембра которого я не смог устоять и тоже глупо заулыбался, осознавая изнутри свою глупость и наивность.
– Понимаю, понимаю, тебя, Виктор, ты просто грезишь о золоте, а не о самой сути алхимии. Однако, я предупреждаю тебя, – будь осторожен на этом пути. Вижу твоё нетерпение, но и вижу, что ты не готов для искреннего делателя. Ты готов пока только на роль ассистента, познающего профана… ну что ж, не всё сразу. А зачем тебе золото?
После этого вопроса он вдруг в упор посмотрел на меня, а я вновь стушевался.
– Впрочем, чего это я, всем же известно, что ты неравнодушен к моей сестре, разве не так? Ты отчаянно влюблён в неё, парень!
Тут Пьер вновь вогнал меня в ступор; и как только он смог догадаться то? Ведь я признание своё делал Марии шёпотом! Я не знал, что и ответить моему учителю, язык мой просто присох к горлу.
– Молчишь, Виктор? Неужели ты и вправду думал, что сие есть великая тайна для меня? По тебе, по тому, как ты себя ведёшь, это давно не является ни для кого тайной. Кажется, даже все наши соседи про это знают, кое-кто из них даже интересовался у матери, когда же будет свадьба? Ты уже давно почти каждый день ходишь к нам, а про наши алхимические дела никто и не подозревает!
Я был ещё сильнее ошеломлён этим напором Пьера, а он добавил мне вслед, беззлобно смеясь:
– Ну ладно, не смущайся, я сам давно понял, зачем тебе золото. Золото тебе нужно для любви, так? Слава Богу, что не для власти! И что ты намерен делать, когда это золото у тебя вдруг появится?
Тут только я пришёл в себя и отвечал ему:
– Как что, Пьер? Я хочу построить дом недалеко от вас, и только тогда уже ввести в него Марию, раз уж ты всё про меня знаешь. Да, я люблю твою сестру, и она любит меня.
– О, как!? Вы уже объяснились?
– Да, но пока только на словах. Я не хочу нарушать обычаи.
– Да ты крут, Виктор! А у тебя были раньше женщины? Я думаю, скорее да, чем нет.
– Были, честно скажу, и не одна. Но Мария – это особый случай, Пьер! Поверь, я очень люблю твою сестру, больше жизни!
– Ну, это ты зря, друг мой, лучше жизни на этом свете ничего нет, – пробормотал Пьер и добавил:
– Всё, наш плод давно готов и остыл, а мы про него забыли за житейскими сантиментами.
Он встал со своего круглого табурета и подошёл к железному столу, на котором лежал взлелеянный нами философский камень. Взяв его в руки, Пьер стал внимательно его осматривать. Поднеся его к лицу, несколько раз понюхал его и передал мне:
– Полюбуйся ка на это чудо, Виктор!
Я взял камень в свои руки и чуть не уронил. Для своего размера он был очень тяжёл. Но не это удивило меня, а то, что, несмотря на тяжесть, он казался каким-то рыхлым на вид, и по ощущениям тоже. Рыхл камешек то, и, как оказалось позднее, пластичен. При его-то тяжести это было невероятно!
Цвет Камня был красно бурый, но светлее цвета красной свеклы. Поверхность, когда то обращённая кверху, к небу, застыла в нём как бы волнами. Эта волнистая, слегка шероховатая на ощупь поверхность искусственного чудесного минерала завораживала меня своим видом. Я казался сам себе волшебником. Хм, подобный восторг я иногда испытывал лишь в присутствии Марии!
Камень был тяжёлым, а эта поверхность казалась несуществующе невесомой, она как бы жила своей жизнью.
– Налюбовался? – спросил Пьер, и забрал у меня «философское яйцо».
Он положил его обратно на стол, подошёл к полкам с разными причудливыми штуками, взял с одной из них какой-то предмет, похожий на барабан, но с ручкой. Я догадался, что это мельница. Пьер положил аккуратно камень внутрь барабана и начал с усилием его вращать.
Я вытаращил глаза! Я думал, что сейчас раздастся дикий скрежет, но ничего подобного не произошло. Звук был, но какой-то мягкий, с лёгким похрустыванием. Однако было видно, что крутить ручку мельницы Пьеру было тяжело, и вскоре Пьер передал её мне:
– Потренируйся, друг мой!
Я начал вращать ручку барабана, слегка прижимая камень широкой скалочкой, которая была у меня в другой руке. Пьер держал мельницу обеими руками, чтобы она не улетела прочь со стола.
Крутить, в действительности, было очень трудно. Камень, хотя и истирался, но очень медленно; тёрка была мелкая и частая. Я довольно долго крутил ручку, моя правая рука совсем онемела, когда, наконец, Пьер, провозгласил:
– Всё, хватит крутить, прекращай!
Я остановил барабан, а Пьер достал изнутри камень, вернее, то, что от него осталось, – небольшой кусочек и спрятал его в карман, заявив мне:
– Это на всякий случай! Всегда нужно иметь при себе маленький запасик!
Затем он взял большую и широкую глиняную тарелку, и начал вытряхивать оттуда полученный нами порошок.
Потом принёс всё с той же полки аккуратную щётку с мягкой щетиной и собрал ей весь полученный порошок проекции Бога в кучу.
– Ну, вот и всё, Виктор, осталось получить твоё долгожданное золото. На это уйдёт всего лишь неделя. Приходи через пару дней. Нам надо немного отдохнуть.
* * *
Следующие два дня я посвятил отдыху, как и советовал Пьер, и не появлялся не только у де Ариасов, но и в университете, сказавшись новому декану нездоровым, что, отчасти было правдиво.
После моего последнего объяснения с милой Марией, я мгновенно забыл обо всех иных женщинах, с которыми я когда-либо встречался и делил с ними ложе страсти и прелести земной любви. Все мои прежние мысли мгновенно истаяли, убежали прочь, как будто их никогда и не было. Все эти мои опыты оказались в тумане забвения прошлого и даже представлялись, чьими то чужими, мне не принадлежащими.
Чудно устроил Бог человеческую память! Сейчас в моём сердце живёт только Мария, и она в нём поселилась навечно, до самой смерти. Забегая вперёд, скажу, что я был прав по поводу смерти, но никак не по поводу вечности.… Почему? У человечества много магистров философско-богословских наук, пусть судят они, никогда не любившие ничего в своей жизни, кроме собственных умозрений. Я же более практик, чем теоретик, посему часто вспоминаю стихи одного замечательного философа, к тому же поэта: «Суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет!».
Ну, это я так, к слову.
А пока передо мной стоял только образ Марии в её любимом иссиня-тёмном платье и с распущенными волосами, чуть ли не касавшимися колен, с глазами, заполненными, казалось, любовью всего мира; не той любви мгновения, которую так жаждет любая человеческая плоть, а той любовью понимания и прощения, которая присуща самой вселенной, самой Божьей Матери. В её глазах было вечное терпение, терпение ожидания настоящей матери, хотя она пока ей и не стала. Она была Девой в том высшем смысле, какой великие поэты всех времён вкладывают в понятие Вечной Женственности.
Я часто думал, что недостоин её любви, что сам давно низок и пошл в своих, якобы возвышенных стремлениях. Но я всегда убирал эту убогую мысль, пряча её подальше, в самый глухой закоулок собственного мозга: мы все хотим быть хорошими и справедливыми, особенно в собственных глазах, которые давно уже сродни тусклому и мутному стеклу, как сказано в одной из мудрых книг мира сего, если только у вас хватит искренности признать оное. Но мы не признаём и не видим этого. Опять отступление: но, увы, мой мозг не привык работать иначе, и, если читателю трудно меня понять, то пусть он лучше закроет эту книгу: я заранее прошу у него прощения.
…Итак, эти два дня нашего отпуска тянулись довольно долго, растягиваясь иногда в безвременье; главным образом потому, что, в отличие от предыдущих времён, я совершенно ничего не делал, валяясь на своей одинокой и узкой кровати: то предаваясь сладким грёзам о будущей жизни со своей возлюбленной в большом и красивом доме неподалёку от де Ариасов; то уносясь в своих мечтах в заоблачную высь, ставя замок своего счастья на берегу лазурного моря и величавых, почти что сроднившихся, с вечностью, гор.