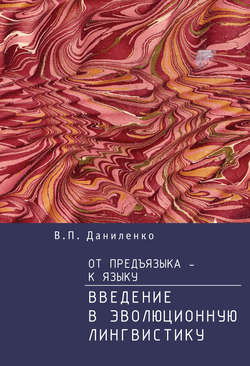Читать книгу От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику - Валерий Петрович Даниленко - Страница 7
1. Гипотезы о происхождении языка
1. 2. Новые
ОглавлениеОчень обстоятельный обзор новых гипотез о происхождении языка дан в книге С. А. Бурлак «Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы» (М.: Астрель, 2012). Я ограничусь в своей книге кратким критическим анализом лишь основных.
1. 2. 1. Натавистская гипотеза Н. Хомского
В молодые годы Ноэм Хомский (род. в 1926) взлетел на олимп мировой славы благодаря своей теории генеративной грамматики. Уже и тогда он настаивал на врождённости универсальной грамматики. На старости лет он перенёс идею врождённости на глоттогенез. По поводу этой идеи сразу послушаем Б. Бичакджана: «Языки не являются ничем не обусловленными вариантами некой универсальной устойчивой грамматики, которую генетическая мутация привнесла в наши хромосомы. Языки – это наборы эволюционирующих черт» (Бичакджан Б. Эволюция языка: демоны, опасности и тщательная оценка // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / Сост. А. Д. Кошелев, Т. В. Черниговская. М. Языки славянских культур, 2008. С. 85).
Язык, с точки зрения Н. Хомского, обязан своим происхождением вовсе не потребности что-либо сказать, а потребности о чём-либо размышлять. Язык потому главным образом и возник, чтобы обеспечивать процесс познания. Когнитивную функцию языка он возвысил над коммуникативной. Первая – главная, а другая – побочная.
Н. Хомский писал: «Язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Её, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка» (Хомский Н. О природе и языке. М.: КомКнига, 2005. С. 114).
Рациональное зерно в только что приведённой цитате очевидно: возможности вербального мышления неизмеримо выше аналогичных возможностей невербального мышления. Вербальному мышлению человек в первую очередь и обязан своему стремительному отрыву от своих животных собратьев в своей когнитивной эволюции. Она была бы невозможна, если бы наш предок не сумел создать инструмент для своего мышления – язык.
Выходит, что перед языком можно смело ставить когнитивную потребность в качестве причины для появления человеческого языка. Но отсюда вытекает неизбежный вывод о том, что даже и в одиночестве человек должен был бы создать себе язык как «систему для выражения мыслей» – во внутренней речи. Чтобы с её помощью познавать мир. А уж потом он сообразил, что внутреннюю речь можно превратить во внешнюю, чтобы приобщить к ней других. Приблизительно так и думал в XVIII в. Иоганн Гердер. Новое – хорошо забытое старое!
И. Гердер писал: «…ведь даже дикарь, одинокий дикарь, живущий в лесу, и тот должен был бы создать себе язык, даже если бы он и не говорил на нём никогда. Язык явился результатом соглашения, которое душа его заключила сама с собою, и это соглашение было столь же неизбежно, как то, что человек был человеком» (Гердер И. Трактат о происхождении языка. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 143).
Одно непонятно: зачем под глоттогенез подводить только когнитивную потребность в языке, а коммуникативную оставлять на задворках? Почему между ними не заключить союз? Первые люди нуждались не только в познании мира, в котором они живут, но и в общении друг с другом. Вот почему ущемление коммуникативного фактора глоттогенеза за счёт гипертрофии когнитивного в гипотезе Н. Хомского нужно исправить на когнитивно-коммуникативную гармонию. Но эта гармония будет неполной, если мы не превратим её в когнитивно-коммуникативно-прагматическую, поскольку в основе происхождения языка лежат не только когнитивный и коммуникативный факторы, но и прагматический.
Прагматический фактор глоттогенеза связан с переходом слова в дело. Нет никаких оснований сомневаться в том, что первые люди не могли додуматься до осознания прагматической функции зарождающегося у них языка. Этой функцией пользуются животные, предупреждая своих соплеменников, в частности, о грозящей опасности. Люди лишь унаследовали от них использование языка как средства, с помощью которого они могут «воздействовать друг на друга с большей эффективностью» (Блумфильд Л. Язык. М.: Прогресс, 1968. С. 42).
1. 2. 2. Протограмматическая гипотеза Т. Гивона
Талми Гивон (род. в 1936) в 1962 г. получил степень магистра наук в области садоводства, но с 1966 г. он пошёл по лингвистической стезе. В это время лингвистическую науку уже в значительной мере охватил хомскианский угар. Т. Гивон не принял грамматики Н. Хомского. От критики этой грамматики он пришёл к своей версии глоттогенеза.
В отличие от Н. Хомского, Т. Гивон не оставил в своей гипотезе о происхождении языка коммуникативную функцию языка в тени когнитивной. По традиции он стал рассматривать язык не только как инструмент мышления, но и как средство общения. От себя он подчеркнул: с помощью языка говорящий имеет возможность узнать что-то новое не только благодаря собственным размышлениям, но и от других людей. Иначе говоря, коммуникативная функция языка может превращаться в когнитивную.
Т. Гивон разделил глоттогенический процесс на два этапа – протограмматический и грамматический. Первый из них характеризуется отсутствием грамматикализации, т. е. отсутствием специальных грамматических показателей у первых слов-предложений, а вторая идёт по пути растущей грамматикализации, т. е. по пути увеличения грамматических показателей у несколькословных предложений. Следовательно, второй этап глоттогенеза характеризуется появлением подлинного синтаксиса, тогда как в первый он по существу отсутствует, поскольку первые люди употребляли лишь однословные предложения.
Рассуждая подобным образом, Т. Гивон пришёл к тем же соображением, к которым А. А. Потебня пришёл ещё в XIX в. Выражение «всё новое – хорошо забытое старое» здесь, кстати сказать, не годится, поскольку американские языковеды, за очень редким исключением, не имеют ни малейшего представления о российской лингвистической науке. Никогда не узнает этот Т. Гивон и о том, что я здесь о нём пишу.
А. А. Потебня предполагал, что первобытные люди потому употребляли однословные предложения, что их мышление ещё не способно было расчленять описываемую ситуацию на предмет (субъект) суждения и его признак (предикат). Их мышление было ещё синкретическим по преимуществу. Вот почему гипотетическое предложение «Лек» у них означало «Птица летит». Субъект в нём спаян с предикатом. Естественно было назвать это «Лек» первобытным причастием, поскольку именно причастие совмещает в себе именные и глагольные особенности. Но это причастие ещё представляло собою безаффиксный корнеслов. Оно ещё не подверглось грамматикализации.
На место потебнианского первобытного причастия Т. Гивон поставил указательные местоимения, возникшие в результате вокализации указательных жестов. Если, по А. А. Потебне, имена и глаголы возникли из первобытных причастий, то по Т. Гивону – из первобытных указательных местоимений. Из этих местоимений он вывел личные местоимения, артикли и существительные. Между существительными и глаголами затем наступила длинная пауза, необходимая для того, чтобы первые люди в своей когнитивной эволюции дозрели до соединения существительных с глаголами для построения субъектно-предикатных предложений. Как только это произошло, появились несколькословные предложения с субъектно-предикатной структурой и начался второй этап голоттогенеза – грамматический. Он характеризовался приливом грамматических средств, позволяющих предложению всё больше и больше совершенствовать свою синтаксическую структуру.
Как видим, гипотеза Т. Гивона заслуживает высокой оценки. Её истоки восходят в Европе к Ф. Боппу, В. Гумбольдту, А. Шляйхеру и А. А. Потебне. В ней отражён эволюционный взгляд на происхождение языка. Языковая эволюция предстаёт в ней как процесс, движущийся от простого к сложному – от грамматически неоформленных слов-предложений в протоязыке к грамматически оформленным несколькословным предложениям в языке.
1. 2. 3. Музыкальная гипотеза Н. Масатаки
Нуобо Масатака (род. в 1954) – японский приматолог. Он поделил начальный этап глоттогенеза на три периода – гуления, лепета и пения. Материал для такой перидизации он нашёл в доязыковом поведении младенцев и коллективных дуэтах гамадрилов. В процессе первого периода наши предки создали слоги, в процессе второго – многосложные слова, и в третий они их запели.