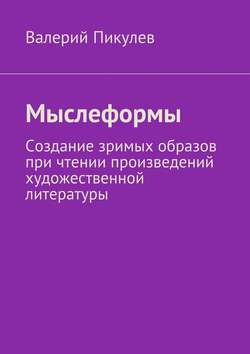Читать книгу Мыслеформы. Создание зримых образов при чтении произведений художественной литературы - Валерий Пикулев - Страница 7
Добрые дела…
ОглавлениеСветлой памяти
Александры Григорьевны
и Дмитрия Егоровича
Егоровых – моих
бабушки и дедушки
Начальная установка: Умудрённый опытом человек преклонных лет пытается осмыслить прожитóе…
«Добрые дела, намерения… а, скорее те, кто их совершает, создают вокруг себя некое силовое поле», – подытожил я, только что просмотрев телепроект об опытах над водой. В нём со всей убедительностью, на какую только способен Игорь Прокопенко, – а он способен! – было показано чудо! – Кластеры диполей воды, под действием прочтённых над ними молитв, или просто добрых слов, создавали упорядоченные и довольно красивые структуры. Ну а если над ними слегка матюгнуться, тогда…
Тогда, вне всякого сомнения, и люди, втянутые, – пусть даже не подозревая того, – в подобное силовое поле доброты, начнут испытывать его благотворное воздействие. Но почему же это случается так редко? Не оттого ли, что просто у этого поля не хватает напряжённости? А значит, поле это надо поддерживать постоянно, превратив «делание добра» во «вредную» привычку, и этого не замечать.
Давно это было… Уж и не помню когда. Однако постойте, – могу, всё-таки, вспомнить, и даже с хорошей точностью: я уже ходил, но ещё не в школу… уже изъяснялся, но ещё не матом. – Значит, мне было пять, ну плюс-минус там…
– Сынок, – бабушка, насколько помнится, всегда ко мне так обращалась, – ну что поделаешь: бабушкин сынок и есть! – я с рынку ишла, и дай, думаю, позвоню в дедову контору, с телефону-то на углу Дивенской. Сегодня ж его поезд прибыть должон. В два часа, сказали, будет. Собирайся, кыль хошь. Вот, кашки манной сварю для него, и поедем.
– Дедушка приедет, дедушка приедет! – закрутился я по четырёхкомнатной коммуналке, словно юла, – из комнаты в кухню, из кухни в комнату, – к неудовольствию соседей: опять дней десять терпеть лишнего домочадца.
Мой «дешка» (я так его, бывало, звал) был проводником пассажирского состава дальнего следования. Уезжал в поездку на неделю, а потом неделю-полторы дома. Всегда ходил в кителе с погонами (железная дорога тогда была полувоенной организацией, приписанной к железнодорожным войскам) и в фуражке – благо, форма была казённая и регулярно обновлялась. Ездил в Москву, в Киев и даже в Крым, – в Симферополь. Привозил мне фрукты, – по целой корзинке! – и книжки, оставленные пассажирами.
«Пятнадцатилетний капитан» в ободранной обложке, «Том Сойер», залитый черничным вареньем… – Они и сейчас… Эх, да что там, – дедушка есть дедушка!
Помню, водил он меня как-то в Железнодорожный Музей, на Садовой… А там, в одном зале, смотрителем оказался его бывший напарник, уже пенсионер. Так они мне показали на действующем макете, что такое неправильно стрелку поворотить… – Паровозик с пятью-шестью вагончиками, разогнавшись было, сделал сальто на пол! Вот тогда мы похохотали!
И вот, дедуля приезжает! Я уже представил себе, как мы с бабушкой вылезаем с трамвая и идём на Московский вокзал, выходим на перрон… а там, у вагона №7 – «нумерация с головы состава», – он нас уже дожидается. Лезем в вагон, в служебку, – а там столько всяких лампочек и выключателей! – и бабушка достаёт сумку с тщательно укутанной кастрюлькой, с тёплой еще манной кашкой! – Дедушка с юности желудком тужил, и тёплая манная каша была для него вроде манны небесной. А потом медленно едем, – на поезде! – в депо, где мой дедушка ещё должен сдавать вагон. Затем мы с бабушкой берём корзинку с фруктами и отправляемся домой, снова на трамвае. А он приедет вечером… с тремя флажками в кожаном чехле: красным, жёлтым, зелёным… с жестяным «фонарьком», как его называла бабушка… А в фонарьке том огарочек свечки… а стёклышки – красный, жёлтый, зелёный… синий… И с большими карманными серебряными часами!
– Бабушка, а почему ты решила дедушке отвезти кашку, ведь он же неделю её не ел, потерпел бы до вечера. – Да что ты, сыночек! – похоже, мой довод ей не пришёлся по душе, – ведь, ему ж для желудку хорошо горазд, а когда ишо вечер твой! Пущай с дороги-то и поист. Я ему всю жизнь кашку носила манную, когда работал, бывало…
– Бабушка, а где мой дедушка работал раньше? – Ведь, он говорил, что вы в деревне жили.
– А што, в деревне, поди, не работают? Вот и он работал, – на железной-то, на дороге, – стрелочником.
Мне и раньше доводилось слышать от дедушки о его житье-бытье в деревне. … О том, как его учили грамоте: сперва старенький священник (восемь недель до Великого Поста), а затем ссыльный студент из Питера – после… (шесть недель). Пройдя этот курс деревенской науки, мой дедуля знал четыре действия (лишь на десять умножал с трудом, – никак не мог поверить, что надо всего лишь нолик приписать) и две или три главы из «Евгения Онегина» – наизусть! А «Бородино» – полностью (чем я и сейчас-то не могу похвастаться)! С их деревни таких лишь двое было, и к ним ходили читать и писать письма со всей округи.
– Бабушка, а ты расскажешь мне как нибудь… – Расскажу, сынок, кыль хошь.
А вечером, когда приехал мой «дедяка Митя», – уж и не помню, почему я так его называл в раннем детстве, – мы пили чай с пирожками (бабуля очень разбиралась в пирогах и была в этом деле отменная мастерица!) – и, слово за слово, началась неторопливая беседа.
– Дед, а не помнишь ли, когда мы познакомились-то в Порхове, на ярманке: в Маслену или на Светлой Седмице?
– Чего удумала, старая, вспоминать ишо… на ночь-то! – «дешка» мой никогда, сколько помню, с бабушкой не ругался и даже голоса не повышал. «Старая» или «Катерина ты старая» – были почти нецензурной бранью; и только сильно осерчав, – на меня, скажем, – он прибегал к более крепким выражениям, вроде «такую-то маковку». Я долго не мог понять, да и дедушка так и не объяснил, почему бабусю, которую соседки звали Шурой, он иногда обзывал старой Катериной. И лишь много лет спустя вычитал где-то: старыми Катеринами звали бумажные екатерининские банкноты с портретом императрицы, которые во времена Александра Первого ещё были в обороте, но считались уже ненадёжными, чуть ли не фальшивыми. Вот отсюда и пошло.
Бабушка вышла замуж рано, в восемнадцать, а дедушкка был на год старше. Жили они близ Порхова, у станции Дно, – бабуся в Межничке, что на речке Дубёнке, впадавшей в Белку (приток Шелони), дедуся же, – на взгорье, в Заячьей Горе, что в трёх верстах, ежели напрямки. У них протекала Ужинка, впадавшая в Полонку (другой приток Шелони). – А, поженившись, обосновались в Межничке.
Через год Митюшка, – бабушка никогда мужа не называла Димой (да и я с неприятием отметил как-то, что Дима – ещё один вариант имени моего «дедушки Мити») – так вот, Митя, знавший грамоту, устроился на железную дорогу стрелочником, на полустанок Вязье, что в версте от Межничка, ближе к Питеру. Вот об этом-то периоде их жизни, собственно, бабушка и поведала. Полился рассказ, и поплыли картины сельской нехитрой жизни…
Шура встала уж засветло, с третьими петухами, – ах, как бабушка, помню, хотела вновь услыхать петушков, ну хотя б ещё разок! – подмела сени, вымыла пол в горнице, позавтракала: кружка молока да большой ломоть хлеба, испечённого вчера. Ну ещё мелко порубленная свежая капуста со сметанкой. Затем же поставила вариться кашку манную, на молоке, – для Митюшки. Он вчерась на свадьбе гулял, у двоюродного брата. «Гулял» – сильно сказано: Митя почти не пил совсем, и табаком не баловал. Так, посидел маленько, да и к дому, – на службу надо вставать рано. Вот и ушёл с первыми петухами.
Они с напарником дежурили на полустанке: маленькое такое, одноэтажное строение красного кирпича, в Вязье. Вот туда-то она и отправится, за версту, – ближе к обеду. Шура ходила к Мите своему каждый день, когда работал, и носила тёпленькую манную кашку, до которой он был большой охотник. – С детства желудком маялся.
Вышла из дому. Направилась вдоль железной дороги. Вспомнилось, как в детстве бегала с ребятишками сюда – глядеть, как поезда «проходют». А богатые господа-пассажиры бросали из окон всякие диковинки: серебряные бумажки (а когда и с картинками даже!), какие-то ярко-жёлтые «шалушки»… – а от них так вкусно и хорошо пахло!
А потом приезжали учёные из Питера, – курганы раскапывать. А там, в курганах в этих, находили человеческие скелеты с длинными косами на черепах, – китайцы, сказывали. (Я, помнится, не очень-то верил в бабушкины рассказы про китайцев, – откуда ж им взяться-то, под Псковом! – пока сам не прочёл где-то, что при строительстве Николаевской дороги привлекали китайских рабочих, гастарбайтеров, по-нонешному). Вот и детство вспомнилось, – что сбредится?! – оглянулась вокруг…
А вокруг – июньская благодать! – Стрёкот кузнечиков и желтые солнышки одуваньчиков в травке, звонкоголосые жаворонки в небе! Шура даже остановилась, пытаясь разглядеть застывшую, словно вмороженную в бездонную глыбу небес, махонькую пичужку. Увидала: вон она «стоúт» на одном месте, трепеща крылышками, и выводит свою песенку-дразнилку: «Му-жи-ки-и-и-и-ду-ра-ки-и-и-и – - – - – жги-те-се-но-ско-ро-ле-то!» А над полями носятся чибисы, оглашая окрестности писклявыми криками: пи-И-И-И- – - – - пи-И-И-И- – - – - пи-И-И-И-т-р-к… Их много и на земле, важно расхаживающих, – в чёрно-белых фраках, с кокетливыми хохолками, – средь картофельных грядок. – Благода-а-ть!
Однако, пора, Митюшка заждался, поди. Издали ещё, завидев станционную сторожку, удивилась: Митя обычно встречал её на лавочке, у стрелки. Сейчас же – никого! По делам, видать, подался. Иногда так бывало – пути проверить, да мало ли…
На железную дорогу её муж попал не случайно: в Межничке он один был грамоте учён. А напарник его, – с деревни Выскодь, что ещё дальше Заячьей Горы, – тоже.
На полустанке в ту пору ещё не было телефона, однако уже стоял телеграфный аппарат. По нему-то и передавали сообщения, из Великих Лук или со станции Дно, о приближающемся поезде: в Питер или из Питера… – В Вязье был разъезд и тупиковая ветка для отстоя состава. Так вот, эти сообщения надо было принять, прочесть, да ещё и правильно понять куда воротить стрелку. А после надобно сделать запись в журнале и указать время приёма телеграммы. На этот случай у дедушки были большие карманные серебряные часы с цепочкой, фирмы «Eitner» – те самые (они и сейчас ходят). Поезда в Вязье останавливались редко: лишь когда подходили к разъезду одновременно, с обоих направлений.
Шура подошла к маленькому кирпичному домишке с доской над входом, на которой чёрной краской выведено: «ВЯЗЬЕ». Вошла в открытую дверь… и обомлела! – Телеграфный аппарат строчит «что е мóчи», никак поезд идё, – жаль, что грамоте не обучена! – прочла бы. А Митя с напарникам тоже «что е мóчи» – храпят на лавках.
Разбудила, растормошила их, – какая там каша манная?! – поезд принимать надо! Митя вскочил, и к аппарату! – Ванька, – поезд идё, кажись! Бяри жёлтый, гди он? Не видал? – (Дело в том, что проходящий поезд надо было встречать жёлтым флажком, чтобы стрелку на малой скорости проходил), – а я стрелку воротить пойду.
Вышел Митюшка, приложил руку кó лбу козырьком и, сморщив переносицу, стал вглядываться в темнеющую вдали полоску леса. И вот, показалось над лесом облачко дыма. В безветрии дым оставался долго висеть над кромкой леса почти неподвижным шлейфом, однако источник дыма быстро приближался.
– И впрямь, кажись, идё, – произнёс Митя вслух и неспешно пошёл воротить стрелку.
Тем временем из лесу, куда убегали рельсы, показался паровозик. Было слышно уже, как он пыхтел, таща за собой с полдюжины вагончиков. Ваня с Шурой тоже вышли поглядеть. Иван достал жёлтый флажок и, развернув его, приподнял над головой.
А пассажирский состав, как ни в чём не бывало, неспешно проходил мимо, постукивая на стыках. И не ведали беззаботные пассажиры, что жизни их теперь ничто не угрожало, – ведь, они были под защитой Великого Поля Доброты, созданного заботами простой крестьянки о своём хвором муже!
Да и ведала ль сама она об этом… – кто знает, кто теперь скажет?!