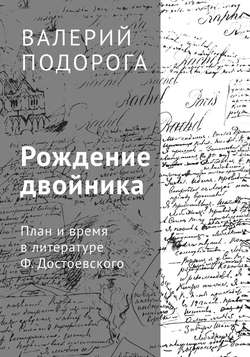Читать книгу Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского - Валерий Подорога - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. План и произведение
3. Виды записи
ОглавлениеИзучая «рабочие тетради» Достоевского, его рукописи, наброски планов, можно видеть, что на начальной стадии плана он использовал несколько видов записи: скоропись, рисунки, каллиграфическую и стенографическую записи. И все они отличаются по экономии знаков, энергии выражения и по быстроте фиксации. Нельзя исключать из процесса планирования ни одного образа, который присутствует на листе черновика[30]. Один вид записи – «каллиграфия» – занимает особое место по отношению к скорописи, «записи сцен», к развертыванию процесса планирования. Этот вид записи пересекает лист черновика, или, если сказать несколько иначе, он всегда по краям, не в центре. Изучая черновые рукописи Достоевского, понимаешь, почему ему было необходимо проявлять каллиграфическое усердие, на которое в полной мере был способен, например, разве что Гоголь. Чистописание, помимо переписывания – «набело», «начисто», – это еще и мимирование неподвижных объектов (чужого шрифта). Форма письма – вопрос: как писать? – выходит на первый план. Писать каллиграфическим почерком как эстетическое пожелание и запрет: пиши ясно, кратко, не отвлекайся от первоначального замысла, следуй плану, не перегружай текст отступлениями. Не будь избыточен! Каллиграфическая форма предписывает, понуждает, требует. Значение каллиграфии для Достоевского такое же, какое имеют его зарисовки средневековых готических окон, пробы которых мы видим на полях рукописи, – невольный противовес быстроте и спонтанности скорописи. Вероятно, Достоевский пытался удержаться в границах строгой формы письма тем, что расписывал предварительно программу (и даже намечал планирование) сначала как автор-каллиграф. Каллиграфическими упражнениями полны рукописи[31]. С одной стороны, в каллиграфических опытах мы можем найти следы того, что относится к рукописи и плану, но с другой – им отведена самостоятельная роль. Контроль над росчерком, ведь росчерк – уже элемент скорописи, а не медленного и старательного делания, которым отличается каллиграфическое письмо. Противостоять непрерывности и «случайности» планирования следованием идеальному образцу. Каллиграфическая форма должна была упорядочить миметическое неистовство, неорганизованность речевых пульсаций, всех этих размышлений вслух. Минимализм формы должен поглотить избыточную аффектацию мысли. Разнообразие в прописи образцов шрифта дает возможность, переходя от одного образца к другому, обретать психическое равновесие. Все эти тонкости подражания образцам шрифта, которые изучает кн. Мышкин, этот идиот-эстет, бесспорно, следуют психотерапевтической цели. Но не только: эстетическое значение шрифта также велико:
«На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:
„Смиренный игумен Пафнутий руку приложил”.
– Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), – согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые d, а. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг; это законченно; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк, а росчерк – это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него»[32].
Персонаж может быть уравнен с буквой, образцом шрифта. Персонаж-буква, каллиграфический образ, в котором совпадает единство жеста, выразительности и законченности. Этот ложный пафос чистого подражания, как будто открывающийся в рисунках и графике Достоевского, чужд ему как психомиметику, чужд и его письму в целом. И тем не менее способность создавать совершенно канонические образы, «характеры», явно от мима. Кн. Мышкин – тот, кто не сам по себе, всегда-для-другого, он – переписчик и каллиграф, способный совершить психомиметическую трансляцию образов претворенных в мертвую графику букв. Буквы – не движения, а позы, застывшие и хорошо выверенные по повтору кривой определенного жеста. Главное здесь – разрыв между каллиграфическим усердием и передачей содержания миметических отношений. Но собственной формы письма («а ля Пушкин») Достоевскому так и не удалось выработать. По мере вхождения в замысел и разработкой сценария нового романа он переходил на скоропись – на драматизированную синкопированную запись. Неряшливая, поспешная, постоянно себя повторяющая, избыточная. Знаки письма рассеиваются, текст становится криптограммой, которую надо уметь расшифровать. Заметим, что и сам автор не всегда в силах разобраться в собственных записях, во всех перипетиях внезапно изменяющегося плана[33]. С тем же автоматизмом Достоевский отдавался и зарисовке «готики», причем, насколько можно судить, это происходило в момент раздумывания над планом. Повсюду стрельчатые готические арки (окна), часто перед их натиском отступают поля многих листов рукописи.
Но что могли бы означать эти фигуративные знаки? Могут ли они быть переведены на другой язык, получить понятную мотивацию и смысл? Какую роль они играют в процессе составления и выдумывания планов и играют ли? Возможна ли иная интерпретация, чем та, которая была дана в исследованиях Д. С. Лихачева[34] и К. М. Баршдта?[35] Не думаю, что перед глазами Достоевского (во время раздумий) возносились средневековые готические соборы или православные храмы, не думаю, что он бессознательно выразил свое стремление к совершенным образцам искусства. Предположение о том, что такое раздвоение возможно, и именно в момент напряженной работы по поиску наиболее устраивающего замысел плана (действий), представляется маловероятным. Ведь ясно, что ценность готической фигуры, например, не в точности, с какой она передает элементы архитектуры, не в изображении самих окон и арок (заметим, что рисунки с известной монотонностью повторяют друг друга, крайне редко один из них получает хотя бы минимально развитую форму). Тем более мы не найдем нигде изображение хотя бы одного элемента готической соборной архитектуры. Записываются (рисуются) только «окна». Очевидно, что Достоевский не имел больших способностей к рисованию. И «готика» относится скорее не к рисунку, а к упражнениям в каллиграфии и остается наряду с другими орнаментальными образами ближе к психотерапевтическому средствам. Существует ли какая-либо взаимосвязь между доминирующими фигурами: листьями, головами, готическими окнами, каллиграфиями и пр.? Понять – значило бы соотнести скрытые ритмические или семантические фигуры текста, часто повторяющиеся, со случайными следами, оставленными в черновых рукописях. Действительно, если техника «готических окон» целиком каллиграфическая, то рисуночная серия «голов» и «листьев» подчеркнуто использует неясное, плывущее отношение света и тени: белое проступает на темном фоне. Рисуемое лицо не имеет характерных черт, это не лицо, а некий лицевой контур с неясными, лишенными всякой индивидуальности, чертами. Однако есть еще и каллиграфическое письмо, которое то убыстряется, переходя в скоропись, то замедляется, переходя в «готику» медитации. Может быть, рисунки и упражнения в каллиграфии – лишь отвлекающий маневр, чтобы утвердить значение вертикальной фигуры, венчаемой шпилем (пиком, острием). Но так ли это? Да и что это объясняет, даже если мы увидим в «готике» графический образ церебральной проекции, или биполярный вектор идеи, или физиогномику скрытого плана (интриги)? Ведь точка пересечения плавно устремляется вверх… Нельзя ли эту фигуру назвать субъектияем (subjectile)[36], орудием планирования?
Рассмотрим строение этих готических фигур более тщательно. Одна форма, основная, включает в себя другую. Внутренняя полость, образуемая стыком двух кривых, увенчанных острием, заполняется линейными и ажурными элементами. Все подчинено динамике сходящихся линий. Ключевой элемент – пик. И в нем бессознательное влечение наиболее полно себя реализует. Шпиль и кривые, приводящие к острию, обрисовывают начальный облик готического образа. Отношение внешнего и внутреннего здесь вполне устойчиво. Внутреннее имеет возможность разрастаться, делиться в ажурных элементах, тем самым терять ту первоначальную направленность, которая встречается у Достоевского в более простых набросках. Если в рисунках тьма, черное является абсолютным фоном, стирающим границы «голов», то в готической графике значение внешней границы образа чрезвычайно велико, эта внешняя граница включается в себя «затемнение», «черноту», сама же сохраняет ясность и строгость. Можно пойти дальше и предположить, что эти стрельчатые готические окна по своей геометрии дают нам представление о том, чем могло быть (было) идеальное Произведение: это острие несомое, которое становится тем более точно направленным, чем больше элементов укрепляют его конструкцию изнутри, – идеальная структура Произведения.
1867 год: чтобы убыстрить работу над рукописями романов, обещанных издателям к определенному сроку, Достоевский прибегает к помощи стенографии, начинает диктовать[37]. А что такое скоропись? Быстрота записи. Что так нуждается в быстрой записи? К скорописи прибегают все чаще для того, чтобы удержать все усложняющуюся ткань психомиметических отношений, которые начинают сопровождать почти каждое действие персонажа. Вся же письменная работа все больше сводится к составлению подробных планов, планирование становится основной задачей, причем планирование no-дет сильное. Нельзя ли, в таком случае, предположить, что если стадия письма устраняется или приобретает значение простой записи, то устанавливается превосходство голоса над письмом. Диктовать – это не писать. Диктующий лишен непосредственного контакта с письмом. Область возможностей выражения расширяется и больше не искажается правилами письма. При интенсивности речи, ее быстроте, нет необходимости в «четкости», я бы сказал, оптической достоверности образов («картин», «сцен», «персонажей» и т. д.), письмо не в силах вмешаться в речевой поток. Быстрая речь, «мысли вслух», отрицают власть медленных ритмов письма. Достоевский, можно сказать, никогда не писал, поскольку не умел видеть то, что записывает, а только составлял планы действий (персонажей), ожидая развязку событий (связь действий), которые не мог предугадать.
Речь, речевое действие – своего рода антиписьмо. Еще один вид миметизма. Если всякий миметический акт требует для себя отражения, мы же ведь подражаем вольно или невольно тому, чему не можем не подражать («препятствие», «образец», «форма» и т. п.), следовательно, миметическое – это отражение нашей силы подражания, направленной на поиск объекта подражания. Миметическая способность или выискивает свои объекты, или их создает, или их теряет. Миметическое в письме – в частности, психографический портрет пишущего – говорит о том, что на самом первоначальном уровне найдено ритмическое соотношение между телом/рукой и графическим образцом. Нам достаточно одного взгляда, чтобы узнать свою писанину. В письме мы подражаем самим себе, объект подражания и сопротивления один и тот же – наше тело. Но в случае «речи» и «скорописи» несколько иная миметическая активность. Прежде всего, объект подражания избирается, он не дан. Планирование выступает в виде подготовительной работы к психомиметической игре, и само – часть игры. Все, что движется через речь/рассказ, вплоть до ломки синтаксических и грамматических правил, есть dictum. Достоевский диктует, но не подражает голосам героев, не наделяет их речевыми особенностями или «собственным языком», за исключением пародийных приемов, характерных для осознанной стилевой позиции в ранних сочинениях. Везде и повсюду действует один и тот же язык, одна и та же речь, принадлежащая всем и никому, ничем особенно не выделяющая персонажа.
Речь рассказчика строится как сообщение о происходящих событиях, и чем быстрее события («происшествия») сменяют друг друга, тем все более упрощенной, почти репортажной должна выглядеть речь, если она хочет поспеть за ними. Этим иногда и объясняет Достоевский свой отказ от «литературных красот». От сообщения требуется, чтобы оно было прозрачным и отчетливым, чтобы происходящее событие могло быть различимо во всех деталях.
30
Надо заметить, что почерк Достоевского был разборчив. Во всяком случае, наборщики в типографии не жаловались. Да и по беловым рукописям заметно, насколько Достоевский имел осмысленное отношение (вполне каллиграфическое) к собственному письму. (См. например: М.А. Александров. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах. – Достоевский в воспоминаниях современников. С. 213–256.)
31
Федор Достоевский. Тексты и рисунки. М., 1989, С. 136–142.
32
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 8 («Идиот»). Л., 1973, С. 29–30.
33
Важные моменты автопастишей, автомиметизмов развернуты в анализах Ж. Женетта. (См.: G. Genette. Palimpsestes. La litterature au second degre. P., 1982.)
34
Д. С. Лихачев. Литература – реальность – литература. Л., 1984. С. 104–105.
35
Ср.: «Готические рисунки, каллиграфические записи слов-символов эстетического кредо Достоевского и многочисленные „подписи“ и „росчерки“ писателя на страницах черновиков произведения – следы напряженной мысли романиста, созидающего свое, новое слово, отражение постоянно рефлектирующего сознания писателя-философа». (К.М. Баршдт. Достоевский. Комментарии к рисункам – Федор Достоевский. Тексты и рисунки. С. 167.) Это общее замечание мало что проясняет. Ведь следует понять соотношение в черновом варианте этих вторжений, получаем ли мы их значение и можем ли мы учитывать его в конструировании смысловых структур произведения или нет? Отсюда две точки зрения, которые естественным образом противостоят друг другу. Сакрализация Пушкина достигла сегодня заоблачных вершин, даже его «разоблачение», намеренная профанация образа действует в ее пользу. Конечно, сакрализация имени Пушкина началась не сегодня и даже не в 1937 году. Особенно заметны следы современной «сакрализации» в книге Т. Г. Цявловской (Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1980). Основной тезис: рисунки Пушкина столь же гениальны, как его поэзия; тогда в рисунках надо искать ответ на многие вопросы, касающиеся генезиса его образной системы. Пушкин как автоиллюстратор собственных образов и идей. Однако много ранее начинающемуся культу Пушкина активно противостоял Ю. Тынянов, указывая на круг менее известных поэтов пушкинского времени. В рисунках Пушкина он не находил ничего похожего на иллюстративный образ, напротив, рассматривал их как «пробу пера», как чисто моторные образы, спонтанно возникающие, похожие на явление автоматической криптографии. Другими словами, он развел видимое и читаемое (воображаемое) по разным сторонам: то, что мы видим, когда читаем, несводимо, причем ни при каких обстоятельствах, к тому, что мы видим, представляем или воображаем, не читая. (Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., Наука, 1977, С. 314.)
36
Опуская многие тонкости в тексте Ж. Деррида, посвященные анализу рисунков Антонена Арто (признаюсь, не всегда понятные), выделю лишь главную идею. Рисунки Арто могут интерпретироваться благодаря термину subjectile, который можно отнести к авторскому идиолекту (изобретение неологизмов), идиоматическим формам или к словам-чемоданам. Это слово непереводимо ввиду своего двойного строения: оно составляется из субъекта и тактильного качества («subject-tactile», subject-t-ile). Можно говорить об этом слове, как его использует сам Арто, как о слове, обозначающем что-то похожее на особый инструмент типа острого наконечника, дротика, метательного ножа или строительного прибора, который называют отвесом, – проектилем\ так на конце веревки привязан груз по форме снаряда; проектильными также являются пуля, стрела, бомба и т. п. Главный же момент интерпретации Деррида не в толковании, «расшифровке» самого слова, а в том, что в рисунках Арто мы находим точный графический эквивалент. Лист черновика Арто заполнен достаточно странными, я бы сказал, необязательными рисунками, лишь отчасти физиогномически узнаваемыми. Общим для них всех является движение, идущее от скриптора (пишущего) к белой поверхности листа, вертикально-отвесное движение, и все в нем как будто подчинено одной-единственной задаче: пробивать, пронзать, бомбардировать белую поверхность листа, и если на ней нанесены какие-то знаки письма, то и их. Но главное: пробивать. В рукописи доминируют различного вида отверстия, более того, тот же принцип нанесения ударов сохраняется в создании языковых структур, так называемой сюрреалистической зауми Арто. В таком случае чрезмерно напряженные согласные звуки, их непроизносимые отражения в сочетаниях на письме должны взрывать расчлененный и значимый, удобопонятный всем литературный язык. Сближать его с яростью и злобой крика. Иначе говоря, выразительные фрагменты действия subjectile позволяют понять, каким образом формируется поэтика «заумного», бессмысленно звучащего слова. (Р. Thevenin, J. Derrida. Antonin Artaud. Dessins et portraits. Gallimard, 1986, p. 55–57, p. 91–92. (На этот текст в начале 90-х годов мне указал М.Ямпольский).
37
Диктовать систематически Достоевский начал после женитьбы на А. Г. Сниткиной. Благодаря стенографической записи он смог выполнить условия контракта со Стелловским, когда буквально за месяц написал роман «Игрок». Стенография чисто «женское дело», почти как рукоделие (вязание или вышивание гладью), но и искусство, от которого зависят стилистические достоинства литературного текста. Вот, например, одно из писем его близкой родственнице: «Вот что: не хотите яи заняться стенографией, Р Слушайте внимательно, Сонечка, стенография есть искусство высокое, не унижающее ремесло (хотя таковых и нет совсем, по моим идеям), а дающая честь и огромные средства, обладающему искусством. Это искусство свободное, а следственно, женщины находят в нем свою дорогу (пример – Анна Григорьевна, которая, впрочем, далеко не успела усовершенствоваться, но непременно хочет продолжать, приехав в Петербург). Это искусство в лучших представителях своих требует даже очень большого и отчасти специального образования. Вы поймете это: составлять отчеты серьезных заседаний для газет надо человеку очень образованному. Мало передать слово в слово, надо обработать потом литературно, передать дух, смысл, точное слово сказанного и записанного». (Ф. М. Достоевский. Письма 1860–1868. Т. 28, кн. 2, С. 293.)
Понятно, что не стенографическая запись была причиной быстроты письма Достоевского. Всему виной техника планирования, а она рассчитана на передачу содержаний некоего события («о котором и рассказывается»), в то время как запись включает обязательную процедуру контроля над тем, как что-то рассказывается, т. е. достоверность случившегося. Достоевский, насколько это сегодня известно, ничего из своих произведений не переписывал в отличие, например, от Гоголя и Толстого. Скорее он решался отказаться от написанного и создать новую вещь, чем старался добиться большей эстетический ясности и завершенности сочинения. Достоевский пытался добиться такой скорости письма, которая позволила бы реальному событию совпасть с рассказываемым. Отсюда чрезвычайная значимость «обновляющего» планирования. (См.: Б. Н. Капелюш и Ц. М. Пошеманская. Стенографические записи А. Г. Достоевской. – Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т.6, М – Л., 1961.)