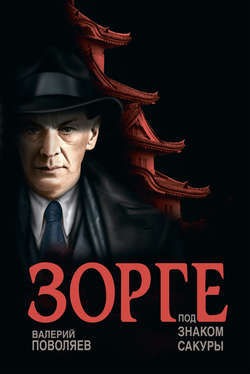Читать книгу Зорге. Под знаком сакуры - Валерий Поволяев - Страница 2
Часть первая
ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ
ОглавлениеДо Токио Зорге добирался сложным путем, дальним, кружным – через Запад, а точнее, через Германию. Берлин за несколько последних лет изменился, конечно, сильно: Зорге, сойдя с поезда на перроне Силезского вокзала Шлезишербанхофф, первым делом обратил внимание, что вокзал не то чтобы выцвел или перекрасился – он стал темнее. И хотя каждая частица, каждая деталь блестели, основательно надраенные, вокзал производил мрачное, какое-то могильное впечатление.
Может быть, могильной мрачности ему добавляли длинные красные полотнища, которые ковровыми дорожками свешивались со стен здания вокзала, каждая дорожка была украшена белым кругом, в котором гнездилась черная свастика. Зорге вспомнил, что читал в какой-то книге: свастика – это символ жизни, бесконечного движения, вечности, придумана была когда-то умными индусами для добрых целей, но сейчас вот – оказалась в руках фашистов. И неизвестно еще, во что они превратят этот знак. Тьфу!
Бросив пыльник – дорогой летний плащ, себе на плечо, Зорге подхватил свой саквояж – добротный кожаный баул, и вышел на привокзальную площадь.
Красных дорожек, висевших на стенах зданий, здесь было еще больше, все стреляли белыми бельмами, украшенными черными колючими зрачками-свастиками. Назойливость этих свастик, их количество вызывали невольный холод, впрочем, холод вскоре прошел и сменился раздражением.
Зорге подавил в себе и раздражение – самое лучшее находиться в спокойном, просчитанном до мелочей состоянии, почти заторможенном, тогда можно управлять собою, как неким механизмом, – ну будто автомобилем (Зорге усмехнулся и вспомнил Чана Кайши, великого китайского автомобилиста, и свою деятельность в клубе, руководимом им), скосил взгляд на диск солнца, возникший в прорехе между облаками, улыбнулся неожиданно беззаботно. Вот жизнь – все время приходится с кем-то воевать, если не с фашистами, то с монархистами, либо с тенями их, с поборниками исламизма, вознамерившимися покорить весь мир, или же с кем-нибудь еще.
До поездки в Китай Зорге, например, не знал совершенно, даже не подозревал, что треть этой великой страны – мусульмане, считал китайцев буддистами (из-за близости к Тибету и Индии, конечно же) и был неправ.
Китай – страна загадочная. Впрочем, Европа – штукенция еще более загадочная, хотя стара, как Древний мир с его могучими зверями, – впрочем, звери эти давным-давно изучены детально – от носа до копчика и обратно, каждая косточка обсосана, саблезубым тигром или звероящером ныне не удивишь даже деревенского пастуха, насквозь пропахшего овечьей мочой.
По-барски щелкнув пальцами, Зорге подозвал к себе такси, – вести себя в этом мире надо именно по-барски, надменно, и только так, другую манеру поведения фашисты вряд ли примут, а если примут, то не поймут.
Таксист поспешно подъехал к Рихарду и выскочил из машины, чтобы открыть багажник.
– Не надо, – остановил его Зорге, – у меня нет с собой багажа. А это, – он приподнял легкий саквояж, – не багаж. Простой баул.
Баул он поставил на заднее сиденье, сверху пристроил пыльник, сам сел рядом с водителем.
– Давайте-ка на Унтер-ден-Линден, – сказал он. Водитель ему не понравился: лощеный, похожий на обер-фельдфебеля Миллера, столь памятного по фронту, с такой же наглой физиономией, украшенной усиками, с тусклым оловянным значком (фашистским, естественно), пришпиленным к форменной куртке.
Унтер-ден-Линден – Улица под липами – считалась украшением Берлина, и это было справедливо, – красивее Унтер-ден-Линден в Берлине не было ничего, может быть, только площадь около рейхстага, да и то вряд ли, – ни одна улица, ни одна площадь не могли соревноваться с ней. Здесь же находились самые дорогие отели и самые модные магазины.
Отель для Зорге был заказан. Едва он разместился в номере, как раздался телефонный звонок. Звонила женщина. Разговор был короткий. Ясно было, что дама ошиблась номером, но и нескольких коротких фраз было достаточно, чтобы узнать, куда Зорге должен был явиться завтра в двенадцать часов дня… Женщина, мило извинившись – с кем не бывает, все мы хоть раз в жизни ошибаемся, – повесила трубку. Зорге открыл окно.
Воздух здесь, на Унтер-ден-Линден, действительно пахнул липовым цветом – тягучим, сладким, кружащим голову; на каштанах, которых также было много на этой улице, кое-где слабым сиреневым светом горели высокие прямые свечки – цветы, их было мало, но запах их добавлял в густой, студенисто подрагивающий воздух свое – неповторимую горчину, которую Зорге любил. Он вообще любил берлинские каштаны. Особенно в пору цветения. Впрочем, он не был оригинален.
На столе лежала газета – единственная в номере, больше газет не было – «Ангрифф». На первой полосе был помещен портрет Гитлера: канцлер встречается с немецкими промышленниками. Текст почти ничего не говорил: сухие бесстрастные строки – этакая словесная маскировка, шелуха, прикрывающая содержание разговора. Впрочем, прикрывала шелуха разговор очень надежно. Рихард многое бы дал, чтобы узнать, о чем конкретно шла речь на этой встрече.
«Ангрифф» – газета нацистская, все события рассматривала только с одного угла обзора – Адольфа Гитлера, и если что-то оказывалось не так, корректировала эти события. В общем, делала все, чтобы Адольф пришел к власти. И он пришел: на выборах в марте тридцать третьего года набрал семнадцать миллионов голосов. Каким образом набрал, какими средствами – об этом говорили мало (а ведь и подлоги имели место, и мордобой, и угрозы, и даже убийства – по части беспредела коричневые рубашки Адольфа не знали себе равных; правда, об этом больше молчали, чем говорили). Ближайшие соперники Гитлера коммунисты набрали в три раза меньше голосов, заняли в рейхстаге довольно прочное положение, но буквально через пару недель депутаты от компартии были арестованы, несмотря на пресловутую депутатскую неприкосновенность, которая действительно оказалась пресловутой, точнее – липовой, а их мандаты были демонстративно разорваны. Германия даже вздрогнула от неожиданности. Но к выходкам Гитлера привыкла быстро.
Тем более что он пообещал немцам сытую жизнь.
– Для того чтобы выполнить это обещание, мне надо развязать руки, – сказал Гитлер на одном из обедов в том же промозглом марте тридцать третьего года, поднял бокал с шампанским и предложил за это выпить.
Присутствующие, всё понимая и поглядывая на Гитлера с любовью, выпили. Двадцать третьего марта рейхстаг принял закон о наделении Адольфа чрезвычайными полномочиями.
В общем, с того все и началось…
Впрочем, берлинцы не очень-то верили будущему фюреру – им был хорошо ведом дух баррикад.
Побрившись и освежившись хорошим французским одеколоном, сменив костюм, Зорге вышел на улицу. Первым делом купил в киоске несколько изданий – с «Ангриффом» все было понятно, эту газету можно было больше не покупать, – взял «Берлинер тагеблатт», «Франкфуртер цайтунг», журнал «Цайтшрифт фюр геополитик», к которому он присматривался уже давно, «Дойче цайтунг» – это были более спокойные издания, чем «Ангрифф», и им Рихард верил больше.
Тон статей в них действительно был иным, особенно в «Берлинер тагеблатт». Впрочем, тон любого издания мгновенно становился иным, как только кресло главного редактора занимал другой человек.
На следующий день, как и было условлено, Зорге встретился со связником. Связник был знаком – дважды встречались в кабинете у Берзина, держался он раскованно, по-светски непринужденно, галстук был проколот золотой булавкой, украшенной свастикой – для маскировки, чтобы почтительно козыряли часто встречающиеся на улице штурмовики – такие золотые знаки носили только партийные бонзы. Связник передал Рихарду письмо, подписанное крупным чином из канцелярии Гитлера.
– С этим письмом срочно отправляйтесь во Франкфурт-на-Майне – чем раньше, тем лучше, – сказал связник. – В Берлине очень неспокойно.
Рихарду и самому не нравилась обстановка в Берлине – тут было не то чтобы беспокойно или опасно, тут было душно; он хорошо помнил этот город девятнадцатого года, свой собственный арест на перроне Берлинского вокзала – столичные шуцманы выследили его и препроводили в кутузку, из которой был только один выход – к стенке, где производили расстрелы. Но Берлин в девятнадцатом году был не тот, что, скажем, в году восемнадцатом, когда кайзер Вильгельм Второй бежал за границу – Рихарда освободили. Помогли берлинские друзья. Препроводил Рихарда на вокзал усиленный полицейский конвой.
Кстати, именно в девятнадцатом году Рихард стал членом Коммунистической партии Германии. Членский билет за номером 08678 он получал здесь, в Берлине. Сама компартия к этой поре уже полгода находилась в подполье.
Встреча со связником происходила в довольно шумном и многолюдном заведении под названием «Баварская пивная» – когда вокруг много людей, то и затеряться легче, и уйти от ищеек проще. Рихард оглядел огромный зал – здесь находилось не менее сотни человек. За отдельным столом, недалеко от них, сидели полицейские – пять шуцманов в черной форме, пили пиво и ели сосиски. Присутствие полицейских нисколько не встревожило связника.
Что обрадовало Рихарда, так это рекомендательное письмо, которое он только что получил, письмо было адресовано главному редактору «Франкфуртер цайтунг» – газеты, которую Зорге хорошо знал и в которую иногда посылал материалы из Шанхая, газета охотно печатала их, так что найти общий язык с изданием ему будет нетрудно.
– Газета тесно связана с концерном «Фарбениндустри», защищает его интересы; изредка бьет тяжелым молотом по коммунистам, отличается некой буржуазной чопорностью, но все-таки не впадает в такие крайности, как «Ангрифф», – проговорил связник и неожиданно произнес «постороннюю» фразу: – Вы обратили внимание, что ныне в Берлине очень поздно цветут каштаны?
Зорге понял, что со спины к ним приближается человек, связник его видит, а Рихард нет.
– Да, – сказал Зорге, – я даже хочу написать специальную статью о каштанах Берлина, это интересная тема.
– Чего изволите? – раздался просквоженный голос над головой Рихарда. Это был официант. – Простите, что не мог так долго подойти к вам – слишком много посетителей.
– Ничего страшного, – связник успокаивающе махнул рукой, – принесите нам по паре кружек холодного баварского пива и копченые сосиски с капустой. – Пояснил Рихарду: – Это фирменное здешнее блюдо. Нигде в Берлине так вкусно не готовят копченые сосиски с тушеной капустой. – Махнул рукой официанту: – Быстрее! Одна нога здесь, другая там.
Официант исчез, Рихард перестал ощущать его спиной.
– Говорят, на газету «Франкфуртер цайтунг» имеет особые виды сам Геббельс – он собирается превратить ее в издание, способное влиять на умы интеллигенции. Гитлеру очень важно приручить интеллигенцию, сделать ее карманной, и эту задачу он поручил Геббельсу.
– Скажите, а имела эта газета когда-нибудь собственных корреспондентов в Москве?
– Никогда не имела. Для этого нужны большие деньги, а «Фарбениндустри» не очень-то любит раскошеливаться – это раз, и два – для Москвы эта газета мелковата. Даже если она пошлет в Россию своего корреспондента, Наркоминдел может его не аккредитовать, и это хорошо понимают и в Берлине, и во Франкфурте… Так что, дорогой друг, неожиданная встреча, которой вы опасаетесь, исключена совершенно.
– Все, вопрос снят, – сказал Зорге.
Связник кивнул, потом щелкнул ногтем по золотой заколке, украшенной фашистским значком.
– Вам надо подумать о вступлении в национал-социалистическую партию… Хотя это непросто. – Связник вновь несколько раз стукнул ногтем по золотой заколке.
– Надо, – согласился с ним Зорге, – только я пока не знаю, с какого боку к этому можно подступиться.
– Коричневые рубашки имеют досье на всех членов компартии – им удалось захватить архивы полиции, которые составлял сам Зеверинг, в этом архиве есть и ваше дело, Рихард, это совершенно точно. При вступлении в партию они обязательно извлекут дело…
– Выкрасть его нельзя?
– Исключено.
– Тогда что посоветуете делать?
– Вступить в партию, находясь в Японии. Это будет проще. И куда менее опасно. Раз в шесть, Рихард.
На следующий день Зорге выехал во Франкфурт. Обстановка в этом городе была проще, сердечнее, чем в Берлине, дышалось тут легче, коричневые рубашки встречались реже.
В конце дня Зорге появился в кабинете главного редактора «Франкфуртер цайтунг» – грустного плотного господина в дорогих роговых очках.
– Я читал все ваши статьи, господин Зорге, – сказал главный редактор, – это очень интересные материалы… Готов печатать вас и впредь, готов предоставить свою аккредитацию в Токио, но… Вот тут есть одно «но».
– Какое же? – недоуменно поинтересовался Зорге.
– Все кадровые вопросы ныне решает партийный комиссар, приставленный к газете.
Зорге ощутил, как внутри у него что-то тревожно сжалось, он невольно насторожился – о комиссарах связник ничего не сказал. На лице же его ничего не отразилось, по-прежнему сияла доброжелательная улыбка, хотя через несколько мгновений появилось новое выражение – этакая легкая высокомерность.
– И давно введен этот новый порядок, господин главный редактор? – спросил он построжевшим голосом – Рихард продолжал вести свою игру, выхода у него не было.
– Три дня назад. Берлин потребовал это в обязательном порядке, и мы вынуждены были подчиниться, – проговорил главный редактор виноватым тоном. – Ну что, пойдем к партийному комиссару?
– Пошли. – Зорге сожалеюще кашлянул и поднялся из мягкого кресла, в которое его усадил главный редактор.
Кабинет комиссара находился на этом же этаже, в другом конце коридора, застеленного длинной бежевой дорожкой, и был больше, солиднее кабинета главного редактора и обставлен был богаче.
За огромным столом размером не менее футбольного поля сидел тщедушный большеухий человек с прыщавым лицом, щучьим прикусом узкого рта и бесцветными глазами.
Прежде чем войти в кабинет партийного комиссара, главный редактор робко стукнул костяшками пальцев в дверь один раз, другой, дождался, когда хозяин кабинета ответит и лишь потом удовлетворенно кивнул: начальство разрешило…
При виде Зорге комиссар приподнял одну бровь и презрительно оттопырил нижнюю губу.
Зорге невозмутимо осмотрелся, потом глянул в лицо партийного босса газеты и произнес громко:
– А ты, старый пердун, неплохо, однако, устроился…
Главный редактор, не ожидавший такой фамильярности от человека, который собирался представлять интересы газеты на международной арене, но еще не получил на это «добро», даже съежился невольно, под очками, в выемках глаз, у него замерцал испуганный пот. Комиссар подтянул нижнюю губу, водворил на место бровь и удивленно воззрился на Зорге: таких речей в этом кабинете еще никто себе не позволял…
– И, судя по размерам кабинета, ты трескаешь уже не овсяную кашу, сваренную на воде, которую мы с тобою жрали на фронте во Фландрии, а питаешься форелью, копченым французским сыром, провансальской ветчиной, марокканскими сардинами, египетскими авокадо и свежайшими свиными отбивными, привозимыми из самого «Чрева Парижа». А, старый доходяга Юрген?
Комиссар поспешно, обеими руками замахал на главного редактора, выгоняя его из кабинета: пшел отсюда, пшел! – и главный редактор, вспотев еще больше, поклонился шутовски, будто находился на костюмированном балу, и проворно выкатился за дверь.
– Э-э-э, – обеспокоенно заблеял комиссар, он не мог врубиться в ситуацию, не понимал, что за посетитель появился у него в кабинете, чего ему надо и вообще что происходит, – э-э-э.
– Не блей, не блей, Юрген, тебе это не идет.
– Вы кто? – наконец выдавил из себя комиссар. – Что-то я не пойму…
Зорге оглянулся на дверь – закрыл ли ее главный редактор? Дверь была закрыта.
– А ты чего, забыл уже? Старая жопа, кто тебя, истекающего кровью, выволок с поля боя на Ипре?
Комиссар ойкнул, как ребенок, и стремительно выкатился из-за огромного письменного стола, обежал Рихарда кругом, остановился перед ним, лицом к лицу.
– Значит, говоришь, я – старая жопа? – произнес он бесцветным голосом. Такой голос мог означать что угодно.
– Совершенно верно.
– Это ты – старая жопа, Зорге… Я правильно говорю?
– Правильно, Зорге – это я.
Тут комиссар раскинул руки в стороны, обнял Рихарда. Макушкой он не доставал Зорге даже до подбородка, да и руками своими не мог обхватить широкую спину.
– Зорге, – расслабленным тоном пробормотал партийный комиссар, – я тебя вспоминал… Много раз вспоминал. Однажды даже пробовал искать, но ничего из этого не вышло. – Он откинулся от Зорге, виновато развел руки в стороны. – Извини Юргена Шильке. – Юрген по-щучьи захлопал губами. Выглядел он, конечно, смешно, но Зорге даже улыбаться не думал, не то чтобы смеяться, стукнул партийного комиссара ладонью по плечу:
– Давай не будем сегодня о делах, ладно? Лучше поедем в какой-нибудь ресторан – желательно хороший. Поужинаем, вспомним прошлое, друзей, фронт.
– Вспомним, как ты меня тащил по полю к насыпи, а я, кажется, здорово пищал – ранен ведь был в первый раз, больно было…
– При ранении во второй раз бывает еще больнее. – Зорге хмыкнул. Партийный комиссар задрал конец рукава, глянул на модные квадратные часики – дамские, – украшавшие его запястье.
– А почему бы и не поужинать? Действительно, – он ногтем стукнул по стеклу часиков, – рабочий день на исходе, время позволяет расслабиться. Я знаю одно хорошее местечко, там тебе понравится. Поехали?
– Поехали!
– Там дивно готовят рыбу по-франкфуртски и копченую свинину на аргентинских решетках, – сообщил Юрген, запирая на ключ свой огромный письменный стол.
– А что такое аргентинские решетки и чем они, допустим, отличаются от решеток испанских? – спросил Зорге.
– Ничем. Как я понял, это обычный гриль.
Зорге понимающе наклонил голову. Он пытался вспомнить детали своего пребывания во Фландрии, какую-нибудь бравую историю, но в голову ничего не приходило – пусто было в черепушке, да и самого новобранца Юргена он помнил слабо. Хотя, едва он увидел газетного «партайгеноссе», память услужливо преподнесла ему вырванный откуда-то из душных глубин времени испуганный лик прыщавого мальчишки в глубокой, как кастрюля, каске, натянутой на самый нос, и его имя…
– Машина у тебя есть? – спросил он у Юргена, когда они вышли из здания редакции и окунулись в теплый городской вечер. Высоко в небе летали ласточки.
– Нет, – смущенно пробормотал Юрген, – партия экономит деньги, поэтому мы обязаны пользоваться общественным транспортом.
– Общественный транспорт не для фронтовиков, Юрген, – назидательно произнес Зорге, – особенно тех, которые собираются вспомнить прошлое. – Он поднял руку, помахал ею в воздухе: – Такси!
Через несколько мгновений около них затормозила машина, Рихард распахнул переднюю дверь:
– Прошу, Юрген! Или ты, как большой начальник, предпочитаешь заднее сиденье?
– В нашей партии все равны, – высокомерно произнес Юрген Шильке.
– Тогда сиди впереди, – велел Зорге и уселся на широкое заднее сиденье.
«Хорошее местечко» действительно оказалось хорошим – это был ресторан, расположившийся на берегу голубого уютного озерца, ровную гладь которого бороздили две пары гордых черноклювых лебедей, птиц спокойных и независимых. Посреди озера, поставленные на специальные плотики, красовались деревянные избушки – лебединые домики. Птицы далеко от них не отплывали, ровно бы сторожили, хотя домики были похожи на собачьи конуры.
Комиссара Шильке здесь знали и провели к столику, расположенному в самом удобном месте – на веранде, вынесенной прямо на воду; мелкие волны со звонким шлепаньем подкатывались под настил, веселили слух. Тут и прохладно было, и поговорить можно было без опасения, что кто-нибудь подслушает или внесет сумятицу в беседу своими замечаниями.
– А зачем тебе, Рихард, ехать в какую-то неведомую Японию, когда можно остаться в Германии? – Комиссар Шильке недоуменно наморщил лоб. – В Германии скоро будет не просто хорошо, а очень хорошо, вот только избавимся окончательно от разных Энштейнов и Цвейгов, слишком уж они дурят головы и всем нам, и нашей интеллигенции – тоже всей…
Зорге ощутил, что внутри у него появилось что-то брезгливое – вчера в газете «Ангрифф» он прочитал письмо великого физика Альберта Эйнштейна, направленное германскому посланнику в Брюсселе, где физик отказывался от германского гражданства.
Партайгеноссе Юрген даже исказил фамилию физика, сделал это специально – назвал Эйнштейна Энштейном, более того – поднажав голосом, подчеркнул искажение.
– У всех народов интеллигенция всегда отличалась продажностью, исключений, увы, нет. Ни в Англии, ни во Франции, ни у нас в Германии: наша интеллигенция такая же продажная, как и все остальные, – громко заявил Зорге.
Шильке прикусил зубами нижнюю губу и отрицательно помотал головой.
– Это не немецкая интеллигенция, Рихард, – еврейская.
– Не берусь спорить с тобой, Юрген, – Зорге в успокаивающем движении положил руку на плечо комиссара, – да и не моя это тема. Что скажет наш вождь, то я и буду делать.
Партайгеноссе мигом успокоился, широко растянул в улыбке рот, губы у него стали тонкими, как две гибкие красные бечевки.
– Оставайся во Франкфурте, Рихард, – сказал он, – не отказывайся, а! Прошу тебя. Мы тут славно поработаем вдвоем. Ты даже не представляешь, как славно мы поработаем.
Рихард со вздохом развел руки в стороны.
– Может, чуть позже это и произойдет, а сейчас не могу, Юрген. Ты знаешь, кроме журналистики я занимаюсь наукой. Тема моих научных исследований – Япония. Сменить тему я не могу, тем более, Япония – верная союзница Германии.
– Но после Японии ты же можешь вернуться в Германию, – воскликнул Юрген заведенно, в голосе его послышались горячие нотки, – такие люди нужны рейху.
– Естественно, могу вернуться, – понимающе отозвался Зорге, для убедительности придавил рукою воздух, будто кипу бумаг, – и я это сделаю обязательно.
– Вот тогда мы с тобою и развернемся. – Юрген поплевал на ладони, понюхал их – чем пахнут? – Правда, меня во Франкфурте уже не будет, я скоро перееду работать в Берлин.
Набрались они в тот вечер основательно – все-таки однополчане, а у однополчан всегда найдется много общих тем для разговора, – и выпили много, и съели много, и собрались уже покидать понравившуюся ресторацию, как за соседним столиком нарисовались две соблазнительные девицы. Юрген немедленно сделал на них стойку, у него даже прыщи на физиономии стали огненно-алыми, будто по ним прошли кисточкой с карминной краской.
– Рихард, – заплетающимся языком проговорил он, – а по-моему, эти ссыкухи нам сейчас очень бы здорово подошли. А?
– Нет ничего проще. Можем взять их с собой.
– А куда? – недоуменным тоном пробормотал партайгеноссе. – Куда повезем? В редакцию?
– А спать где будем, Юрген? А? Ты на своем столе, поскольку он огромный, как аэродром, я на столе главного редактора, да?
Юрген поднял указательный палец, отрицательно поводил им туда-сюда…
– Не-а!
– Тогда поедем ко мне в отель.
– Отель – годится. – Партайгеноссе пьяно похрюкал в кулак, на красных губах его появилась слюна: Юрген Шильке любил сладкое.
Через десять минут они уже сидели в автомобиле – Зорге, Шильке, две девушки, – и по опустевшей улице неслись в центр города, в отель, где в роскошном двухкомнатном номере поселился Рихард.
Места в таком номере хватало всем, можно было разместить еще две компании и хором улечься на ковры, ну а хорошего шампанского, как и старого душистого рейнвейна, было хоть залейся в ресторане, расположенном на первом этаже отеля, чем Зорге не замедлил воспользоваться. Он оплачивал веселье всей компании – всей!
Утром партийный комиссар газеты «Франкфуртер цайтунг» Юрген Шильке, распространяя вокруг себя густое алкогольное амбре, вручил Рихарду хрустящую бумагу, сложенную вдвое, украшенную крупной красной печатью.
– Что это? – небрежно поинтересовался Зорге.
– Письмо в Берлин, в канцелярию рейхсминистра Йозефа Геббельса.
– Зачем? – Деланое недоумение возникло в глазах Зорге и тут же исчезло, он все понимал очень хорошо, благожелательно кивнул: – Это очень правильно – все должно находиться под контролем партии.
– Все немецкие журналисты, аккредитованные за рубежом, проходят утверждение у доктора Геббельса. Лично!
Зорге положил письмо в карман, глянул на циферблат наручных часов:
– Пора подкрепиться в каком-нибудь ресторанчике, Юрген.
Юрген также глянул на свои часики и прищурил один глаз, будто смотрел в прицел винтовки. Потом прикрыл второй глаз и произнес согласно:
– Пора.
– Куда поедем?
– Туда, где подают самый вкусный в Германии рейнвейн, его здесь называют золотым.
– О-о, занятно, занятно! Вперед, в атаку на рейнвейн.
– На берегу Майна есть один дивный ресторанчик, я его давно облюбовал, – Шильке с хрустом повернул ключ в столе, сунул в карман, – но хожу, к сожалению, нечасто – денег не хватает…
– Пусть это тебя не беспокоит, Юрген.
– Неудобно все-таки.
– Между однополчанами не может быть неудобств, – голос Рихарда сделался жестким, в него словно бы стремительно натек и тут же отвердел металл, – мы ходим в одних штанах: мои деньги – твои деньги, Юрген.
– Спасибо, – проникновенно произнес партайгеноссе, – я твой всегдашний должник, еще с фронта, – он протянул Рихарду руку, – ты всегда можешь рассчитывать на меня. В любой ситуации.
Они отправились в ресторан на берег Майна: день нынешний должен был стать продолжением дня вчерашнего.
Через два дня Рихард Зорге выехал из Франкфурта в Берлин на скоростном поезде – поезд этот был последним достижением германской технической мысли, – в мягком, ритмично покачивающемся на ходу вагоне. Здесь даже назойливый стук колес, обычно застревающий в ушах как минимум на два дня, был иным, не таким цепким и изматывающе противным.
Только те люди, которые много времени проводят в поездах, могут воспринимать этот звук, способный расколоть любую, даже очень крепкую голову.
По дороге Рихард размышлял о том, что же он скажет деятелям из канцелярии рейхсминистра, если речь зайдет о его прошлом? Скроет, что дрался на баррикадах Берлина, чистил физиономии полицейским так, что только оторванные усы вместе с фуражками летали по воздуху?
А если доки из проверочного ведомства Министерства пропаганды заглянут в его личное дело? – Связник ведь сказал, что всю картотеку коммунистической партии прибрали к своим рукам коричневые рубашки… Значит, это на беседе с Геббельсом скрывать нельзя.
Придется заявить, что участие в баррикадных боях было обычным заблуждением, ошибкой молодости… А кто не делает в молодости ошибок?
Зорге всмотрелся в пейзаж, проносящийся за окнами вагона. Довольно живой, веселый, неестественный какой-то, с кудрявыми, словно бы игрушечными деревьями, ядовито-зелеными, залитыми солнцем лужайками, с невесомыми взболтками облаков, напоминающими мыльную пену… Как все-таки этот пейзаж не похож на российский! Хотя и деревья те же, и воздух, и земля, и зеленеющая трава, на которой пасутся мордастые буренки – все то же, но… Зорге почувствовал, как в горле у него неожиданно возник твердый комок, а на затылок словно бы кто-то положил горячую потную руку, стиснул пальцы…
Российская природа нравилась ему все больше, наверное, всему причина – время: чем дольше не видит он Россию, тем сильнее его тянет к ней. Лицо Зорге было бесстрастным, ничего не отражалось на нем, глаза были спокойны и сосредоточенны. Как вести себя, если его захочет видеть сам Геббельс?
Конечно, у всесильного министра полно и других дел, но всякое может быть. Хотя ежу понятно, как говорят русские, – к Геббельсу лучше не ходить, может быть, даже специально выждать, когда его не будет в Берлине: Геббельс – человек подвижной, как обезьяна, на одном месте не сидит… Скорее всего, так и надо поступить, это раз. А два…
Два – надо бы договориться еще с какой-нибудь газетой, стать и ее корреспондентом в Японии. Не обязательно штатным, можно внештатным.
В общем, как бы там ни было, придется на несколько дней задержаться в Берлине. Хотя этого очень не хотелось.
Берлин был мрачным. В Берлине жгли книги – сразу в нескольких местах, и сизый легкий дым скручивался в пахучие жгуты, щекотал ноздри, выдавливал из глаз слезы. Нацисты, не в силах добраться до авторов, живущих в других странах, уничтожали их творения.
Коричневых рубашек в Берлине стало, кажется, больше, чем наблюдалось в прошлый раз, – куда ни кинь взгляд, всюду эти рубашки, перетянутые ремнями портупей. На поясах болтаются дубинки. Пистолеты имелись только у старших штурмовиков – очень крепких задастых дядьков с литыми затылками. Вели себя штурмовики нагло, особенно дядьки.
На глазах у Зорге один такой дядек вырвал из рук седого интеллигента книгу, которую тот читал – дело происходило на автобусной остановке, – резким жестом подозвал к себе колченогую садовую машиненку, медленно двигавшуюся по обочине тротуара…
– Сюда, камрад! – проорал он горласто, будто попугай, и когда машиненка, тарахтя слабым мотоциклетным мотором, подъехала, швырнул книжку в кузов.
– Как вы… как вы смеете… – пролепетал испуганный интеллигент, взмахнул немощно рукой, но дядек обрезал его, накрыл интеллигенту лицо своей короткопалой широкой лапой.
– На будущее знай, чего можно читать, а чего нет. Понял?
– Это же Шекспир! Великий драматург!
– Еврей он кривозадый, а не великий драматург, – раздраженно воскликнул старшой. – Книги таких драматургов подлежат уничтожению. – Место им – в костре!
– Да вы… вы… – интеллигент задохнулся, голос его увял до писка, – да вы…
– Я! – штурмовик подтвердил, что он – это он, вновь припечатал физиономию интеллигента ладонью. – Хочешь пойти в костер вместе со своим Шекспиром? А, кривоголовый?
Интеллигент опустил руки: перспектива гореть на костре вместе с любимыми книгами его не устраивала.
Садовая машиненка поехала дальше, старшой, оправив на себе рубашку, сшитую из грубой коричневой ткани, презрительно покосился на интеллигента и также проследовал дальше.
Картина, типичная для Германии той поры… У Зорге она вызвала внутреннюю боль, схожую с ожогом. Он мог предположить что угодно, любой иной путь для Германии, но лишь не этот.
Сжигали книги не только англичанина Шекспира, но и великих немцев – своих же.
Один из таких костров – большой, сложенный из целой горы книг, поднявшейся на уровень памятника Вильгельму Первому, плотно вросшему широким задом в седло и продавившему спину коня, – заполыхал на знаменитой площади Оперы, собрал он не менее тысячи человек, словно бы им не хватило в Берлине тепла, и все они пришли сюда погреться. И лица у этих людей были такие порядочные, такие одухотворенные, с ясным светом надежности в глазах, что Зорге сделалось страшно. Он развернулся и медленными шагами побрел с площади Оперы прочь.
Через два дня Геббельс покинул Берлин – ему предстояло принять участие в правительственных переговорах с Италией и «коллегами», живущими там, если, конечно, можно было назвать так истеричных чернорубашечников дуче, наделенных коровьими мозгами, к ним рейхсминистр относился с легким презрением, – Зорге сообщили о визите Геббельса в Рим, и он засобирался в Министерство пропаганды.
Все прошло без сучка и задоринки, на удивление гладко: через час Зорге вышел из здания министерства с аккредитационным удостоверением в кармане.
В тот же день, уже в конце, во время запланированного сеанса связи с Центром Зорге запросил добро на отъезд из Германии – он вполне обоснованно боялся, что попадет здесь под колпак – в любую минуту мог столкнуться с кем-нибудь, кто знал и помнил его по прошлым годам, по Килю, Гамбургу, Аахену, тому же Франкфурту-на-Майне, из которого Зорге вернулся благополучно… А мог бы и не вернуться, старые кадровые полицейские этого города хорошо знают его. «При большом оживлении, которое существует в здешних краях, интерес к моей личности может стать чересчур интенсивным», – написал Зорге в шифровке.
Москва, понимая, в каком напряжении находится руководитель группы, которой предстоит работать в Японии, дала добро: пусть Рамзай (новый оперативный псевдоним Зорге) покидает Берлин – «чересчур интенсивный интерес» к нему надо было гасить.
Но выехать из Германии сразу, по горячим следам, не удалось – предстояло еще появиться на ужине, который будет дан в честь нового зарубежного корреспондента: такой порядок завела служба Геббельса, а Федерация журналистов рейха строго за этим следила. Час от часу не легче, но уклоняться от «желудочного порядка» рейхсминистра было нельзя, иначе он навлечет на себя подозрение.
Ужины эти обычно проводили в Палате печати при большом стечении народа, в том числе руководителей газет и иностранных корреспондентов, не стало исключением и это дежурное, в общем-то, мероприятие. Зорге потом признался себе, что шел на ужин с сосущим чувством тревоги, он что-то ощущал, что-то должно было произойти, – причем неожиданно, но что именно, не ведал и вычислить не мог.
По спокойному внешнему виду Рихарда трудно было понять, о чем он думает, и вообще понять что-либо – на лице ни тревоги, ни внутреннего смятения, ни даже слабенькой тени озабоченности не было, Зорге прекрасно владел собою. Надо было ждать. И не подавать вида, что внутри что-то есть.
Все объяснилось просто. На ужине, начало которого отодвинулось на целых сорок минут, неожиданно появились эсэсовцы, они возникли словно бы из ничего, поднялись из-под земли, встали в конвойное каре около дверей. Зал мигом затих, присутствующие вытянулись, будто отставные офицеры, увидевшие генерала.
Было слышно, как где-то за окнами, в кронах деревьев, кричат кем-то вспугнутые птицы.
Через несколько минут в зале появились несколько важных персон, лица их Зорге знал по публикациям портретов в газетах: низенький, с живыми темными глазами, смахивающий на мумию, доктор Геббельс, следом – огромный верзила, которому имперский министр едва доставал до подбородка, Эрнст Боле – заведующий иностранным отделом в гитлеровской партии и одновременно государственный секретарь МИДа, человек, с которым старались заигрывать все послы, аккредитованные в Берлине – все без исключения, даже строптивый советский посланник, и тот становился в терпеливо ожидающий рядок, желающих одного – пожать руку «длинному Эрнсту», замыкал свиту Геббельса Функ – начальник отдела прессы имперского правительства.
Геббельс уселся в кресло с выражением нетерпения на лице, поднял хрустальный бокал, официант стремительно подскочил к нему с бутылкой французского шампанского наперевес, наполнил бокал, Геббельс с ходу, без паузы, начал говорить.
– Мы собрались на дружеский ужин, чтобы проводить в Японию нашего талантливого коллегу доктора Зорге. Уверен, он достойно будет представлять в дружественной нам стране восходящего солнца великую Германию. За будущие успехи доктора Зорге, за кропотливую, очень нужную всем нам работу, которую будет проводить он, сближая наши страны, Германию и Японию. Прозит!
Присутствующие дружно рявкнули:
– Прозит!
У Зорге отлегло на душе – он не ожидал, что провожать его будет столь высокое гитлеровское начальство: надо же, какой уровень доверия! Он усмехнулся про себя.
Как бы там ни было, старт по меркам коричневых рубашек получился очень высоким. 30 июля 1933 года Зорге сообщил в Москву следующее: «Я не могу утверждать, что поставленная мною цель достигнута на все сто процентов, но большего просто невозможно было сделать, а оставаться здесь дольше для того, чтобы добиться еще других газетных представительств, было бы бессмысленно. Так или иначе надо попробовать, надо взяться за дело. Мне опротивело пребывать в роли праздношатающегося. Пока что могу лишь сказать, что предпосылки для будущей работы более или менее созданы. Рамзай».
Зорге сумел за эти дни создать толстый представительский пакет: получил аккредитацию не только от «Франкфуртер цайтунг», а и от «Берлинер берзенцайтунг», считавшейся самой влиятельной биржевой газетой в столице рейха Берлине, – более толкового издания по части денег и бирж в Берлине не было, от редакции «Теглихе рундшау» и – самое главное – от журнала «Цайтшрифт фюр геополитик».
Главный редактор этого журнала Карл Хаусхофер – генерал, профессор, ярый приверженец Гитлера, был одержим идеей вселенского нацизма.
– Германия превыше всего, – орал он на каждом редакционном заседании, – в конце концов мы добьемся своего: рейх будет править всем миром.
Такой человек тоже дал аккредитационное письмо Рихарду Зорге, велел присылать из Токио «убедительные материалы, рассказывающие о росте нацизма в Азии и на Дальнем Востоке». Именно это письмо сыграло едва ли не самую значительную роль в укреплении положения Зорге в большой немецкой колонии, проживавшей в Токио.
Знал бы генерал Хаузхофер, кому вручил свою вверительную грамоту, половину бумаг в своем кабинете проглотил бы вместе с чернильницами и ручками.
Вскоре пришла новая шифровка из Москвы: Центр давал Рихарду второе добро на отъезд, Зорге удовлетворенно улыбнулся – завтра же он отбудет из Берлина, задерживаться здесь нельзя.
Вечером, сидя в ресторане, он прочитал небольшой материал в «Фелькишер беобахтер» о визите министра народного хозяйства рейха Гугенберга на всемирную экономическую конференцию в Лондон. Министр этот был, конечно же, не один – на конференцию с ним приехали советники, идеологические прилипалы и, естественно, обычные прихлебатели, люди, которых бывает около всякого министра не меньше, чем мух подле кучи навоза, – окружение немедленно подсадило Гугенберга на трибуну, с которой тот не замедлил произнести воинственную речь. Текст министр читал по бумажке.
Два постулата из речи Гугенберга потрясли собравшихся. Первый – «Германии должны быть возвращены ее колонии в Африке». Второй – «Территории СССР и Восточной Европы должны быть доступными для колонизации с тем, чтобы на этих землях энергичная германская раса могла осуществлять великие мирные предприятия и применять великие достижения мира».
Странно, почему никто из присутствующих не швырнул в министра Гугенберга пару тухлых яиц или хотя бы не выплеснул в физиономию чашку кофе. Но этого не было, наоборот – министру аплодировали. Выходит, Европа согласна с тем, что предлагает этот «порядочный немец».
Оркестр тем временем заиграл печальную, хватающую за душу мелодию, на маленькую эстраду выдвинулся аккордеонист – невысокий, седой, с крепкими загорелыми руками, проворно пробежался пальцами по черно-белым планкам клавиатуры, похожим на длинные, хорошо ухоженные зубы, аккордеон послушно отозвался на бег пальцев горькими звуками, в просторном зале ресторана словно бы что-то дрогнуло, в пространстве произошло невидимое смещение, но хоть смещение это и невидимым было, а очень хорошо ощущалось. Зорге невольно задержал дыхание.
Только Всевышний знал, как сложится дальнейшая жизнь Зорге, больше никто, ни один человек – ни в Москве, ни в Берлине, ни в Токио, – но может случиться так, что он никогда больше не вернется в этот город, не увидит того, что видит сейчас.
В висках у Рихарда что-то защемило, голова сделалась тяжелой. Оркестр доиграл мелодию до конца, сидевшие в зале люди устроили овацию аккордеонисту, тот грустно улыбнулся в ответ, проехался пальцами по клавишам аккордеона, как по длинным планкам рояля, потом прихлопнул ладонью меха.
Через мгновение этот стареющий человек запел, и в ресторане словно бы теплее сделалось, уютнее – он умел петь так, что менялся даже воздух.
Хороший был тот вечер – последний вечер, проведенный в Берлине тридцать третьего года…
Но разлука, в какой бы колер ни была окрашена, всегда имеет один цвет – печальный.
Самый короткий путь в Японию лежал, конечно же, через Россию – по Транссибу в мягком вагоне скорого поезда во Владивосток, оттуда – пароходом в один из японских портов, – скорее всего, в Йокогаму, а из Йокогамы – прямая дорога в Токио. Но этот путь обязательно вызвал бы подозрение у японцев и у немцев – людей, которые побывали в Советском Союзе, обязательно брали под колпак. Хотя бы на короткое время, но брали: такой человек непременно должен пройти проверку, и пока какой-нибудь ответственный чиновник не поставит фиолетовый штамп, свидетельствующий о благонадежности, глаз с проверяемого не спускали.
Другой путь – длинный, их, собственно, много – можно двигаться через Атлантику, с заездом в Канаду или в Штаты, через Индийский океан по маршруту печально известной эскадры вице-адмирала Рожественского, были и другие дороги, тоже морские, но все они съедали уйму времени.
Берзин, отправлявший Зорге, принял решение: надо идти длинным, кружным путем, так будет вернее, безопаснее. Берзин вздохнул и, словно бы утверждая это решение окончательно, наклонил тяжелую крупную голову, украшенную седеющим, словно бы присыпанном солью бобриком:
– Береженого Бог бережет.
Тяжелым было прощание с Катей. Та улыбалась, произносила какие-то слова, потом из горла у нее вдруг вырвался сдавленный взрыд, забивал речь, дыхание, перекрывал что-то внутри, а на глазах появлялись слезы. У Зорге боль стискивала сердце, он прижимал к себе Катину голову:
– Ну что ты, Катюш, что ты! Я же вернусь, я вернусь. А потом, возможно, дело образуется так, что в следующий раз ты поедешь со мной. Не плачь, Катюша. – Он платком промокал ее глаза, но слезы возникали вновь. Зорге ощущал, что и у него самого внутри скапливаются слезы, собираются в озерцо, и это озерцо вот-вот прольется… Но мужчина на то и мужчина, чтобы не плакать, – плакать было нельзя. И Рихард держался, хотя глотку ему все сильнее и сильнее забивали слезы. Собственные слезы, не чьи-нибудь.
Из Москвы он выехал в Одессу, из Одессы морем – в Марсель (знакомый путь, по нему он уже ходил), из Марселя на огромном, будто город, лайнере отплыл в Америку. В Европе стало модным плавать на таких гигантах, океанский лайнер бывает велик и самостоятелен, словно современное государство: на нем и власть своя есть, и суд, и законы, и жизнь, и министерство иностранных дел собственное имеется, и банк – все свое, автономное, иногда ни на что не похожее, земным правилам не подчиняющееся.
Остановка в Нью-Йорке была обязательна, Зорге там предстояло провести сложную операцию – ему во что бы то ни стало надо было получить новый паспорт – старый-де он утратил во время долгого океанского перехода…
Поселился Рихард в престижном отеле на Пятой авеню, отдал прислуге два своих костюма, их нужно было тщательно отутюжить, свести на нет все заломы, складки, убрать примятости и фальшивый неприятный блеск, остающийся после долго сидения в креслах, отдал и сорочки, которые требовали стирки.
Погода в Нью-Йорке стояла душная, жара не только выдавливала из людей последнюю влагу – она стискивала глотки и мешала дышать, ходить можно было только в легчайших теннисках – рубашках, не имеющих рукавов, и, конечно, было бы полным безумием облачаться в такую пору в костюм, но выхода не было: завтра утром Зорге заявится в германское консульство, где на человека, который будет его принимать, надо было произвести впечатление… Зорге тщательно обдумал разговор с консулом.
В консульстве он предъявил свое корреспондентское удостоверение, выданное в Берлине, и произнес просто и тихо, с виноватыми нотками в голосе:
– Со мной произошла беда – у меня исчез паспорт.
Консул – стареющий дородный человек с лохматыми бровями, из-под которых водянисто проблескивали два холодных колючих зрачка, нагнал на лоб частую лесенку морщин:
– Где это произошло и при каких обстоятельствах?
– На пароходе. Думаю, что паспортом могли заинтересоваться несколько человек – стюарды, которые обслуживали мою каюту, трое американцев, которые постоянно приглашали меня играть с ними в покер…
– Обыграли?
– Они? Нет, – эхом отозвался Зорге и недоуменно приподнял одно плечо, – мозгов для этого дела у них оказалось маловато, – он снова приподнял одно плечо, – среди них был профессор, с которым я разошелся во взглядах на нашего любимого фюрера, и мы повздорили.
– Американец?
– Профессор? Да. Но живет он, по-моему, в Мексике, – Зорге развел руки в стороны, – в общем, чувствую я себя без паспорта хуже некуда.
– Все – иностранцы, – проговорил консул про себя, недовольно сморщился, словно бы на зубы ему попала щепоть песка, – все…
– Что? – сделал непонимающее лицо Зорге.
– Все иностранцы, говорю, ни одного немца, не у кого спросить…
– Вы мне не верите? – голос Зорге дрогнул.
– Да как сказать. – Чиновник скривился кисло. – В общем, мне надо запрашивать Берлин.
– У меня совершенно нет времени, чтобы ждать ответа на запрос, господин консул, мне надо как можно быстрее оказаться в Токио – у меня на руках целый ряд ответственнейших поручений, даденных мне в Берлине. Чтобы их выполнить, нужно много времени.
– Что за поручения?
– Об этом я, к сожалению, не имею права говорить, господин консул. – Зорге вытащил из кармана кожаную книжицу. – Вот мое корреспондентское удостоверение, подписанное лично доктором Геббельсом. – Он передал удостоверение консулу. Тот с недоверчивым интересом раскрыл его, внимательно прочитал, недоверие, возникшее было в глазах, погасло, уступив место почтению. – Кроме того, вот рекомендательное письмо одного из руководителей Министерства иностранных дел рейха послу в Токио. – Зорге вытащил из кармана конверт с хорошо известной консулу мидовской печатью. В таких конвертах в Нью-Йорк приходили письма из Берлина, подписанные самим министром либо кем-то из его заместителей или советников, но никак не ниже… Начальники отделов присылали свои ценные советы совсем в других конвертах.
Чиновник заколебался: доводы Зорге в виде кожаной книжицы и письма, подписанного большим берлинским чином, возымели действие – старый бюрократ попятился, заерзал задом обеспокоенно: а вдруг ему надают за негибкость оплеух либо того хуже – приложат к его заду подошву? Синяк ведь останется на все последующие годы.
Лицо его сделалось растерянным, каким-то жалким, Зорге даже усмехнулся про себя: не должен чиновник иметь такое лицо ни при каких обстоятельствах. Даже если его заразят какой-нибудь неприличной болезнью. Наконец консул сломленно махнул рукой:
– Хорошо, я оформлю вам новый паспорт. В конце концов, вы – гражданин великой Германии! Мы – страна с большой буквы.
Зорге вновь немо, про себя, усмехнулся: «Павиана этого старого неплохо бы прозвать “Мы – страна с большой буквы”, очень уж он похож на сантехника, обслуживающего общественные туалеты у Бранденбургских ворот».
Консул нажал на кнопку, прилаженную к боковине письменного стола, – вызывал к себе помощника…
Через два часа Зорге вышел из здания консульства с новым паспортом в кармане.
Это было очень важно – иметь свежую, нигде не засвеченную, не потревоженную разными штампами паспортину. Зорге был доволен.
Вечером он выехал поездом в Вашингтон – надо было побывать у японского посла, передать ему одно из писем, полученных в Берлине и, если повезет, взять рекомендательное послание в Токио – оно никогда не помешает…
Обустраиваться в Токио надо было основательно.
В столице Японии Рихарда Зорге уже семь месяцев ждал Бранко Вукелич – он приехал в Токио в феврале тридцать третьего года. Здесь также находился радист, включенный Берзиным в группу Рамзая – Бернхард.
Вукелич представлял в Токио известный парижский журнал «Вю», югославскую газету «Политика», а также французское информационное агентство «Гавас», он знал, что разведгруппу должен будет возглавить «человек из Москвы», но кто именно, не ведал совершенно. А интересоваться, спрашивать, кто же появится на горизонте, кого конкретно принесет из советской столицы, в разведке не было принято.
Отец Бранко Вукелича был полковником Королевской армии Югославии, мать тоже была дамой приметной – принадлежала к древнему аристократическому роду.
Сын полковника и известной аристократки одно время учился в Академии художеств, потом – в Высшей технической школе, сумел хорошо познать и искусство, и технику, принимал участие в студенческих волнениях, однажды даже попал в тюрьму. Когда на родине стало нечем дышать, уехал за кордон, учился в Брно, через год переместился во Францию и стал студентом Сорбонны. В Париже он женился на очень красивой девушке, устроился работать на высокооплачиваемую должность в Электрическую компанию. Говорят, что сам граф де ля Рок, глава компании, покровительствовал ему.
Затем Вукелич занялся фотографией и настолько увлекся новым делом, что через некоторое время выступил с богатым фоторепортажем в иллюстрированном журнале «Вю». Друзья аплодировали Бранко:
– Браво!
Он в ответ только улыбался. Молчал и улыбался. Затем был еще один репортаж, потом еще, а потом редакция «Вю» решила выпустить номер, посвященный Дальнему Востоку. Вукелич выступил в этом номере не только с роскошными фотоснимками, но и как пишущий человек, и все признали, что у него неплохое, острое перо, он сумел о тривиальных вещах рассказать нетривиально и ярко, его статьями о Японии парижане просто зачитывались. До дыр замусоливали.
Более того, статьи его стали появляться в Белграде, в газете «Политика», затем – в других изданиях. Друзья, хорошо знавшие его, восхищенно разводили руки в стороны:
– Ну, Бранко, ну, молодец! Кто бы мог ожидать таких выдающихся успехов от рядового революционера-студента, максимум на что способного – воткнуть десяток кнопок в стул главного белградского полицейского. А сейчас смотрите, что он делает – может запросто переплюнуть любого писаку, имеющего европейское имя…
Вукелич, слыша такие отзывы, обычно молчал, он вообще предпочитал больше молчать, чем говорить, – научился этому.
Недаром считается, что молчание золото, а хорошее меткое слово – всего лишь серебро.
Имелось у Бранко еще одно достоинство: кроме своего родного языка он знал также французский, английский, немецкий, испанский, итальянский, японский, венгерский и другие языки.
И последнее. Никто в мире, кроме четырех человек (а это, согласитесь, очень мало), не знал, что французский подданный Бранко Вукелич работает в Четвертом управлении Красной армии, иначе говоря, в советской разведке, является ее штатным сотрудником.
В Токио Вукелич первым делом начал наводить мосты – он знакомился с иностранными корреспондентами, ужинал с ними, ходил в гости к новым знакомым, подобрал себе неплохую квартиру в центре Токио, связался с радистом Бернхардом, помог обустроиться и ему.
Бернхард был неплохим парнем с улыбчивым добрым лицом и крупными руками молотобойца, с неспешной походкой, медлительной речью – он вообще по натуре своей был очень медлительным, Вукелич иногда отпускал в его адрес колючие шпильки: «Бернхард, друг, у тебя шея длиннее, чем у жирафа: слишком долго доходят до головы разные толковые мысли, пока доползут, успевают остыть». Бернхард на такие подковырки не обижался.
Передатчик, который он соорудил, был громоздкий, как одежный шкаф, едкий скрип разве что не издавал только, работал слабенько, не всегда у него хватало сил, чтобы дотянуться даже до Владивостока, не говоря уже о Москве. Но другого передатчика у Бернхарда не было и приходилось работать на этом.
При всем том Бернхард считался очень храбрым парнем. Впрочем, это вызывало у Зорге недоумение: конечно, храбрость – дело нужное, но он командует не ротой, готовящейся ринуться в атаку и перекусить врагу горло, а разведгруппой, вот ведь как. В разведке же ценятся совсем иные качества – аналитические способности, сообразительность, быстрая реакция, умение в считаные секунды найти единственно верное решение, талант перевоплощения и так далее; храбрость, конечно, тоже ценится, но не дуроломная, когда нахрапом берут окопы и зубами ловят пули, а храбрость умная, просчитанная, выверенная не только собственными ощущениями, сердцем и головой, но и сердцами других людей. Лучше было бы, если б Бернхард был просто хорошим радистом и не более того…
Но пока было то, что было, работать нужно было с тем радистом, которого прислала Москва.
Токио невозможно было сравнить с каким-либо другим городом, японская столица была шумной, озабоченной и очень зеленой, здесь, кажется, круглый год цвели деревья, кустарники, клумбы, грядки, газоны, полянки, искусственные горки, в парках и скверах совершенно не было сухотья, ни травы, ни кустов, на всех подоконниках стояли фаянсовые горшки и крынки с цветами, кастрюльки, банки, кюветки, бадейки, украшенные драконами, глиняные горшки здесь устанавливали прямо на асфальт – отовсюду высовывались яркие пахучие метелки, бутоны, гроздья, шары, колосья, ветки, украшенные пятилистниками, семилистниками, звездочками, нежными колокольчиками, сережками, почками, стрелками, над цветами беззвучно порхали неестественно красивые бабочки и дневные мотыльки, жужжали пчелы, шмели… Ни пчел, ни шмелей, ни мотыльков в большом городе, переполненном машинами, быть просто не должно, но они были, приспосабливались к местной жизни, размножались, жили…
В городе было много новых зданий – ничто не напоминало о разрушительном землетрясении, происшедшем здесь десять лет назад, – а тогда японская столица была похожа на огромную кучу мусора, завалилась тогда, превратившись в ничто, половина города – ровно половина. Погибли сто пятьдесят с лишним тысяч человек, более полутора миллионов пострадали.
Сейчас о том страшном землетрясении уже ничто не напоминает, только свежие венки в местах, где погибло особенно много людей.
Вечера в Токио были печальными, фиолетовыми, рождали в душе неясную тоску. Зорге нехорошо удивлялся этой тоске – раньше с ним такого не бывало.
Он много ходил по Токио. Есть одна старая истина – всякий новый город невозможно познать из окна машины или через открытую дверь трамвая, все сольется в одну смазанную картину, совершенно лишенную деталей, познать незнакомый город можно только ногами. Вот Зорге и начал совершать регулярные пешие прогулки.
Каждое утро он выходил из дверей отеля «Тэйкоку», известного на всю Азию своими дорогими номерами и чванливой прислугой, и направлялся к нулевой точке, от которой в Японии велся отсчет – императорскому дворцу Эдо. От этого дворца (точнее, от колонны, установленной подле моста, переброшенного через глубокий тихий канал, защищающий дворец с трех сторон, – величественная колонна эта была украшена боевым трезубцем и тремя фонарями) вообще шел отсчет всем дорогам и всем расстояниям в Японии. Впрочем, не только в Японии, но и во всем мире – так решили японцы. А какой японец не мечтал стать повелителем Вселенной? Да и нынешние жители островов не отказались бы от этого почетного титула, ни один из них… Ну, может быть, отказался бы какой-нибудь нищий рыбак с Окинавы или измотанный работой голозадый плотник с острова Хоккайдо, – и кто знает, может, в будущем Япония покорит весь мир – если не мечами и натиском самураев, то своей техникой, приспособлениями, установленными везде, даже в мусорных ведрах и тюремных парашах, своей финансовой системой и умением объединяться перед лицом беды.
От королевского дворца Эдо, полюбовавшись сытыми лебедями, плавающими в воде рва, обогнув красочную башню, украшенную двухъярусной крышей, углы которой были диковинно загнуты вверх, Зорге шел по одному из намеченных направлений – например, в район Маруноуци. Это – на восток от дворца, через череду ровных чистых кварталов.
Маруноуци – деловой центр не только Токио, но и всей Японии. Именно тут сильные мира сего дергали ниточки, заставляли подниматься в полный рост целые промышленные компании, причем такие могучие, как «Симотомо» и «Мицуи», – впрочем, точно так же они заставляли их опускаться и задирать вверх лытки. В сложных механизмах этих хитроумных процессов Рихарду Зорге предстояло разобраться, понять, куда какая ниточка ведет и кто конкретно ее дергает – ведь от манипуляций, совершаемых в Маруноуци, зависело, какое оружие получит армия и какая доктрина возьмет верх в ближайшие годы – оборонительная или наступательная.
Японская армия была очень сильной, многие страны считали: с нею лучше не связываться, но, как говорится, у страха глаза велики, и если бы пара держав объединилась – например, Штаты с кем-нибудь, – вряд ли Япония устояла бы, спрятала бы свои знамена в надежных местах. Зорге предстояло пристально следить за всеми изменениями, происходящими в японской армии, и секретнейшую информацию эту регулярно передавать в Москву (кодовое название «Мюнхен»). Генерал Араки, очень увлекающийся бряцаньем, готов был стучать саблей по чему угодно, даже по голове собственного императора, лишь бы это было слышно, – захлебываясь слюной, вещал:
– Японский народ стоит выше всех иных народов на земле. Мы заявляем всему миру, что мы – нация милитаристов!
Вот так, ни много ни мало. И – совершенно открыто.
Не будь в районе Маруноуци больших денег, вряд ли генерал стал бы так себя распалять – он скорее проглотил бы собственный язык…
Идеи генерала Араки разделяли не более десяти процентов японцев – в основном те, кто носил военную форму, плюс немногочисленная прослойка крикунов, близких к армии. Остальные же не очень-то и желали, чтобы японский народ был выше всех других народов в мире.
В Маруноуци Зорге побывал несколько раз, прочесал район (он вспомнил хорошее русское выражение «прочесал» и невольно рассмеялся) вдоль и поперек, даже заходил в громоздкий представительский офис концерна «Мицубиси» – интересно было… Знакомых в Маруноуци – никого, ни одного человека. Но это временно, пройдет пара месяцев, и у него здесь обязательно появятся знакомые.
Район Канда, где сохранилось много старых домов, – их пощадило землетрясение, – был самым начитанным районом Токио, тут длинными цветастыми рядами теснились книжные магазины, магазинов этих были сотни, если не десятки сотен, каждый искусно оформлен, каждый украшен искусными графическими полотнами, способными остановить любого впечатлительного человека, заколдовать его, здесь витал дух многих японских божеств и прежде всего – матери всех богов Аматэрасу…
Аматэрасу японцы-синтоисты называли великим сияющим божеством неба и низко кланялись ей. Император Японии считался прямым потомком этой капризной богини.
А богиня действительно была дамочкой с норовом. Как-то она надула губы на какого-то бога, обидевшего ее неосторожным словом, и решила больше не показываться на небосклоне. Ночь наступила. Темная, беззвездная, тоскливая. Холодно сделалось.
И так пробовали выманить богиню из глухой пещеры, и этак – ничего из этой затеи не получалось. Приуныли боги, приуныли люди… Но безвыходных положений, как известно, не бывает. Один из богов, самый шебутной и веселый, нарядился получше, выпил, закусил, взял с собою несколько музыкантов и отправился к Аматэрасу.
Там, перед пустым входом в пещеру, устроил громкое танцевальное представление. Капризничавшей богине стало интересно, что же за шум раздается перед ее жилищем, что за музыка звучит, и она выглянула наружу…
Тут на нее боги и навалились всем скопом, хлопнулись на колени, подползли поближе, чтобы поцеловать подол ее платья, уговаривать начали:
– Останься, солнцеликая Аматэрасу, на небе!
Аматэрасу подумала-подумала и осталась.
А танец, который исполнял перед ее пещерой веселый бог, стал любимым танцем японского народа.
Торговым центром Токио, в котором часто любили появляться европейские дамочки, по праву считалась Серебряная улица. Гиндза. Здесь запросто можно было оставить целое состояние не только человеку среднего достатка, но и миллионеру.
Недаром в «клубе богатых людей», каковым считался пресс-центр, расположенный в здании агентства «Домей Цусин» (это было самое современное здание в Токио, в квартале Ниси-Гиндза), бродила следующая американизированная побасенка:
– Может ли женщина сделать мужчину миллионером?
– Может, если он миллиардер.
Женщины, часто появляющиеся в магазинах Серебряной улицы, запросто могли провести эту операцию и оставить миллиардера, извините, без штанов. Некоторые знатоки сравнивали эту улицу с нью-йоркским Бродвеем – здесь кроме магазинов было немало театров, казино, танцзалов, просто увеселительных точек. Впрочем, в Асакусе – другом токийском районе – увеселительных точек было больше. А вот дорогих магазинов – меньше.
Токио надо было познать как можно быстрее – хотя бы для того, чтобы в нужный момент выскользнуть из-под колпака «кемпетай» (за каждым иностранцем, приехавшим в Японию, обязательно следовал сотрудник «кемпетай» – специальной полиции). Зорге сразу же, едва сошел на берег с борта лайнера «Куин Элизабет» в Йокогаме, обнаружил за собой слежку; отнесся он к ней спокойно, поскольку знал: хвост из сотрудников «кемпетай» будет сопровождать его до самого отъезда из Японии, даже если отъезд этот состоится не раньше, чем через двадцать лет. Таковы были законы игрового поля, на которое он ступил.
Хоть и имелся в группе Зорге радист, хоть и был верный помощник Бранко Вукелич, а группу еще надо было создавать, лепить ее, как лепят из бесформенного куска глины изящную фигурку – слишком много имелось пустот, незаполненных ячеек, которые надо было обязательно заполнить.
В голову все чаще и чаще приходило имя Ходзуми Одзаки: и рассуждать этот человек умел неординарно, и писал интересно, и весом в обществе обладал немалым, – было бы очень здорово привлечь Ходзуми к работе группы.
С момента расставания в Шанхае прошло почти три года – срок немалый. За это время старый друг мог здорово измениться, и совершенно точно, что это произошло – и сам Зорге изменился, а главное – изменился мир. Очень уж много утекло воды…
Зорге попробовал навести справки, где сейчас находится Ходзуми Одзаки. Навел. Оказывается, Ходзуми вернулся из Китая в Японию, написал несколько книг, которые придали еще больший вес его имени и помогли занять видное положение в Токио, но в Токио он появлялся очень редко, продолжал работать в редакции газеты «Осака Асахи симбун», хотя статьи его распечатывались по всей Японии, появлялись даже в газетах отдаленной Окинавы.
…В тот дождливый день Зорге пришел в пресс-клуб рано – было время обеда, отряхнул зонт и сдал его гардеробщику.
– Душно сегодня, господин Зорге, – сказал гардеробщик: Рихарда он уже знал по фамилии и обращался к нему очень почтительно, – но пройдет несколько дней и в Токио наступит жара.
– Лишь бы не мороз, – засмеялся Зорге, взял в руки журнал, выставленный на рекламной полке, находящейся рядом с гардеробом, и, мельком глянув на обложку, развернул его. Это был журнал «Современная Япония», издававшийся на английском языке. Перелистал и неожиданно наткнулся на знакомое имя – попал точно на ту страницу, где начиналась статья Ходзуми Одзаки; статья была посвящена экономике, написана хлестко, и Зорге не удержался – углубился в чтение.
– Рихард, если у вас нет этого журнала, я подарю вам его, – раздался за спиной Зорге знакомый голос.
Рихард закрыл журнал и стремительно обернулся. Перед ним стоял Ходзуми. Он был все такой же, как и три года назад, не изменился совсем – невысокий, плотный, словно был сбит из одних только мускулов, с насмешливым и одновременно строгим взглядом – Зорге знал, что Одзаки смеяться и тем более подначивать, подковыривать кого-то насмешками не любил, всегда был серьезен…
– Ходзуми, – Рихард неверяще покачал головой, – мне хочется протереть глаза: вы ли это?
– Я.
Зорге шагнул к нему, обнял.
– Господи, как давно мы не виделись с вами, – пробормотал он неожиданно растроганно, ощутил, как внутри у него что-то потеплело, в следующее мгновение он увидел человека с настороженными глазами, который возник словно бы из ничего и теперь стоял рядом с гардеробщиком и колюче поглядывал на Рихарда, пояснил ему: – Мы несколько лет проработали вместе в Китае, а это, знаете, многого стоит… Ходзуми, приглашаю вас на чашку хорошего крепкого кофе.
– Не откажусь.
Они прошли в бар, сели в дальнем углу за небольшой чистый столик, накрытый двумя тростниковыми салфетками, Зорге заказал два крепких кофе, два рисовых пирожных и две стопки старого французского коньяка.
– Надо ли? – попробовал воспротивиться коньячному заказу Ходзуми.
– Надо. Мы не виделись три года. А за три года, бывает, исчезают не то чтобы люди – исчезают целые цивилизации.
– Одна стопка такого коньяка стоит целое состояние.
– А подо что же, Ходзуми, ветераны должны вспоминать свое прошлое? Под воду из городского крана?
Ходзуми неловко приподнял одно плечо – он всегда приподнимал одно плечо, когда чувствовал себя смущенно.
– Действительно, коньяк в токийском водопроводе не течет.
– Ваше здоровье, Ходзуми! – Зорге звонко чокнулся своей стопкой со стопкой японского журналиста, стоявшей на столике. – Поднимайте, поднимайте свою посудину, Ходзуми. Коньяк хоть и не прокисает, но когда его долго не берут в руки – портится.
Наконец Ходзуми взял стопку, улыбнулся застенчиво, тихо – у него была своя улыбка, ни на чью иную улыбку не похожая, и вообще Ходзуми Одзаки не был ни на кого похож, – покрутив стопку в пальцах, он произнес вполголоса:
– Прозит, Рихард!
Интересно, как Ходзуми отнесется к тому, что Зорге стал нацистским журналистом, что намерен вступить в гитлеровскую партию (не объяснишь же Ходзуми, что этого требует Москва), и вообще перед ним стоит задача занять в здешней немецкой колонии лидирующее положение. Вдруг это оттолкнет Ходзуми от Зорге?
Нужно все проговорить, просчитать и вообще встретиться в обстановке, где за ними не следили бы цепкие глаза сотрудников «кемпетай».
Ходзуми приехал в Токио на несколько дней по приглашению газеты «Асахи симбун», задумавшей создать общество по изучению восточно-азиатских проблем. Для этого решили провести специальную конференцию. Одзаки играл в ней очень видную роль, более того, ему прочили в будущем обществе место одного из руководителей.
Когда Зорге узнал об этом, то поздравил Ходзуми Одзаки.
– Это решение не окончательное, – ушел от поздравлений Ходзуми.
Встреча Зорге и Ходзуми Одзаки состоялась. С глазу на глаз, без соглядатаев. В разговоре были расставлены все точки над «i». Ходзуми Одзаки продолжал не только симпатизировать Советскому Союзу, более того – хотел жить в нем. Кроме того, он сообщил, что Япония готовится обострить отношения с Россией, старательно укрепляет свой плацдарм в Маньчжурии, чтобы с этой залитой качественным бетоном, который не берут артиллерийские снаряды, земли, плотно ощетинившейся орудийными стволами, творить разные козни против СССР.
– Когда после захвата Японией Маньчжурии нашего министра иностранных дел Уциду выдернули на ковер в Лигу Наций, он заявил, с презрением глядя на членов Лиги: «Японская миссия на земле – руководить миром. До свиданья, господа!» – и хлопнул дверью. Такие вот цветочки, Рихард…
– А после цветочков последовали ягодки, – эхом отозвался Зорге, сжал глаза, будто в лицо ему ветер сыпанул пыли и песка, губы у него сожалеюще дрогнули. – В результате Япония вышла из Лиги наций и теперь вооружается с курьерской скоростью.
– Не за горами стычки на советской границе, – сказал Ходзуми, – руки-то развязаны. Маньчжоу-Го ныне походит на большую строительную площадку. Военные спешно возводят дороги – боеприпасы надо ведь подвозить, строят аэродромы, казармы, раздувают Квантунскую армию, составляют топографические карты. Воздух переполнен запахами войны.
– Да-а, – протянул Зорге тихо, – чем пахнет война, я знаю хорошо, наглотался в свое время до тошноты. Отрава. Очень неплохо бы, Ходзуми, найти подходы к правительственной канцелярии, к аппарату премьер-министра, тогда бы мы точно разобрались во всех хитросплетениях нынешней политики.
– Это очень трудно. Вершину власти охраняют отвесные ледовые поля, по которым без специального оборудования не пройти, полно глубоких трещин, свирепых снежных барсов, обрывов, отрицательных стенок и много чего еще, где запросто можно оставить голову.
– И все-таки, Ходзуми, это нужно. Очень.
– Я далек от этого, Рихард, но мой университетский товарищ Фумико Кадзами работает первым секретарем в аппарате у принца Коноэ. А принц Коноэ, кстати, очень близок к императору, – скоро станет премьер-министром Японии. Думаю, тогда можно будет решить этот вопрос.
– Неплохо бы стать своим человеком в окружении принца Коноэ, – задумчиво произнес Зорге.
– Неплохо бы, – согласно проговорил Ходзуми Одзаки и замолчал – погрузился в свои мысли.
Вскоре Зорге передал в «Мюнхен» следующую радиограмму: «Связался с Одзаки и после основательной проверки опять решил привлечь его к работе. Это очень верный, умный человек. Занимает видное положение в крупной газете, имеет широкий круг знакомств».
Через некоторое время Одзаки переехал в Токио, возглавил исследовательский центр при редакции газеты «Асахи симбун». Центр этот, занимавшийся исследованием дальневосточных проблем и прежде всего японских, получил доступ к правительственным бумагам.
Поскольку Китай был краеугольным камнем Дальнего Востока и его взаимоотношения с Японией определяли обстановку в огромном регионе, а Ходзуми считался лучшим на островах экспертом по Поднебесной, то восемьдесят процентов всех правительственных циркуляров попадали прежде всего в его руки. От него – к Зорге.
Зорге сверял их с бумагами, к которым имел доступ в германском посольстве, анализировал, готовые выкладки, анализы отправлял в Центр.
Работа шла, Москва была довольна Рамзаем.
Более того – была довольна не только Москва. Рихарда Зорге неожиданно вызвали к послу Герберту Дирксену. Про этого человека Зорге знал, что он очень богат, владеет землями и роскошным поместьем недалеко от Берлина, имеет связи в окружении фюрера, и хотя Гитлер произвел опустошительную чистку в аппарате Министерства иностранных дел, Дирксен сумел сохранить свой высокий пост. Сотни других профессиональных дипломатов этот пост сохранить не сумели. Почему же у Дирксена это получилось – при откровенной игре в одни ворота, – а у других нет?
Может, потому, что Дирксен до Токио работал в Москве и там сумел сделать что-то нужное для Гитлера?
Этого не знал никто. Не знал, наверное, и Гитлер.
Что бы означал вызов к Дирксену? Внутри у Зорге возникла и тут же угасла тревога: проколоться Рамзай не мог, это было исключено совершенно. Может, что-то засекла полиция «кемпетай»? И это вряд ли. Может, послу чем-то не понравились материалы, под которыми стояла фамилия Зорге? Тут уж ничего не поделаешь… Вкусы посла Дирксена Рихард Зорге, к сожалению, не знал.
Что же произошло? Может, всплыло что-то из его прошлого, и Берлин потребовал от посла, чтобы тот немедленно выслал Рихарда из Токио в Германию? Зорге усмехнулся недобро – в таком разе не позавидуешь ни послу, ни ему самому.
Ладно… Для начала надо встретиться с Дирксеном, узнать, чем заинтересовала высокого дипломата личность скромного корреспондента «Франкфуртер цайтунг», а уж потом делать выводы.
Дирксен находился в кабинете один. Увидев Зорге, поздоровался и тут же сделал успокаивающий жест рукой:
– Пусть вас не удивляет этот вызов, доктор Зорге. Я решил пригласить к себе по одному всех немецких корреспондентов, аккредитованных в Токио, – хочу переговорить с ними… Что же касается вас, доктор Зорге, то мне нравится, как вы пишете, как вообще преподносите свои материалы, нравится ваш аналитический ум – вы не уклоняетесь от самого трудного, что есть в вашей профессии, – от анализа и выводов, вы очень точно определили себе главного противника – большевизм.
На лице Зорге не дрогнул ни один мускул.
– Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, ноги мы ему подрубим, и завалится эта туша за милую душу, только осколки по земле покатятся. Япония в этой борьбе – наш верный союзник. Фюрер призывает рассказывать о союзниках умную правду, и тут, доктор Зорге, я очень рассчитываю на ваше талантливое перо.
Зорге не выдержал, поклонился. С Дирксеном все было понятно. Понятно, почему оставили в дырявом хозяйстве Министерства иностранных дел рейха.
– Что же касается Советского Союза, то мы совместными усилиями раскромсаем этот жирный пирог, – сказал в заключение Дирксен, небрежно вскинул руку: – Хайль Гитлер!
– Зиг хайль! – ответно произнес Зорге и также вскинул руку. Аудиенция была окончена.
Вышел из здания посольства Зорге в неком смятении. То, что Дирксен вызвал его первым из всех немецких корреспондентов, – это хорошо, это плюс на будущее, но то, что он услышал от посла о Японии, – это плохо. Ясно, что Германия стремится создать ось Берлин – Токио и объединить силы в один кулак… Это надо было немедленно передать в «Мюнхен»: в Москве Рихард уже слышал от Берзина такие предположения.
Но то были лишь предположения, сейчас они становятся явью.
Мир, похоже, начинает окончательно катиться под откос. Любая война, даже малая, может перевернуть земной шарик вверх ногами, и он, шарик этот, казавшийся таким огромным, тяжелым, незыблемым, на деле весит не больше пустого куриного яйца: ткни в него пальцем – рассыпется на обычные невесомые скорлупки.
Ночью в Центр ушло сообщение, подписанное коротким выразительным псевдонимом «Рамзай».
Работать с Бернхардом становилось все труднее – его громоздкий передатчик, который надо было возить на грузовике, часто ломался, заниматься починкой радист не любил, негодовал, хныкал. Зорге только морщился, глядя на Бернхарда, но не произносил ни единого упрека. Лишь вспоминал Макса Клаузена. Тот был полной противоположностью Бернхарду – всегда сам искал работу, у Бернхарда было все наоборот: работа искала его.
Жаловаться в Москву не хотелось, Зорге вообще не любил жаловаться, считал это доносительством, не признавал также ни заявлений, ни бумажных просьб, прочей словесной ерундистики, а с другой стороны, ведь и его терпению когда-нибудь придет конец: один сорванный сеанс Центр еще проглотит, и второй сорванный сеанс проглотит, – но уже с трудом, – а вот после третьего сорванного сеанса связи придется подставлять спину для наказания.
В общем, надо было ехать в Москву, решать вопрос с радистом. И не только с ним: группу надо было пополнять. На этот счет у Зорге был кое-кто на примете. В общем, в Москву! Тем более оттуда поступила свежая весть: Берзина переводили на новую должность, он теперь будет находиться недалеко от Японии, во Владивостоке или в Хабаровске: Ян Карлович стал заместителем командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Командующим же был легендарный Блюхер.
На место Берзина пришел Семен Петрович Урицкий. Большевик. Воевал в Первую мировую, воевал в Гражданскую, награжден двумя орденами Красного Знамени. В петлицах у него, как и у Берзина, три ромба – комкор. Отлично знает языки: немецкий, французский, польский. Командовал дивизией, корпусом, Московской пехотной школой. В разведку пришел из Автобронетанкового управления Красной армии, где занимал приметную должность – был заместителем начальника управления. С разведкой знаком не понаслышке: несколько лет провел за рубежом на нелегальной работе.
Все это – на слуху, известно было всем, кто работал в Четвертом управлении РККА, а вот что таилось за внешней оболочкой Урицкого, за рисунком, предстояло понять каждому в отдельности. В том числе и Зорге.
В общем, надо было ехать в Москву и по этой причине.
Кстати, свой билет члена ВКП(б) Рихард получал в Хамовническом райкоме партии Москвы в ту пору, когда Урицкий был членом бюро райкома. Вот так!
Пятым членом группы Рихарда Зорге стал талантливый художник Иотоку Мияги. Родился Мияги на юге японских островов, на Окинаве – месте загадочном, о которое вдребезги разбиваются свирепые морские ветры, – ни один не уцелевает, с туманным тропическим климатом и людьми, чей язык, считающийся японским, очень мало похож на распространенный японский.
Дед Иотоку Мияги был пахарем, отец – тоже, оба умели выращивать рис, пшеницу, сою, овощи, работали по двадцать четыре часа в сутки; если бы в сутках было двадцать восемь часов – работали бы по двадцать восемь… Раньше жизнь на Окинаве была сытной, хлеба хватало всем, и мяса все имели вдосталь, но вот из Токио стали все чаще и чаще наведываться незваные гости (их Мияги потом охарактеризовал так: «Доктора, юристы, дельцы и отставные военные, очень скоро превратившиеся в алчных ростовщиков»), они-то и загнали окинавских крестьян в нищету.
Сытое прошлое теперь только вспоминалось. Отец Иотоку Мияги снялся с насиженного места и уехал в Америку, надеясь заработать там немного денег. Через некоторое время Мияги-сын отправился к отцу: у него открылся туберкулез, который вылечить на Окинаве оказалось невозможно.
В Штатах Иотоку и здоровье себе поправил, и английский язык выучил. Однажды, находясь на ферме, где работал отец, он нарисовал портрет деда. Карандашом, по памяти. Отец, увидев портрет, даже рот открыл от удивления:
– Ба-ба-ба! – Больше ничего не смог сказать.
Сын нарисовал еще несколько портретов: бабушки, матери, отца – лица людей, которые когда-либо встречались ему, он запоминал навсегда. Портреты увидел фермер, давший работу Иотоку Мияги, восхищенно поцокал языком.
– Це-це-це! А если я тебе закажу портрет своей жены – сможешь нарисовать?
– Смогу.
Мияги сделал два портрета: один карандашный, второй – маслом. Фермер вновь восхищенно поцокал языком.
– Из тебя, парень, выйдет толк. – Он похлопал Иотоку рукой по плечу.
– Толк выйдет, а бестолочь останется, – грустно улыбнулся Мияги. – Вот сделать бы так, чтобы за это платили хотя бы небольшие деньги – очень хорошо было бы. Я бы хотя б немного помог отцу… А так. – Он развел руки в стороны и вздохнул озабоченно.
– Не грусти, парень, – сказал ему фермер, – мы и это дело наладим, как надо наладим, вот увидишь. Будешь иметь деньги за свои картины, обещаю. Доллары.
Он встретился со своими соседями, такими же, как и он, фермерами, поговорил с ними, продемонстрировал работы юного японца, и заказы посыпались на Иотоку как из рога изобилия, один за другим.
Иотоку поступил в художественную школу, имевшую высокую репутацию, – деньги, которые он заработал на портретах, позволили это сделать, – благополучно закончил учебу и занялся творчеством.
Вскоре в одном из ресторанов Лос-Анджелеса была открыта выставка работ Мияги. Открытие проходило бурно, картины покупали, снимая их прямо со стен, горячими, как пирожки; через некоторое время Мияги организовал Добровольное пролетарское общество искусств, – и пошло дело, и пошло. Поскольку политика так или иначе сопровождала деятельность пролетарского общества, то Мияги через некоторое время очутился в околотке – не без этого, как говорится.
Перепугался, конечно, здорово – все-таки сел первый раз в жизни, не хотелось, чтобы такое когда-нибудь повторилось, – а когда вышел, то поспешил уехать к себе домой, в Японию. Полиция Штатов причислила Добровольное пролетарское общество искусств к организациям марксистского толка, и младший Мияги был взят на карандаш. Оставаться в Америке вообще было нельзя.
Но и отходить от борьбы Иотоку не собирался. В Токио он занялся тем, чем занимался в Штатах: стал писать портреты. Рука у него была набита, опыт имелся, работал он добротно, быстро. Как отмечали окружающие, лучше всего у него получались портреты военных: мундиры, ордена, эполеты, погоны, аксельбанты, роскошная кожаная амуниция, золотое шитье… Военные всегда любили блеск, японские вояки не были исключением. В конце концов Мияги отошел от «гражданской» темы, занялся только «военной». Это произошло на глазах у всех, все отметили это, но ни один человек не задался вопросом, почему это произошло.
Иотоку Мияги стал основным поставщиком для Зорге «новостей цвета хаки»: к нему зачастили генералы и полковники, адмиралы и майоры, чиновники военного министерства без погон и лейтенанты, приезжающие в Токио с Сахалина, Мияги никому не отказывал, брал за портреты недорого, поэтому очередь к нему выстроилась длинная.
Никто из художников Японии не мог так искусно, подробно, вкусно выписывать кистью ордена и звезды, как это делал Иотоку.
Во время позирования – а для создания толкового портрета требовалось не менее трех сеансов – модели делались очень разговорчивыми. Большинство секретов военного ведомства Мияги узнал именно в эти часы. Ловко, почти невесомо водил колонковыми кистями по холсту, – а генералы и их подчиненные признавали только масляные портреты, традиционную японскую живопись, творимую акварельными красками, не любили, – и ненавязчиво поддерживал разговор.
Из мастерской озвученные секреты военного ведомства перекочевали к Зорге, а от Зорге – в Москву. Иногда донесения группы целиком, с первого слова до последнего, Рихард составлял по информации, собранной Мияги во время сеансов портретописания. Вклад, который Иотоку внес в деятельность группы Рамзая, оказался неоценимым. Точнее – бесценным.
В Токио Зорге довольно долго жил в отеле «Тэйкоку», добротные номера этой гостиницы съедали половину личного бюджета Рихарда, надо было переходить на более экономичный режим жизни, подыскивать квартиру и перебираться в нее. Зорге полмесяца искал такую квартиру, прикидывал, как можно воспользоваться преимуществами того или иного жилья в пиковой ситуации (Вукелич считал, что во время всякой атаки, даже успешной, надо обязательно думать об отступлении, иметь в запасе отходные пути, Зорге так не считал, но тем не менее к Вукеличу прислушивался), в конце концов остановился на фешенебельном районе Адзабуку.
Там снял небольшой двухэтажный домик на улице Нагадзакамати.
Дом этот – под номером тридцать – имел площадь очень скромную: две комнаты вверху, две комнаты внизу. Наверху Зорге устроил себе кабинет и спальню, внизу, поскольку стены были раздвижными, – гостиную и подсобную комнату-кухню, в которой поначалу заправлял всем сам, безо всякой прислуги – и кофе себе готовил, и яичницу, и закуски, когда в дом являлись гости, но потом, поняв, что дело это – не мужское, нанял служанку.
Так в его доме появилась пожилая горничная. Кроме кухонных забот она занималась уборкой, обихаживала двор, ходила в лавку за продуктами.
В окна второго этажа тихо скреблись ветки разросшейся японской вишни, на небольшом балкончике росли «вечные цветы» – особый сорт, яркий, умеющий распускаться ковром, душистый; из кабинета Рихарду хорошо был виден небольшой дворик, – незамеченным не мог пройти ни один человек, каменная тропка, ведущая к двери, тоже находилась под присмотром. Едва поселившись в доме, Зорге сразу же начал засекать темную фигуру, внезапно возникавшую на противоположной стороне улочки, у стен дома, напряженно пытавшуюся всматриваться в окна кабинета Рихарда.
Иногда он вставал и, приоткрыв дверь балкона, приветственно махал рукой. Фигура, – а это был очередной дежурный сотрудник «кемпетай», – мгновенно исчезала. Зорге возвращался к пишущей машинке и продолжал работу дальше.
Работы было много. Но самое главное – это добыча новой информации для Центра. На втором месте – статьи, аналитические обзоры для газет и журналов, с которыми у Рихарда имелась договоренность в Германии, на третьем – деловые встречи вне письменного стола, в том же пресс-клубе, на четвертом – работа над статьями, которые были интересны Зорге лично, из этих статей можно было бы легко слепить книгу, а книга, как известно, – товар долгоиграющий, статьи сгорают на следующий же день после выхода газеты, книга же работает долго – несколько лет, а то и дольше – несколько десятков лет.
Горничная поднималась на второй этаж в основном только ранним утром, чтобы разбудить хозяина. Обычно это происходило в пять часов, иногда еще даже рассветом не пахло, улицы были скрыты в предрассветной темноте… Зорге поднимался и шел принимать ванну. Часто вспоминал при этом, какие ванны он принимал в России, в Германии, во Франции…
Ванна в Японии той поры – это обычная, плотно сколоченная круглая бочка, причем у Зорге оказалась бочка, которая в первый же день потекла, Рихард выбросил ее и заказал новую «ванну» из дерева душистого, хвойного, скорее всего, из уссурийской лиственницы; внутри бочки мастер соорудил скамеечку. Зорге мог в этой бочке скрыться с головой, целиком.
Он любил принимать «японскую ванну», делал это каждое утро без исключений. После мытья – неизменная сигара, зарядка с парой гирь и завтрак – затяжной завтрак, за которым он просматривал газеты, отмечал наиболее интересные материалы…
В японских газетах, несмотря на закрытость страны и лютую цензуру, – каждую заметку, даже величиной с тыквенное семя, смотрели не менее трех пар глаз, выискивали блох, которые могли бы нанести вред военной мощи островов, – Зорге почти каждый день находил материалы, которые были интересны ему как разведчику.
Потом Рихард поднимался наверх, в кабинет, садился за стол. Зорге любил большие письменные столы, на которых можно было бы не только разложить бумаги и газеты с книгами, но и поставить патефон, поднос с водой и кофе, пару пишущих машинок: на одной машинке он печатал один материал, на второй – другой, поэтому стол в его кабинете был огромен, занимал пространство от стены до стены… Работал Зорге лицом к окну.
Вообще-то мало места ему было не только в этом доме – во всем Токио. Токио – город тесный. Куда ни глянь – всюду все занято. Стены домов, большие горшки с деревьями, горшки поменьше – с цветами, уличные скульптуры, фонари, просто камни, к которым тут относятся так же, как и к скульптурам, скамейки, оградки, небольшие балконы, декоративные решетки и прочее – каждый сантиметр земли освоен, обжит, ухожен, и именно это, как ни странно, создавало ощущение стиснутости, того, что места так мало, что даже дышать нечем, в Токио нет даже воздуха.
Вот Зорге и казалось, что в груди у него все время что-то щемит, все время хочется вздохнуть полной грудью.
Земли мало, народа живет много, плюс ко всему срабатывает так называемая «островная зависимость»…
Первую половину дня Зорге работал, во второй обязательно отправлялся «в народ» – шел в пресс-клуб справляться там с «островной зависимостью», очень хорошо это дело получалось под саке – теплую рисовую водку. Когда много принимал, то на душе делалось точно так же тепло. А под виски становилось еще теплее.
В общем, жизнь шла.
В коридоре посольского здания Зорге неожиданно столкнулся с рослой красивой женщиной, которую раньше не видел. Ухоженное лицо ее имело капризное выражение, взгляд был насмешлив.
При виде Зорге она неожиданно остановилась и проговорила негромко:
– Рихард?
Зорге также остановился, посмотрел вопросительно на даму – не мог понять, когда и где познакомился с ней. Нет, лицо ее было незнакомо.
– Не помните меня?
Неопределенно качнув головой, Зорге развел руки в стороны:
– Простите!
– Ай-ай-ай! Память у вас, Рихард, короткая, как у девушки. – Незнакомая женщина выразительно засмеялась.
– Еще раз простите!
Оказывается, они познакомились лет пятнадцать назад на одной семейной вечеринке. Зорге сидел за столом рядом с этой дамой и ее мужем-архитектором и подливал в их бокалы вино. Вскоре архитектор захотел перейти на шнапс, и Рихард налил ему крепкого вонючего напитка…
В результате архитектора здорово развезло, он так набрался, что даме пришлось волочь его на себе домой. История, конечно, досадная, но не смертельная.
– Помню, помню, – Зорге прижал палец ко лбу, – мы с вашим мужем тогда немного выпили.
– Не преувеличивайте, – женщина вновь засмеялась, – хотя после этого он три года не мог терпеть запаха спиртного.
– Такое со всеми случается. Хоть раз в жизни, но обязательно случается. – Зорге вежливо улыбнулся.
– В конце концов мне пришлось с мужем распрощаться, – заявила женщина, – слишком слаб оказался.
– Сочувствую. А здесь…
– Здесь я со вторым мужем, он – специалист по военным вопросам, подполковник. Я вас обязательно познакомлю с Эйгеном, он будет рад.
– Почту за честь. – Рихард наклонил голову, поцеловал даме руку.
Хотя говорят, что целовать даме руку в присутственном месте – это «моветон», тем более в посольском коридоре, в поступке этом, считается, сокрыто что-то интимное, личное, – впрочем, Зорге сделал это с удовольствием: белокурая женщина ему нравилась.
– А вы здесь, Рихард, в каком качестве?
– Корреспондент нескольких немецких газет, аккредитован от них в Японии.
– О-о, тогда вам с Эйгеном вдвойне будет интересно поговорить. Он скоро вернется с военных учений.
«С военных учений, – обрывок фразы буквально высветился в мозгу узором, – вернется с военных учений». То, что касалось так или иначе ведомства бога Марса, бряцанья оружием и прочее, интересовало Зорге очень.
– Я думаю, – собеседница невесомо коснулась пальцами пиджака Рихарда, – мы соберемся в каком-нибудь европейском ресторане, славно посидим, вспомним нашу старушку Германию и наше недавнее прошлое… А?
Зорге согласно наклонил голову. Знакомство это обещало быть полезным.
Хельма Отт – в девичестве Бодевиг, – была дочерью видного адвоката, ставшего впоследствии приметным государственным деятелем (адвокат умел говорить, как никто в Германии), вращалась в высшем свете, знала многих знаменитостей, расставшись с недотепой-архитектором, она отвергла притязания на ее руку нескольких человек и вышла замуж за Эйгена Отта.
Сведения об Отте, поскольку тот был военным, собрать было трудно, но Зорге сделал это.
Начинал Эйген свою офицерскую карьеру флаг-юнкером, потом служил в полевой артиллерии лейтенантом – в 65-м Вюртембергском полку, во время Мировой войны был полковым адъютантом, затем служил в военном министерстве и в чине подполковника был командирован в японскую армию, в Нагою, в Третий императорский артиллерийский полк, где сразу попал на поле боя, в Маньчжоу-Го. Похоже, сейчас подполковник Отт там и находился, постреливал из пушек, ремонтировал гаубицы и прикидывал, как лучше шандарахнуть по врагу из батареи мортир – подполковник Отт, говорят, был специалистом по прицельной стрельбе именно из мортир.
Похоже, судьба сделала Рихарду подарок в лице капризной белокурой женщины. Подполковник Отт…
То, что узнал Зорге, было, так сказать, только видимой частью биографии Отта, той, которую обычно представляют газетчикам «для публикаций». А была еще невидимая, потайная сторона жизни Отта, о ней Рихард тоже узнал – помог Центр. Несмотря на «артиллерийскую принадлежность», Отт был кадровым разведчиком, всю войну – Первую мировую – занимался только этим, более того, сумел стать приближенным лицом шефа германской разведки Николаи; когда Германия, проиграв войну, подписала мирный договор и у нее не стало не только своей разведки, но и своих пушек, танков, флота, Отт переместился в институт истории новой Германии.
Институт этот на деле был не чем иным, как мощным разведцентром, который проигравшие хозяева страны не очень-то и камуфлировали: в сотрудниках его можно было узнать бравых офицеров – офицерскую косточку ведь ни с чем не спутаешь. И уж тем более в Германии, привыкшей к топоту сапог, подбитых стальными подковами.
Отт звезд с неба не хватал, сотрудником был неприметным, но, как потом выяснилось, – непростым, он ждал своего часа.
И дождался.
Вот как это произошло. Заснеженной зимой тридцать второго года канцлером Германии стал военный – генерал-лейтенант Шлейхер. Человеком он был малоизвестным, поэтому стремился привлечь в свой кабинет людей, имевших вес в стране. К таким выдающимся деятелям Шлейхер отнес и Гитлера, и в самом конце года, в декабре, направил в Веймар, где обосновался будущий фюрер, своего посланца. Этим посланцем был сотрудник Института истории новой Германии подполковник Отт. Отт привез Гитлеру лестное предложение рейхсканцлера: занять второе место в империи и стать вице-канцлером. Будущий фюрер предложение принял.
Шлейхер вскоре вылетел из своего кресла, не успел его даже насидеть и сделать теплым, а Гитлер переместился на верхнюю иерархическую ступеньку.
Надо полагать, Гитлер запомнил Отта. И прибыл подполковник в Японию явно не с целью пострелять в свободное время из мортиры и снести зарядами пару крыш у каких-нибудь старых сараев – он прибыл с другой задачей: наладить сотрудничество между немецкой и японской разведками. К такому выводу пришел Зорге.
Они встретились втроем – Зорге, Эйген Отт и Хельма, – и решили вместе пообедать в старом токийском ресторане, где Рихард предусмотрительно заказал столик.
Погода стояла теплая, со стороны моря приносился легкий свежий ветер, приятно обдувал лицо, руки, шевелил кусты в скверах.
– В этом ресторане настоящая японская кухня, старая, грех с нею не познакомиться, – сказал Зорге Эйгену, затем с полупоклоном повернулся к Хельме: – Вы не против?
Та сделала восхищенный взмах рукой:
– О-о-о! Японская кухня, настоящая – это о-о-о! С удовольствием, господин Зорге! – Хельма игриво глянула на Зорге.
«Бестия еще та, – невольно отметил Зорге, улыбнулся широко. – Было у меня что-нибудь с нею там, во Франкфурте, или нет?» Этого он не помнил. Что-то досадливое мелькнуло у него в глазах, мелькнуло и тут же исчезло, Зорге как был сама учтивость, так самой учтивостью и продолжал оставаться.
Машину вел Зорге. Вел лихо, на это обратили внимание и сама Хельма и ее муж.
– Где вы научились так здорово управлять автомобилем, доктор Зорге? – спросил Отт.
– Как где? В стране настоящих мужчин и истинных патриотов…
– В великой Германии? – рискнул предположить Отт. Квадратный подбородок его, чисто выбритый, лоснящийся, воинственно выпятился.
– Именно там, – подтвердил Зорге, на хорошей скорости вогнал машину в узкий проулок – громоздкий автомобиль вошел в него, будто нитка в ушко иголки, легко, только сверху, с крыш откуда-то, вниз рухнул звуковой пласт, так пространство отозвалось на звук мотора, – подполковник восторженно качнул головой: Рихард ему нравился.
– Завидую вам, доктор Зорге.
Зорге рассмеялся безмятежно:
– Это мы обсудим, доктор Отт, когда будем сидеть за столом.
– Все это время я имел дело с военными, а они в японской кухне смыслят не больше, чем я в астрономии, – пожаловался Отт.
– Ничего страшного. Я расскажу вам все, что знаю о японской кухне.
– Я слышал, что главные у них – два кушанья… Это так?
– Да. Сукияки и тэмпура. Но, если честно, японцы позаимствовали их у других. Об этом в Японии, конечно, нигде не написано, но в Европе, в научных кругах, известно.
– Совсем неожиданно, – засомневался Отт, – даже интересно.
– Сукияки позаимствовали в тринадцатом веке у монголов, а тэмпуру – в шестнадцатом веке у португальцев.
– Португальская-то кухня как сюда, на эти огороды, попала?
– Завезли миссионеры.
– Век живи – век учись, – глубокомысленно заметил Отт.
– Тэмпура – это рыба, либо куски осьминога, кальмаров, медуз, креветок, которые японцы окунают в жидкое тесто и жарят в масле. Очень вкусно и… – Зорге покосился на Отта, сидевшего в машине рядом с ним, Хельма сидела сзади одна, – окинул взглядом его поджарую сильную фигуру и невольно улыбнулся. – На вашей статной комплекции, герр подполковник, это никак не отразится.
– За свою фигуру я не беспокоюсь, – Отт беспечно махнул рукой, – в моем роду никогда не было жирных толстяков. А как, собственно, португальцы умудрились добраться до Японии?
– По воде. В тысяча пятьсот каком-то, точно не помню, году они появились на островах рядом с Нагасаки, и японцы приняли их, доктор Отт.
– Японцы ведь во все времена очень трудно шли на контакт…
– Видать, среди португальцев находился великий дипломат, иначе вряд ли бы они остались живы.
Отт рассмеялся, потом оборвал смех, поглядел на Зорге строго.
– Мне как-то попалась на глаза книга, где красочно расписаны казни, которые древние японцы устраивали над иностранцами. Изобретательность у хозяев островов необыкновенная – мороз по коже бежит.
– Доктор Отт, Хельме наверняка наши речи неинтересны…
– Как сказать, – неопределенно отозвалась Хельма.
– А монголы каким боком сюда залезли? – спросил Отт.
– Внук Чингисхана решил завоевать Японию и чуть было это не сделал.
– Ка-ак? – удивился Отт. – Монголы?
– На вопрос «как?» ответ один – с помощью флота, естественно. Монголы решили подогнать сюда десять тысяч кораблей и поставить их поперек моря, перегородить его. С корабля на корабль перебросить мостки и пустить по ним конницу…
– Очень остроумный план.
– Я тоже так считаю.
– Но на японскую землю монголы так и не проникли, говорят, налетел тайфун и раскидал корабли, а вот способ приготовления мяса проник. Назвали его японцы сукияки. Никогда не пробовали сукияки, герр подполковник?
– Если честно, не знаю. Может быть и пробовал.
Зорге улыбнулся вежливо. Все дело в том, что каждый посетитель ресторана готовит себе сукияки сам, поэтому подполковник не мог не запомнить сковороду, стоящую на шипящей горелке примуса, раскаленное масло, издающее ароматный дух, и нежные тонкие ломтики говядины, мгновенно превращающиеся во вкусную еду.
Располагался облюбованный Рихардом ресторан в небольшом деревянном доме, сработанном под старинную пагоду с резными столбами, окрашенными в малиновый цвет, и таким же резным прямоугольным верхом. Столик уже был приготовлен, гостей встретил сам распорядитель ресторана. Лично. Одет распорядитель был в дорогой черный костюм, по бортам окаймленный блестяще-черной шелковой лентой, белоснежная рубашка была накрахмалена до хруста, под подбородком красовалась бордовая, в горошек, бабочка – модный галстук рестораторов Европы и прежде всего – Парижа – в прежние, естественно, времена. Теперь галстук перекочевал и в Азию, сюда.
На столе, за который их усадил распорядитель, уже тихо потрескивали рыжим пламенем три керосинки. На них стояли небольшие сковородки. Что очень удивило Отта, сковородки были отлиты из плотного темного стекла.
– А почему сковородки стеклянные? – спросил он у подошедшего официанта.
– На них никогда ничего не подгорает, – пояснил тот, – ни мясо, ни рыба. – Добавил: – Сковородки были специально заказаны во Франции.
– М-м-м! – понимающе склонил голову набок Отт.
– Для начала давайте выпьем за знакомство, а потом будем готовить сукияки, – предложил Зорге.
Подполковник одобрительно хмыкнул.
Пили саке из небольших фарфоровых чашечек, разрисованных цветными драконами. Отт высадил чашечку одним глотком – просто вдохнул напиток в себя, а выдыхать не стал. Подергал уголком твердого рта:
– Теплая, зараза.
– Саке всегда подают теплым, – доброжелательным тоном пояснил Зорге, – так положено. Традиция.
– Немецкий шнапс или русская водка вкуснее, – сказал Отт, – особенно, если пить со льдом.
– Что да, то да. – Зорге придвинул к себе керосинку, поправил сковородку и, ловко подцепив палочками тонкий ломтик мяса, опустил его на толстое стеклянное дно сковородки, в раскаленное масло.
Через несколько мгновений ломтик мяса был готов, Зорге посолил, поперчил его и отправил в рот. Отт внимательным взглядом проследил за ним:
– Ну как?
– Превосходно. Лучше не бывает, господин Отт. – Зорге подхватил палочками еще один ломтик мяса, проделал прежнюю операцию. – А главное, ни в одном походе никакой заразы с такой едой не подхватишь. Монголы знали, что делали.
– Предлагаю выпить еще, – сказал Отт, покосился на пузатую фарфоровую бутылку саке, – только, может, нам выпить водки? Сколько градусов в саке?
– Не более тридцати.
– А в водке сорок, либо даже сорок пять.
Подполковник вел себя так, будто жены его вообще не существовало – не замечал ее, Хельма все время молчала, – и решения принимал сам, и просьбы исходили от него одного. «Наверное, в среде немецких военных так заведено», – предположил про себя Зорге. Он оторвался от сковородки, встретился глазами с официантом, стоявшим неподалеку, кивнул, подзывая, – тот, проворный, вышколенный, немедленно устремился к столику.
– У вас есть немецкий шнапс?
В глазах официанта промелькнула тень, словно бы он чего-то испугался, склонив виновато голову, он произнес тихо:
– Нет, к сожалению.
– А русская водка?
Официант горделиво поднял коротко остриженную, с ровным набриолиненным пробором голову:
– Русская водка есть.
– Бутылку на стол! – скомандовал Зорге, повернулся к супруге подполковника: – А вам, Хельма, я предлагаю отведать вина из розовых лепестков либо из плодов молодой черешни…
– Розовых лепестков? – Хельма оживилась. – Забавно.
– Вино совершенно необычное по вкусу. Но «молодая черешня» лучше.
Фрау Отт встрепенулась, на ожившем лице ее заиграла улыбка. В следующий миг она неожиданно рубанула рукой воздух: гулять так гулять.
– Давайте черешневое! – воскликнула она.
– Бутылку черешневого вина на стол! – эхом подхватил Зорге. – И соответственную посуду к вину. – Щелкнул пальцами. – А к водке не забудьте лед.
– Повинуюсь, господин. – Официант послушно наклонил голову.
Подполковник Отт тем временем взял в руки палочки, осторожно повертел их в пальцах и положил на стол.
– Сколько я ни пробовал брать еду этими зубочистками – ничего у меня не получается. Ни разу не взял…
– Ничего страшного. Сейчас мы потребуем вилку и нож, это добро в ресторане тоже имеется.
В зале было тихо, только где-то недалеко, как-то задавленно, глухо, словно бы из-под земли, доносились звуки барабана, создававшие ощущение покоя, отбивавшие ритм, которому должно было следовать сердце, Зорге прислушался к этому звуку и у него дрогнули кончики губ: звуки всякого барабана напоминают ему только об одном – о задымленном, исполосованном выстрелами прошлом, о солдатах, оставшихся лежать во Фландрии, эти ребята никогда не постареют, память их навсегда запечатлела молодыми, о дивной земле, где Рихарду было больно.
– А это удобно – есть вилкой и ножом, когда все вокруг едят палочками?
– Вполне удобно.
Когда официант разлил по стопкам холодную водку, Отт сказал:
– Я предлагаю, Рихард, перейти на «ты» и обращаться друг к другу по именам.
– За это и выпьем, Эйген, – проговорил Зорге согласно, – а следующий наш тост – за Хельму… Что бы мы делали без женщин?
Отт прогукал что-то себе под нос, будто голубь, и махом отправил водку в себя. Пил он, как большинство военных, без всякого смакования, без промедления отправлял любой напиток, даже самый дорогой, в желудок: хлоп – и нету! Только дразнящие остатки, пары винные, в воздухе болтаются. Отт подцепил вилкой ломтик сырого мяса, придержал его ножом и отправил на грозно шкворчавшую сковородку. Через несколько мгновений выдернул, посыпал солью, перцем и отправил в рот.
Восхищенно помотал головой:
– Вкусно!
Хельма, в отличие от мужа, с обеденными палочками справлялась легко – то ли навык был, то ли природная ловкость помогала, скорее всего, все-таки был навык, – подхватила кончиками скрещенных палочек сочащийся сукровицей мясной ломтик и опустила его в фыркающее масло.
– Значит, это и есть древний монгольский метод приготовления мяса? – Подполковник привычно выпятил подбородок. – Однако не дураки были эти монголы.
– Иначе бы не завоевали полмира, – подала голос Хельма, но муж не обратил на нее внимания.
– Что еще, кроме этого ресторана, есть приметного в Японии? – задал Отт неуклюжий вопрос. Как разведчик, он не должен был его задавать, но что произошло, то произошло.
– Советую посетить старую столицу островов Киото, – сказал Зорге, – и тебе, Эйген, и Хельме Киото понравится.
– А что там выдающееся водится?
– Дворец Нидзе, например… Раньше в нем жил сёгун. Дворец целиком сделан из резного дерева, будто шкатулка. Полы во дворце – поющие.
– По-птичьи, что ль, голосят?
– Почти. Поют на все лады… Как скворцы в нашей любимой Германии в весеннюю пору – так же дружно и красиво. Ну-у, еще… как кенари с подоконников домов в городе Магдебурге.
– О-о, Магдебург! – не выдержал Отт, взгляд его затуманился восхищенно. – Предлагаю выпить за нашу великую Германию.
Так и поступили.
– От Японии я в восторге, – заметил захмелевший Отт. – Великолепный флот… Вы знаете, Рихард, какой у Японии мощный флот?
Зорге сделал непонимающее лицо, хотя как молитву знал, сколько у японцев линкоров и линейных крейсеров, каков их тоннаж, сколько авианосцев и кораблей с артиллерией калибром свыше ста пятидесяти пяти миллиметров (такими пушками можно в несколько минут разнести в щепки город средней величины, – например, Киото), сколько находится на плаву подводных лодок, минных заградителей и тральщиков, как организовано управление морскими силами, и так далее – словом, знал все. Или почти все. Во всяком случае, больше, чем подполковник Отт.
– У Японии – великий флот, – произнес Отт громко, – великая авиация, великие сухопутные силы. Япония – страна будущего. Если мы заключим союз, то изменим весь мир, Германия будет владычествовать в Европе, Япония – в Азии.
Сколько раз слышал подобные слова Зорге – не сосчитать, они ему изрядно надоели. С вежливой понимающей улыбкой он наклонил голову:
– Целиком разделяю твою точку зрения, Эйген.
– Еще бы не разделять, – Эйген хмыкнул, – это – точка зрения фюрера.
Хельма в беседе по-прежнему почти не принимала участия – ей это было неинтересно, а вот к вину из молодой черешни она прикладывалась с интересом, щурила глаза довольно, будто многомудрая женщина с картин Тулуз-Лотрека (этого художника Зорге любил особенно), разглядывала его на свет, отпивала по глотку, задерживала во рту, придавливала языком к нёбу. Продолжал раздаваться тихий призывный стук барабана, будил гостей за столом, приглашал куда-то пойти. Посетителей в ресторане было немного – в основном семейные пары.
– Эйген, а в следующий раз давайте-ка отведаем другой японской еды – той, которая имеет португальские корни.
– Буду благодарен, Рихард.
– И я буду благодарна, – неожиданно подала голос Хельма.
Зорге не выдержал, улыбнулся – ну совсем как в гимназии…
– Мы будем тебе очень благодарны, Рихард. – Тяжелое лицо подполковника утяжелилось еще больше, подбородок выпятился угрожающе; несмотря на солидную внешность, подполковник захмелел быстро, очень даже быстро, – где-то в его организме имелась слабина. На лбу Отта выступили мелкие искринки пота, щеки покраснели.
Из ресторана вышли в темноте. Город понемногу успокаивался, в небе подрагивали неровные пятна – следы электрических сполохов, да и само небо имело цвет слабого электрического всплеска, сплошного, затяжного, в этом поле и плавали живые светлые пятна; шум автомобилей, доносившийся до ресторана, был придушенным, он слабел на глазах: город укладывался спать, завтра, рано-рано, у него начинался новый рабочий день. Многим жителям приходилось вставать в четыре часа утра.
– Хорошо тут, – восхищенно пробормотал Отт, – век бы жил в Токио.
– А кто мешает?
– Долг перед великой Германией, Рихард, – Отт хмыкнул, – я – человек военный, хожу по линейке. – Увы! – Он развел в стороны белые изящные руки.
Руки у подполковника были аристократические, это Зорге уже отметил: такие руки бывают только у представителей древних родов либо у высококлассных пианистов.
– Увы, – еще раз развел руки подполковник и спрятал их в карманы.
Зорге отвез супругов Отт домой – на квартиру военного ведомства, которую выделили подполковнику, посигналил на прощание и неспешно покатил дальше.
Обычно перед сном Рихард что-нибудь читал – чаще всего мудрые японские танки (тогда, он полагал не без основания, будет иметь возможность просыпаться утром мудрее, чем он есть на самом деле), а в этот раз словно бы что-то отрубило: в висках стоял звон, в затылке также плескался тяжелый медный звон, в груди никак не рассасывалась что-то плотное, грузное, возникшее после ужина, сердце саднило, Рихард взял в руки книгу, несколько минут подержал ее перед собой, потом положил на пол и выключил ночник – диковинную лампу, сделанную из оболочки большого тропического плода. Что это был за плод, Зорге не знал – во всяком случае, ни в Китае, ни в Гонконге, ни в Индии ему эта невидаль не попадалась.
Уснул он быстро. Во сне, даже в глухом забытьи, он привычно фильтровал звуки: вот мышка, совсем крохотная, едва приметно проскреблась по полу, вот в открытое окно влетел большой ночной мотыль, замолотил крыльями по воздуху, вот машина прошуршала шинами за углом дома… Звуки эти не вызывали у него тревоги. На любой тревожный звук он среагировал бы, но тут не было ничего тревожного – тишина была… Спокойная ночная тишь с посторонними легкими звуками, в которой свободно билось сердце.
В два часа, в вязкой темноте, Зорге проснулся, включил ночник. Сквозь тонкую кожуру тропического плода пробился неяркий свет. Рихард посмотрел на часы, стоявшие на низком, с гнутыми ножками столике. Вздохнул невольно: два часа ночи – не то время, которое способно заставить человека вскинуться на постели и больше не спать.
Успокоенный, Зорге уснул снова. Хотя внутри у него все-таки оставалось что-то мешающее – будто заноза сидела под кожей. Надо бы заснуть поосновательнее, поглубже, так, чтобы к утру проснуться с легкой головой и ясными мыслями, Рихард натянул на голову подушку, плотнее прижал ее, сверху обнял рукой и забылся.
Здорово забылся, словно бы на голове у него не обычная подушка лежала, а целый ворох сена. И пахло от этого сена детством, вот ведь как. Хороший это запах, очищает душу, выскребает из души всякую налипь, грязь, гниль, и Зорге улыбался во сне, радуясь наступающей легкости.
Неожиданно в сон проник дребезжащий, с визгливыми нотками звонок, Зорге встрепенулся, стянул с головы подушку, замер, пытаясь сообразить, наяву он слышал этот звонок или же разболтанный звук этот прозвучал во сне?
Звонок повторился. Старый, ржавый, он ломаной неприятной проволокой ввинчивался в уши, был способен причинить физическую боль. Звонили в калитку, упрямо прижимая пальцем черную глазастую кнопку к боковине ограды. Неужели полиция? Тревога полоснула Рихарда изнутри остро, он поспешно вскочил с кровати и, натянув на себя халат, подошел к окну: что там, на улице, вдруг действительно топчется полицейский наряд с предписанием на руках: арестовать такого-то и препроводить туда-то… Зорге протер глаза – он не верил тому, что видел. На улице стояла женщина. Статная, не лишенная изящества, в шелковом пыльнике с капюшоном, натянутом на голову. Невольно вздохнув – давно у него не было приключений, – Рихард спустился вниз и по влажной от ночной росы дорожке, застеленной шероховатой, чтобы не оскользаться в дождь плиткой, прошел к двери, врезанной в ограду.
За оградой стояла… Хельма Отт.
– Господи, – глухо пробормотал Рихард, помял пальцами горло, – Хельма, это вы? Что-то случилось?
– Случилось, – женщина придушенно засмеялась, – случилось, что я пришла к тебе. – Она впервые обратилась к Зорге на «ты», это что-то значило.
– А Эйген… – пробормотал Зорге смятенно и умолк – все, что он ни скажет сейчас, будет звучать глупо, – вздохнул и открыл калитку, пропуская Хельму во двор.
Она прильнула к нему.
– Я тебя запомнила давным-давно, – прошептала Хельма жарко, – еще там, во Франкфурте… Но ты ускользнул от меня.
– У тебя же был муж-архитектор.
– Верно. Но он мало что значил в моей жизни. Веди меня к себе.
– На чем ты приехала? – Зорге огляделся: нет ли где посольской машины? Машины не было, впрочем, ее и не должно было быть – дом, который снял Рихард, находился в глубоком кармане, пройти сюда машина не могла, свой автомобиль Зорге оставлял, например, за углом…
– На такси, на чем же еще, – проговорила Хельма тихо и нетерпеливо топнула ногой: – Веди меня к себе.
Зорге хотел пробормотать что-то об Эйгене, но потом смятенно махнул рукой… Как там говорят мудрые русские? Чему бывать, того не миновать? Или что-то еще?
Где-то за углом, на соседней улице, прогрохотала запоздалая машина, вонзилась лучами сильных фар в пространство, взревела вновь мотором – видать, водитель был пьяный, и все стихло.
Город спал.
Через несколько дней супруги Отт уезжали в Берлин – с рыбной кухней Японии Рихард так и не успел их познакомить.
– Это ничего, – сказал Эйген Отт уже на аэродроме, сердечно пожал руку Зорге, – мы еще обязательно встретимся, посидим за столом и отведаем сырой рыбы… Как ее тут называют? Сашими?
– Сасими.
– Один черт. – Отт засмеялся.
У Хельмы был цветущий вид. Рихард поцеловал ей руку, произнес громко – самолет, на котором должны были улететь супруги, начал прогревать моторы, почти ничего не было слышно.
– Доброй дороги вам, сударыня. Передайте поклон лучшему городу Германии – Франкфурту-на-Майне.
– Я тоже люблю этот город, очень люблю. Привет обязательно передам.
– А я могу передать кому-нибудь привет, Рихард? – спросил Отт с подначивающей улыбкой. В том, что улыбка Отта имела двойной смысл, Зорге готов был поклясться. – Поручи мне это тоже.
– Да нет, – пробормотал Зорге смущенно, – больше вроде приветов нет.
Супруги двинулись к самолету.
– До встречи! – Хельма поднялась по приставной алюминиевой лесенке наверх, в проеме выпрямилась и выкрикнула вновь, очень многозначительно: – До встречи, Рихард!
Самолет – это был немецкий «юнкерс», транспортный вариант, переделанный в пассажирский, начал выруливать на взлетную полосу.
Было жарко. Япония – страна душная, в году много сырых горячих дней, человек варится в здешнем воздухе, будто в кастрюле, имеющей воды на донышке и поставленной на горелку. Такое в Токио стоит лето. На севере Японии, на малых островах, там дышится легче.
Группа начала работать четко, слаженно, Зорге зарядил ее на долгий ход, – из Токио стали регулярно поступать сведения в Центр. Единственное, что – возникали вопросы с Бернхардом – крутоплечим большеруким радистом, – все-таки он мог бы быть порасторопнее.
Слежка, которую японская полиция «кемпетай» вела за Зорге и иностранцами, входившими в его группу, не прекращалась ни на минуту, но было это делом обычным: «кемпетай» с одинаковым рвением следила за всеми чужеземцами, ни один из них не чувствовал себя в Токио свободно: колпак есть колпак, он ощущается где угодно, даже в деревянной бочке, наполненной водой, которую местные величают ванной.
Надо было собираться в Москву, со дня на день должна была прийти шифровка, дающая добро на это поездку – Зорге ждал ее. И по Москве он соскучился, и по Кате…
Восьмого августа тридцать третьего года был оформлен брак Рихарда Зорге (по документам наш герой проходил как Ика Рихардович Зорге) с Екатериной Александровной Максимовой. Рихарда в это время в Москве не было, он находился в Японии, поэтому документы – и свои собственные, и Зорге – Катя получала на руки одна. С ней даже подруг с завода не было – невозможно было отлучиться, «Точизмеритель» выполнял срочный оборонный заказ (как всегда – «государственной важности»), поэтому с Катей в загс за бумагами поехала Наталья Звонарева, секретарь начальника Четвертого управления РККА.
Здание загса было новеньким, блистало свежей масляной краской, чистыми окнами, в которых виднелись тяжелые гардины, – вид здание имело строгий и одновременно торжественный.
Катя Максимова, счастливо улыбаясь, поклонилась зданию загса, как церковному алтарю, затем вопросительно глянула на Наталью:
– Может, зайдем в кафе, отметим этот день? – Она приподняла сумочку, в которой лежали документы, взгляд у нее неожиданно сделался каким-то жалобным, просящим. – А?
Звонарева улыбнулась понимающе:
– Только по мороженому и кофе, ладно? Я ведь на работе, мне скоро надо быть в управлении.
Так и поступили: съели по вазочке мороженого и выпили по чашке желудевого кофе с «забелкой» – топленым молоком, тем и ограничились.
– Наташа, а где сейчас находится Рихард, – осторожно поинтересовалась Максимова, – в каких краях?
Звонарева отрицательно покачала головой:
– Этого я не знаю. Знаю только, что Ика Рихардович выполняет очень сложное и очень ответственное задание… Правительственное, – добавила она.
– А мне к нему нельзя поехать?
Наталья медленно покачала головой:
– Нет, Катюша… Нельзя.
– И никаких-никаких лазеек нету, чтобы в них можно было прошмыгнуть и поехать к Рихарду, а?
– Нет, Катюша.
Светлое жизнерадостное лицо Кати Максимовой потемнело, взгляд сделался растерянным, но она быстро взяла себя в руки, глянула в окно на трамвайную остановку, плотно забитую людьми, перевела взгляд на рыжевато-серую теснину московских домов, где какие-то комсомолята в летних буденовках расправлялись с большой мусорной кучей, перекладывали ее сразу в три телеги, понимающе улыбнулась и смахнула с глаз слезы.
– Ладно, Наташ, нельзя, так нельзя…
Выйдя из кафе, она поцеловала Звонареву в щеку:
– Спасибо, Наташа…
Звонарева помахала ей рукой, прыгнула в подошедший трамвай, вагон загромыхал железными сочленениями, залязгал буферами и покатил по рельсам дальше.
Оставшись одна, Катя двинулась по каменной, с неряшливо залитыми асфальтом проплешинами мостовой в сторону Никитских ворот, к скверу. Побыть одной – это тоже неплохо, в конце концов, можно поразмышлять о житье-бытье своем, как и о том, почему в самый счастливый день для нее рядышком нет мужа, просто посидеть на скамейке и, глядя на окружающие дома, вспомнить свое прошлое… А мы – все мы, – так тесно связаны с нашим прошлым.
Прошлое сидит в нас, сидит плотно – ничем не выколотишь, – влияет на будущее, и иначе просто быть не может, эта цепь неразрывна, из нее не должно выпасть ни одно звено… Если выпадет – будет плохо.
Она села на скамейку. К ней тотчас устремилось несколько сизых игривых голубей. Впрочем, один голубь был белый, с кирпичными пятнами на крыльях и янтарными петушиными глазами.
– Ах вы, гули, – жалобно проговорила Катя, что-то щемящее возникло в ней, вызвало далекую внутреннюю боль, – чем же мне вас покормить?
В другую пору она, не задумываясь, купила бы в ближайшем киоске пару булочек и скормила бы их голубям, но сейчас, после голодных неурожайных лет, сытое время еще не наступило, люди помнили недавнее прошлое, и булку так просто, в уличном киоске, как раньше, купить было нельзя.
– Ах вы, гули…
Тут Катя вспомнила, что не выложила на работе в тумбочку хлебную пайку, намазанную сливочным маслом, и две печеные картофелины с малосольным огурцом – каждый раз она брала из дома еду про запас – на тот случай, если будет срочная работа и придется ночевать в цеху. В последнее время заказов поступало очень много, в основном из разных технических управлений Красной армии. Военные оснащались, к ним приходила новая техника, технику эту надо было оснащать приборами, чем, собственно, и занимался цех, в котором работала Катя Максимова.
Она достала из сумочки хлеб, намазанный маслом, раскрошила его на мелкие куски.
– Нате вам, гульки, – швырнула птицам куски, потом швырнула крошки. Голуби – птицы боязливые, здорово отличаются, допустим, от отчаянных говорливых воробьев, те чувствуют себя в городе хозяевами, но рядом с Катей голуби вели себя смело – значит, ощущали, что она их не обидит.
Несколько дней назад она видела во сне Рихарда – тот стоял посреди лесной поляны, щедро освещенной солнцем, с блокнотом в руках – что-то писал; на плече, на длинном кожаном ремешке у него висел фотоаппарат – кажется, это была любимая Зорге «лейка» (впрочем, в фотоаппаратах Катя разбиралась не очень), шею Рихарда украшал короткий, завязанный на манер галстука, узлом, модный белый шарф. Зорге отмахнулся от какой-то букашки, мотавшейся около его виска, поднял голову и встретился глазами с Катей.
Лицо его радостно вспыхнуло – он узнал жену.
– Рихард! – закричала Катя, замахала рукой. – Рихард!
Зорге показал пальцем себе на уши: не слышу, мол.
Кате почудилось, что между нею и Рихардом находится плотная стеклянная стенка, которая не пропускает звуков, вот Катя не слышит Рихарда, а Рихард ее.
На глаза Катины навернулись слезы, очень горячие слезы – они обожгли и веки, и сами глаза. Внутри у Кати словно бы жилка какая-то лопнула, в горле задребезжала мокреть.
– Рихард!
Рихард не услышал ее, начал встревоженно оглядываться. Потом поднял указательный палец, привлекая ее внимание, и крупно, очень приметно написал на странице блокнота: «Жди меня, я скоро приеду!»
Катя радостно закивала. Рихард поднял блокнот выше. «Жди меня, я скоро приеду!» Катя кончиками пальцев стерла с глаз слезы, вновь ожесточенно, едва не вывихивая себе кисть, замахала Рихарду рукой. Зорге махнул ей ответно и тут же исчез…
Будто и не было его на залитой режущим неестественным светом лесной поляне.
И вот еще что – Катя не услышала ни единого птичьего писка. Что же это был за лес?
Голуби склевали крошки быстро, вновь подступили к Кате, она, шмыгнув расстроенно носом, скормила им остатки булки.
Если сегодня она задержится на третью смену, то есть ей будет нечего.
Впрочем, остались еще две печеные картофелины и малосольный огурец. В конце концов, она обойдется и этим.
Катя достала из сумки паспорт, открыла на странице, где был поставлен свеженький фиолетовый штамп «Зарегистрирован брак с гр. Зорге Икой Рихардовичем, год рождения 1895»… Полюбовавшись некоторое время штампом, Катя, не удержавшись, поцеловала его и сунула паспорт в сумку.
Пора было бежать на завод.
Сон оказался вещим. В ночной тиши, в одном из домов неподалеку от знаменитого Арбата, хлопнула дверь подъезда – на двери стояла сильная, недавно приколоченная новенькая пружина, которая лупила не хуже орудия – в соседних домах разве что только стекла не вылетали, – Катю Максимову, лишь недавно уснувшую, словно бы что-то подбросило на кровати. Она села, обеспокоенно закрутила головой: что это было?
Непонятно, то ли во сне она услышала этот звук, то ли наяву… И вообще, что это за звук? К орудийному хлопанью недавно починенной двери она еще не успела привыкнуть.
В следующее мгновение она услышала какое-то царапанье в их маленьком коридоре – общем, – звяканье пустой консервной банки, которую сосед выставлял для кошки, иногда наливал ей туда жиденький мясной суп, иногда молоко, вспомнила, что лампочка в коридоре перегорела и ее до сих пор никто не удосужился заменить, поморщилась, словно от зубной боли.
Проговорила звонким, хотя и сонным голосом:
– Кто там?
На возглас никто не отозвался, в коридоре снова звякнула консервная банка – никак не могла расстаться с чьей-то неосторожной ногой, через несколько мгновений кто-то кулаком, – но очень аккуратно, чтобы не разбудить дом, – постучал по дверной ручке. Ручка к Катиной двери была прикреплена массивная.
Что-то кольнуло ей в сердце, боль была радостная, светлая, Катя неверяще прошептала:
– Ика!
Это был он.
Катя, задыхаясь, беспорядочно размахивая руками, рванулась к двери. Кинулась на шею к Зорге и неожиданно для себя заплакала.
– Ну что ты, что ты, Катюш? – пробормотал он смятенно. – Не надо плакать, маленькая. – Он пальцами отер ей слезы, пролившиеся на щеки. Признался смущенно: – Ничего вроде бы на белом свете не боюсь, а вот женских слез боюсь.
Катя откинулась от него, улыбнулась счастливо.
– Неужели это ты, Ика?
– Я.
– Не верю.
– Я это, я!
– Все равно не верю. – В следующее мгновение она словно бы навела на него фокус, увеличила резкость, окончательно разглядела Рихарда и… опять заплакала: что-то надломилось в ней, сошло на нет, если в других женщинах долгое ожидание перекипает, дает им возможность держаться прямо, то с Катей этого не было.
– Ну-у… Опять! – укоризненно проговорил Зорге.
– Не буду, Ика, – шепотом произнесла Катя.
– Все, все. – Зорге прижал ее к себе.
– Ты где был, Рихард?
Зорге погладил ее по голове.
– Там, где был, меня уже нет.
– Иногда ко мне приходят твои письма, но я никак не могу понять, откуда они отправлены.
– И не нужно понимать, Катюш. Это работа.
– Ах, Ика…
– Планы наши, значит, такие. Завтра утром я должен буду явиться на доклад начальству, затем мне понадобится пара дней для составления отчета. А потом… потом я оформлю отпуск, и мы…
– И мы поедем отдыхать, – обрадованно вскричала Катя. – На юг!
– Точно!
– Ой! – Катя кинулась Рихарду на шею, поцеловала мужа в щеку, прижалась к нему – в ней что-то зашлось, остановилось, даже дыхание начало осекаться, будто у девчонки, которой предложил руку принц. Наверное, именно в эту минуту Катя Максимова была счастлива, как никогда – слишком много всего свалилось на нее, и все – хорошее.
Утром Зорге пешком двинулся в Разведуправление, благо Знаменка, где располагался «шоколадный домик» (здание управления было выкрашено во «вкусный» шоколадный цвет), располагалась совсем недалеко от Нижне-Кисловского переулка: минут пятнадцать неторопливой размеренной ходьбы, и Зорге оказывался у дверей управления.
На улице было шумно, народу, кажется, стало еще больше, чем в прошлый его приезд в Москву, дышалось же легко.
Воздух был свежим, сухим, потому и дышалось легко – в Шанхае, в Токио воздух, например, был совсем иным.
Трещали своими назойливыми электрическими звонками трамваи. Отживающий вид транспорта. Вот троллейбус – совсем другое дело. Впрочем, Зорге прочитал в газетах, что Москва уже начала примеряться и к троллейбусу – по Ленинградскому проспекту пустили два чудища, которые народ прозвал «усатыми автобусами» и «рогатыми вагонами», – это были троллейбусы. Получили чудища заводское обозначение «ЛК», что означало «Лазарь Каганович». Народ садился в «ЛК» охотно, сравнивал с трамваями и автобусами. Ну, трамвай ни в какое сравнение не шел, не выдерживал критики, а вот автобус… Одни говорили, что автобус лучше, другие высказывались в пользу «электрического рогоносца».
Рихарду, конечно, больше нравился троллейбус – он и шел плавнее, тише, без автомобильного грохота, и вони от него было меньше – электричество, как известно, не имеет запаха, а главное, в троллейбусе Зорге ощущал себя спокойнее и уютнее… Но, как говорится, кесарю кесарево, а слесарю слесарево.
Что еще? Народ московский одевался, конечно, хуже, чем заграничный – и тут уж ничего не попишешь: Мосшвейпром пока пасует перед парижскими модельными фирмами, перед берлинскими тоже, но наступит момент, и в этом Зорге был уверен твердо, когда москвичи по части одежного форса обгонят и парижан, и берлинцев.
А на Ленинградском проспекте надо побывать обязательно, – специально даже, – чтобы проехаться на московском троллейбусе и сравнить его, скажем, с берлинским: чьи колеса возьмут верх? Зорге невольно рассмеялся – а было бы здорово, если б московский троллейбус оказался лучше берлинского.
Он, как ребенок, потерся носом о плечо: грудь распирало восторженное чувство, ему нравилось нынешнее утро, нравилась жизнь, он провел роскошную ночь, руки его помнили нежность Катиной кожи, губы его – ее губы. Как, оказывается, мало надо человеку для того, чтобы он был счастлив, совсем мало.
Какой-то очкастый гражданин столкнулся с ним, откинулся назад, хотел было выругаться, но, увидев ошалело-радостное лицо Зорге, его сияющие, будто у школьника, получившего пятерку, глаза, пробормотал сконфуженно:
– Извините!
А Зорге даже не заметил этого человека. Пришел он в себя и построжел, посерьезнел, когда до «шоколадного особняка» идти осталось всего метров тридцать. Но и тридцати метров ему хватило, чтобы стереть с лица гимназическую беспечность и сделаться строгим – в соответствии с учреждением, в которое он шел.
Юг пришлось отложить, в Крым, о котором так мечтала Катя и где очень хотел побывать Зорге, они так и не поехали: на первом месте оказалась работа. А отдых – это потом, потом, потом… Так в России было всегда.
В десять ноль-ноль Зорге явился к начальнику Четвертого управления РККА Урицкому Семену Петровичу, а днем, во второй половине, встретился со своим новым радистом – Бернхарда отзывали в Москву: участок в Токио считался очень горячим, и Бернхард со своим старым паровозом, выдаваемым за современный радиопередатчик, работу все больше и больше заваливал.
После подробной беседы с Урицким (комкор Урицкий оказался знатоком своего дела, чувствовалось, что в разведке он, во-первых, не новичок, а во-вторых, за короткое время сумел вникнуть во все детали кропотливой и тонкой работы управления, знал уже каждого своего сотрудника – в общем, комкор новый был не хуже комкора старого), Зорге провели в отдельную комнату, больше похожую на мастерскую, чем на кабинет, где сидел новый радист.
Радист сидел за столом и что-то чинил в небольшом плоском приемнике, в одной руке он держал паяльник, насаженный на толстую кривую проволоку, в другой – блестящую плошку олова, похожую на новенькую монету.
На звук открывающейся двери радист поднял голову.
– Макс! – воскликнул Зорге громко и бросился к столу, обхватил обеими руками плотное тело Клаузена, затряс его обрадованно: – Макс, старый ты койот! Вот сюрприз так сюрприз. Если бы ты знал, как тебя не хватает!
– И для меня это сюрприз. Семен Петрович не сказал, с кем мне придется встретиться.
– Ах ты, Макс, Макс, – растроганно проговорил Зорге, он никак не мог успокоиться.
– Рихард, – влюбленно произнес Клаузен, он тоже не мог успокоиться, сделал несколько восхищенных пасов рукой, хотел сказать что-то еще, но не смог – слова застряли в горле, где-то внутри – ни выковырнуть их, ни проглотить. Да и не нужны они, слова эти. Без них ведь тоже можно обходиться очень легко.
Добираться до Токио им предстояло разными путями: Зорге одним, чете Клаузенов другим, таковы были законы игры.
Перед Катей Рихард чувствовал себя виноватым, очень виноватым, у него в горле даже возникло что-то теплое, зашевелилось, родило жалость к жене и к самому себе, он покрутил головой протестующе, но поделать ничего не мог.
Вечером встал перед женой на колени, обхватил Катю обеими руками за колени, прижался лицом к подолу ее юбки.
– Катя, прости!
Та встревоженно опустилась на кровать.
– Что случилось?
– Мы не сможем поехать в этот раз на юг, поедем в следующий.
Катя вздохнула обиженно, надрывно и затихла. Долго молчала, потом произнесла едва слышно:
– Я так и знала.
– Прости, Катюш, я должен завтра улететь.
– Куда?
Зорге помедлил несколько мгновений – он не имел права этого говорить, потом, махнув рукой, сказал:
– В Берлин.
Как всякий журналист-международник Зорге обладал правом свободного передвижения по миру, имел льготы, или, как принято ныне говорить, «преференции» (модное же обозначилось словечко, прилипло к нашему языку – не отскрести), и это помогало ему уходить от хвостов, да и страховало от всяких мелких разбирательств, которые могли случиться в Германии. Из его проездных документов было видно, что он следует из Японии в Германию через территорию России.
На то, чтобы пересечь в ту пору Россию – из Владивостока до Москвы, – требовалось не менее девяти-десяти суток, а то и больше: слишком велика была страна Россия, точнее – Советский Союз. Никто в Германии не контролировал передвижения Зорге, он мог задержаться где угодно: журналист есть журналист.
Когда Зорге находился в Москве, стало известно, что в Берлине планируется перелет «юнкерса» новой, только что разработанной, но еще неведомой модели, из немецкой столицы в Токио. Стало также известно, что на борт будет приглашено несколько журналистов. Прежде всего тех, чьи имена Германия знает.
В их число надо было попасть во что бы то ни стало. Тем более что имя Зорге в Германии было уже популярно, оно входило в двадцатку наиболее влиятельных журналистских фамилий. Вот Рихарду и поступил приказ немедленно вылететь в Берлин.
Пощупать новый самолет (явно транспортный, предназначенный для военных перевозок, либо того более – способный нести на своем борту бомбы и сбрасывать их на затихшие города), обследовать его своими руками, понять, что за лепешку слепили немецкие конструкторы, было бы неплохо…
Ранним утром Зорге улетел в Берлин. В Берлине обнаружил, что имя его уже включено в списки пассажиров «юнкерса», так что никаких усилий прилагать Рихарду не пришлось: все сложилось само собою и сложилось удачно.
В немецкой печати тем временем появились рекламные статьи о новом «юнкерсе», из них можно было понять, что за машина получилась (совсем немного усилий надобно, чтобы переделать самолет в бомбардировщик) и Зорге стал готовиться к перелету.
На перелет из Берлина в Токио новому «юнкерсу» понадобились сутки, ровно сутки. Естественно, с посадками для заправки.
Сведения о новом «юнкерсе» Зорге незамедлительно передал в Москву. Машина, вышедшая из ангаров конструкторского бюро авиационных заводов «Юнкерс», была приготовлена для войны.
Рихард уже находился в Токио, Москва давно осталась позади, а внутри все еще сидело прочное чувство вины, он ощущал себя виноватым перед Катей – пообещал, что вместе поедут в Крым, а вместо этого очутился на борту немецкого «юнкерса». Жизнь – дама коварная, все время подсовывает какие-то неожиданные штуки, вот и возникают все новые и новые сюжеты…
В один из вечеров он остался один – совсем один в своем маленьком зыбком домике, включил новый приемник, который привез из Берлина, поймал какую-то далекую американскую станцию, передававшую музыку, достал бутылку кальвадоса – французской яблочной водки.
Иногда наступают моменты, когда хочется побыть одному, чтобы рядом не было совершенно никого, осмыслить все, что осталось позади, дать пройденному оценку, привести немного в порядок самого себя, свои мысли, вспомнить прошлое. И чем старше становится человек, тем чаще ощущается в таких уединениях потребность.
Увы, так все мы устроены. Рихард Зорге в этом смысле не был исключением. Водка была вонючей, типично солдатской, только новобранцам ее и дуть. Зорге засунул бутылку в дальний угол бара, достал коньяк. Коньяк должен быть лучше, качественнее кальвадоса, напомнить милую виноградную деревню, в которую они попали после боев во Фландрии, тамошнюю тишь, синее небо и девчонок с пухлыми щеками… Но и коньяк почему-то не пошел – встал в горле поперек, ни туда ни сюда. Ну будто деревяшка. Рихард отодвинул коньяк в сторону, произвел в баре перемещение нескольких посудин и извлек на свет бутылку немецкого грушевого шнапса. Может, он не станет обращаться в деревяшку и не заткнет глотку пробкой?
Интересно, как там Катя в своем купеческом Нижне-Кисловском? По лицу Рихарда пробежала тень, он погрустнел. Неожиданно он услышал, как внизу, на дорожке раздались осторожные мелкие шажки, приподнялся, заглянул в окно, обшарил глазами двор, пробежался глазами по сливовым и вишневым деревьям, росшим на участке, никого не увидел… Неужели звук шагов ему почудился?
Уже дважды, приходя сюда, он обнаруживал, что на столе его кто-то шарил. Служанка шарить не могла, значит, это делал кто-то другой, невидимый, неслышимый, но, несмотря на невидимость и неслышимость, оставляющий следы. Кто же это был? Зорге не выдержал, усмехнулся: ежу понятно, кто…
Рихард уже знал, кто конкретно из сотрудников полиции «кемпетай» сопровождает его в городе – хоть и неприметны были лица, засечь их было несложно. По глазам, например. Несмотря на неприметность, размытость портретов, все сотрудники «кемпетай» имели одинаковые глаза, какие-то замороженные, обращенные внутрь, будто у рыб, которых приготовили для засолки.
Те сотрудники, которые пасли его на улицах Токио, вряд ли могли одновременно забираться в его жилье, шарить там… С другой стороны, Рихарда совершенно не беспокоил интерес «кемпетай» к его персоне. Он специально поинтересовался у Ходзуми Одзаки, что же это за структура – «кемпетай»?
– Очень серьезная организация, – ответил тот, – только почему-то не умеет быть невидимой.
Задача, стоявшая перед этой полицией, могла вызвать недоумение у любого гостя островов: «кемпетай» призвана охранять японский образ жизни от посягательств иностранцев, заботиться о чистоте атмосферы… О «чистоте атмосферы», ни много ни мало. Такой полиции не было ни в одной стране мира. А в Японии была.
Тем временем у двери, врезанной в ограду, выросла темная фигура и, накренившись вперед, начала напряженно всматриваться в окна дома Зорге.
Рихард нажал на выключатель сильной лампы, стоявшей на столе, и приветственно помахал фигуре рукой.
Фигура стремительно исчезла. Рихард выключил лампу.
Вскоре в Токио прибыли супруги Клаузен, Анна и Макс. Участок, который очень беспокоил Зорге, – радиосвязь, слишком много тут было неполадок, – перестал его беспокоить: Макс был раза в четыре расторопнее Бернхарда, технику знал лучше, и главное – был проверен, как никто: все-таки столько лет проработали вместе в Китае.
Ходзуми Одзаки стал своим человеком в правительственных коридорах, его слава лучшего специалиста по Китаю была утверждена официально.
Иотоку Мияги сделался знаменитым художником, на сеансы к нему выстраивались в очередь не только капитаны с майорами – теперь в большинстве своем в очереди толклись генералы: в их среде считалось за честь иметь дома портрет кисти Мияги.
Многие теоретические выкладки, предположения, планы, еще не утвержденные, о которых в правительственных кабинетах узнавал Одзаки, получали подтверждения в беседах художника со своими «натурщиками» – Мияги работал очень плодотворно.
Ну и Бранко Вукелич, который каждый день – с завидной регулярностью – появлялся во французском посольстве, получал там все новейшие сведения из Европы, в том числе и секретные – по части секретов французы проявляли традиционное легкомыслие, иногда бумажку, украшенную жирным грифом «секретно», вообще можно было найти в коридоре, валяющуюся на ковровой дорожке, – Вукелич был еще одной ступенью проверки материалов, которые Зорге отправлял в Центр.
Группа Рамзая работала, как маленький завод, – каждый механизм знал свое место, каждый болт был тщательно смазан, каждая передача (не обязательно зубчатая) находилась под ежеминутным наблюдением.
Из Москвы, от Урицкого иногда в Токио приходили восторженные шифровки: «Молодцы!» Случалось, шифровки были расширенные…
Раз в неделю Зорге ездил на берег моря – купаться. Выбирал у кромки уединенное место, где к воде подступали какие-нибудь кусты, камни, либо нависал круто срезанный земляной откос, облюбованный чайками, расстилал плотное домотканое полотнище, раскладывал на нем вещи и входил в теплую желтоватую воду.
Купаться он предпочитал один – стеснялся искалеченной ноги, синеватых, в багровость, шрамов, хромоты, хотя когда был наряжен в костюм, хромоты своей не стеснялся.
Впрочем, у каждого человека имеются свои слабости. Были они, естественно, и у Зорге.
Впрочем, через некоторое время стеснительность, – Вукелич назвал ее ложной, – отступила назад, и Зорге начал появляться на берегу залива с кем-нибудь из близких людей, с тем же Бранко Вукеличем или Максом Клаузеном.
Эти визиты к морю прибавляли Рихарду сил, у него даже глаза становились иными, делались теплыми, какими-то мягкими, словно бы в них натекал домашний свет… Час, всего один час, проведенный на море, очень много давал Рихарду, в Токио он возвращался другим человеком.
Погода в Токио в том году баловала жителей: дождей летом было мало, токийцы думали, что они возьмут свое осенью – не взяли, осень тоже выдалась сухая и солнечная, пахнущая по-весеннему – распустившимися цветами, медом и еще чем-то, наверное, только одной Японии и присущим.
Зорге, как всегда, приехал в посольство утром – три раза в неделю, ночью, в Токио прибывал самолет из Германии, привозил почту, в том числе и последние немецкие газеты «Франкфуртер цайтунг», «Берлинер берзенцайтунг», «Фелькишер беобахтер», «Ангрифф», «Теглихе рундшау», «Фоссише цайтунг» и много чего еще, на что в Берлине Зорге никогда бы не обратил внимания, а здесь приходилось обращать.
Рихард стремился первым прочитать привезенные газеты, особенно те, в которых были напечатаны его статьи – это было очень важно, как было важно знать и другое: сильно ли его покурочили при редактировании?
В этот раз Зорге появился в посольстве раньше обычного – вчера до двенадцати ночи просидел над большой статьей, заказанной генералом Хаусхофером для журнала «Цайтшрифт фюр геополитик», а потом долго не мог уснуть. Такое бывало с Зорге и раньше, когда выпадали перегрузки (а всякая срочная статья – это перегрузка, иногда ведь приходится работать до середины ночи, чтобы утром передать материал), поэтому без таблетки снотворного уснуть было нельзя.
Иногда же происходило обратное – Рихард засыпал легко, но очень быстро просыпался, будто его кто-то толкал кулаком в бок, и долго лежал с открытыми глазами, хлопал ими впустую, никак не мог забыться. Очень часто так лежал до самого утра.
Произошло это и на сей раз: не смог уснуть до самого светла, когда на небо вскарабкалось чистое, словно только что умытое солнце, улыбнулось ободряюще. Зорге сунул в рот пустую трубку (он чередовал сигары, трубку и сигареты), пососал ее немного, затягиваясь холодным горьким духом, и решительно сбросил ноги с постели на пол. Поскольку уже пришла домработница – птица очень ранняя, то скоро Зорге забрался в бочку с теплой водой, а потом, наскоро позавтракав, сел в машину, разогрел мотор и покатил в посольство.
Первый человек, которого Зорге увидел в посольском коридоре, был… нет, этого быть не может! Зорге неверяще протер глаза, с сомнением качнул головой – не мог прийти в себя от крайнего удивления… Это был Эйген Отт.
Наряжен Отт был в новенький полковничий мундир с витыми погонами на плечах, сработанными из чистого серебра.
– Не верю, – проговорил Зорге, улыбнулся широко, – глазам своим не верю!
– Я это, я, Рихард, – сказал Отт. – Мы с Хельмой вернулись в Токио. Я получил новое назначение.
– Какое же, если не секрет?
– Военный атташе посольства, – с гордостью сообщил Отт.
– Поздравляю, – Рихард с протянутой рукой шагнул к нему, – для меня это очень приятная новость. – Зорге хотел обойтись одним рукопожатием, но Отт потянулся к нему – обнял, обхватил за плечи.
Рихард ответил на объятие, похлопал Отта рукой по спине, ощутил сильный запах одеколона, исходящий от полковника – видать, Хельма вылила на мужа целый душ сладких запахов, – похлопал еще раз.
– Несколько дней мне понадобится на обустройство, – сказал Отт, – а потом мы с Хельмой пригласим тебя на новоселье. Придешь?
– А как же, – произнес Зорге почти автоматически, вспомнил про ночные визиты Хельмы к нему, вспомнил жар, исходивший от ее тела, и по лицу Рихарда пробежала едва приметная тень. – Обязательно приду!
Отт улыбнулся неожиданно торжествующе, приятельски хлопнул Рихарда по плечу и ушел, гордо задрав тяжелый волевой подбородок. Зорге тоже улыбнулся: а ведь он не промахнулся, сделал точный выбор, пойдя на сближение с семьей Отт – Бодевиг – быть приятелем военного атташе для каждого разведчика очень много значит…
Понятный сюрприз ожидал его и при просмотре свежих газет, прибывших из Германии: были опубликованы две его статьи, посвященные Японии и Дальнему Востоку, обе вышли несокращенными, хотя издатели всех газет мира – исключений нет – жалуются на нехватку места на полосах и материалы рубят совершенно нещадно. Рихарда эта напасть обошла. Действительно, очень приятный сюрприз.
Подарок на новоселье Зорге сделал дорогой: преподнес супругам статуэтку, отлитую из тяжелой старой бронзы, литье было очень тонким, с пластичными, какими-то неземными линиями и выразительными формами, рассчитанными на долгое любование этим произведением искусства, статуэтка буквально привораживала к себе, заставляла смотреть и смотреть на нее, и взгляд от этого нисколько не уставал.
Хотя часто – и это присуще европейским работам, – взгляд обычно быстро замыливается, и на прекрасные формы какого-нибудь чугунного испанского или итальянского изображения смотреть долго не хочется.
Это была статуэтка древнего повелителя охоты, который вместе со своим приятелем и двумя собаками решил отметить очередную победу в китайских лесах: завалили гигантского марала…
Отт, приняв статуэтку, несколько минут молчал, потом поцеловал ее и восхищенно поцокал языком.
– Спасибо, Рихард. Этот подарок – самый дорогой из всех, что я получал в последние годы. В китайской миниатюрной скульптуре я кое-что смыслю, поверь мне.
Рихард учтиво наклонил голову, подумал, что Отт немало времени провел в Маньчжоу-Го, воевал там, был советником командира артиллерийского полка, испытывал в деле крупповские пушки – из Маньчжоу-Го через любую щель, даже очень малую, можно было легко протиснуться в Китай… Но чтобы Отт был специалистом по китайскому литью – этого Зорге не обнаружил даже в секретных сведениях, посвященных Отту, которые ему прислали из Москвы.
– Я тоже занимался Китаем, Эйген, – сказал он, – более того – проработал там несколько лет… Это были очень интересные годы.
– Китай был лучшим полигоном для испытания нашей техники, – сделал обычное для себя признание Отт.
Рихард знал это не хуже Отта, но признание полковника оценил. Более того – уловил некий добрый знак: в будущем полковник может оказаться очень ценным информатором.
Новоселье отмечали втроем – Отт не пригласил к себе даже сотрудников военного атташата, видать, имел для этого основания – либо не знал их совсем, не успел этого сделать, либо все они проштрафились перед ним. А сотрудников в военном атташате, как знал Зорге, было немало: кроме полковника еще человек шесть. Половина – с дипломатическими паспортами.
Отт предложил Рихарду посостязаться: кто больше выпьет берлинского шнапса? Зорге удивленно глянул на него: это что, шутка? Увидел тяжелые, совершенно трезвые, с льдинками, застывшими внутри, глаза, понял – это не шутка, и согласился с легким смешком:
– Давай посоревнуемся, Эйген.
– В России я видел, как мужики пьют водку стаканами…
В России Отт бывал проездом и не более того, может быть, задерживался где-нибудь в Сибири на сутки или двое, и все. Неужели он успел увидеть, как пьют водку настоящие русские мужики?
– Я так понял, Эйген, – на лице Зорге возникла вежливая улыбка, – ты предлагаешь нам повторить подвиг русских мужиков?
– А почему бы и нет? – Отт упрямо хмыкнул и взялся за бутылку.
Зорге посмотрел на Хельму. Та молчала, но взгляд ее был наполнен интересом: похоже, она никогда не видела мужа таким.
Отт наполнил два стакана желтоватым, тягучим, как ликер, шнапсом. Рихард подумал, что русскую водку пить все-таки легче, чем немецкий шнапс, пахнущий горелой травой.
– Прозит! – торжественно произнес Отт и поднял свой стакан. Несмотря на торжественность голоса, лицо его ничего не выражало, будто полковник каждый день дул шнапс стаканами.
Тяжело и сосредоточенно – все-таки работенка эта была непривычной – Отт выпил свой стакан и приложил к губам тыльную сторону ладони, промокнул рот.
Раздались громкие хлопки – мужу аплодировала Хельма.
– Браво, Эйген! – Хельма перевела взгляд на Рихарда. – Битте – в порядке очереди.
Зорге поднял свой стакан, удивленно качнул головой, словно бы не верил в происходящее, и неторопливыми глотками осушил свой стакан.
Хельма вновь громко захлопала в ладони:
– Браво!
Приподняв одну бровь, Отт набычил голову и налил по второму стакану шнапса, помял пальцами кадык, словно проверял его надежность, проговорил сиплым от напряжения голосом:
– Чтоб от повторения не было головной боли.
– Хорошее пожелание, – невольно хмыкнул Зорге, – грамотное, – и, опережая Отта, первым взялся за стакан.
– За нашу великую Германию! – произнес Отт.
Кивнув, Зорге поднес стакан ко рту, выпил. Легко выпил, да и нельзя было показать сопернику, что за будущее великой Германии он пьет натуженно, с неохотой, словно бы ожидая, что его вот-вот вывернет наизнанку.
Полковник звонко щелкнул каблуками под столом и, подняв свой стакан, произнес четко:
– Прозит!
Со вторым стаканом Отт справился, как и с первым, без особых приключений, а вот с третьим дело пошло хуже, третий стакан полез из него наружу, полковник не одолел его, вылил на пол, Хельма подвела мужа к дивану, и Отт со всего маху саданулся об него спиной. Через несколько мгновений гулко, давясь собственным языком, захрапел.
Вот и кончилось новоселье. Грубо, примитивно, но зато прозрачно, понятно – все точки, все запятые расставлены по своим местам.
Хельма подсела к столу, положила свою руку на руку Рихарда. Взгляд ее был многозначительным, но Зорге отрицательно помотал перед собой ладонью:
– Не сейчас и не здесь.
На прощание окинул взглядом стол, посреди которого красовалась роскошная старая статуэтка – его подарок, – кто знает, может, ее и не человек изваял, а кто-то другой, гостивший в нашем бренном мире… Такое тоже могло быть. Зорге с тихой улыбкой подмигнул роскошной статуэтке – жалко было расставаться с нею, а с другой стороны, всегда надо дарить вещи, с которыми расставаться жалко, только такие подарки можно считать дорогими, – и, молча поцеловав руку Хельме, ушел.
Сквозь сон Зорге услышал, как совсем недалеко, буквально в соседнем квартале, раздался пистолетный выстрел, за ним второй, потом третий, затем два раза подряд ударили из «арисаки» – японской винтовки, очень неплохой, между прочим, – не такой, правда, неприхотливой, как русская мосинская трехлинейка, но способной спорить с немецким «маузером». Зорге открыл глаза, приподнял голову: непонятно было, что происходит.
Военные учения? Но какие могут быть учения на городских улицах? Сделалось тревожно, внутри возник и тут же исчез холод – Рихард задавил его в себе.
Через несколько секунд вновь зазвучали пистолетные хлопки. Более того, выстрелы звучали не только в квартале, где жил Зорге, они вспарывали темноту и далеко отсюда, в глубине города.
В Токио что-то происходило, но что именно – узнать можно будет только утром. Сейчас узнавать опасно: сунешься, не зная брода, в ночь, и схлопочешь слепую пулю в голову. Такие пули почему-то очень любят смельчаков. Рихард поднес к глазам часы со светящимися фосфорными стрелками: было четыре тридцать утра.
Что происходит в городе?
Выстрелы, раздававшиеся неподалеку, стихли, зато усилилась стрельба в глубине Токио. Она звучала сразу в нескольких местах. Зорге сунул руку в тумбочку – здесь ли его старый верный пистолет? Пистолет находился на месте. Зорге взял его в руку, подержал немного на весу. Правы те, кто говорит, что оружие придает человеку смелость. Невелика штука – карманный пистолет, а Зорге ощутил себя с ним увереннее.
Надо было ждать утра, рассвета. А рассвет в холодном февральском мраке (стояла зима тридцать шестого года) наступает поздно, ночь сопротивляется до упора.
Японская верхушка разбита, как было ведомо Рихарду, на две большие группировки (были еще и маленькие группы, но это так, мелочь, пшено для корма голубей), преследовавшими полярные интересы.
Одна группировка, умеренная, была против войны с Советским Союзом, против немедленного выступления: дескать, Япония еще слабовата, кашляет, может не проглотить большой пряник, и тогда уже никакой врач не вылечит от капитального запора – это надо было обязательно иметь в виду… Пусть вначале вмешается Запад, пусть поразмахивает кулаками Германия, пусть произойдет что-нибудь еще, вот тогда мы и подумаем, что следует сделать… А пока… Руководил этой «спокойной» группировкой князь Сайондзи – главный советник японского императора, человек весьма старый для того, чтобы чем-то или кем-то руководить – ему было девяносто лет.
Второй группировкой, более резкой, настырной, командовал генерал Садако Араки. В прошлом Араки был министром обороны, считался отцом фашизма на островах, потом, отправленный, а точнее, выброшенный пинком в отставку, возглавил горластое движение «Молодое офицерство», которому, как считали старики, моча едва ли не ежедневно била в голову.
Кстати, в отставку Араки ушел не без помощи князя Сайондзи. Для того чтобы ненавидеть Россию, у Араки имелись свои причины: говорят, еще в шестнадцатом году он был арестован в Иркутске по подозрению в шпионаже. Генералу надо бы благодарить русских до конца дней своих, в ноги кланяться, что они его не расстреляли или того пуще – не вздернули на ветке засиженного воронами дерева, – а он вместо благодарности начал размахивать суковатой дубиной… Дур-рак!
С той поры ненависть к России поселилась у Араки в крови. Он разработал план поэтапной, так называемой континентальной войны: для начала захватить Монголию и советское Приморье, а потом все остальное. На юг уйти – вплоть до Индии… Там – вымыть в океане свои ботинки и краги соленой водой, постучать по голубым волнам стальным стеком и с видом властелина мира сунуть в зубы сигару, выкурив ее, снова устремиться на север, крушить Советы. И все было бы ничего, если б Араки сидел у себя дома в бочке с теплой водой и драил намыленной мочалкой лысую голову и никуда за пределы своего двора не совался, но он требовал немедленно начать военные действия.
– Нельзя упускать время, ни минуты нельзя, – орал он оглашенно, – промедление с каждым днем уменьшает шансы Японии на победу.
Любопытствующие интересовались: этот человек что, переел острого перца, и никто не подает ему стакана воды, чтобы погасить в желудке пламя? Если приглядеться повнимательнее, то на губах у него в минуты наиболее громкого ора выступала пена.
Пена на губах генерала появлялась и когда он агитировал за союз Японии с гитлеровской Германией, а уши делались потными. Странная физиологическая особенность была присуща генералу – потеть неимоверно, будто весь он был наполнен потом. И лез пот из него во все поры и щели.
«Если группировка Садао Араки победит – будет война, – печально отметил Зорге, – это понятно даже головастикам в императорских прудах».
Утром Зорге узнал, что «Молодые офицеры», руководимые неугомонным генералом, решились на мятеж и очень быстро захватили несколько центральных районов Токио. Впрочем, через час стало известно, что Араки все-таки не решился открыто возглавить мятеж, руководил им «из-за угла».
«Чует старый скунс, что собака может укусить его за пипку», – невольно усмехнулся Зорге.
Еще через полчаса пришла очередная новость: мятежников не поддержали командные чины военно-морского флота, ни один человек – вплоть до младших офицеров.
Новость была ободряющая, хотя говорить о поражении «старого скунса» было еще рано.
Следующая весть также оказалась ободряющей: большинство провинциальных гарнизонов открестилось от «Молодых офицеров».
Прошло еще немного времени, и стала известна точка зрения магнатов, державших в своих руках всю промышленность и финансы островов, – и эта новость оказалась главной, она подвела черту под мятежом.
– Время большой войны еще не наступило, – заявили «толстые японские кошельки», – надо подождать.
Почти одновременно с этим заявлением – еще одна увесистая оплеуха, загнавшая Араки в замусоренные кусты: его коллеги-генералы заявили, что готовы к войне на Тихом океане – на суше и на море, а вот чтобы лезть на запад, на север, нападать на Советы – тут извините, к такому походу нужно подготовиться. «Лучше мы будем держать оборону на Сахалине до часа “икс”, а там… там посмотрим», – заявили коллеги генерала Араки.
Араки, узнав об этом сидючи в кустах, чуть в брюхо себе столовый ножик не всадил – это был окончательный проигрыш. Вместо Араки животы себе вспороли другие люди – члены организации «Молодые офицеры».
В немецком посольстве не были готовы к такому исходу событий, тут откровенно поддерживали «Молодых офицеров» – сотрудники Отта вначале рвали на себе волосы, а потом стали глушить шнапс. Причем делали это нисколько не хуже своего шефа – правда, так же, как и шеф, могли одолеть не свыше двух стаканов, на большее просто не тянули – отключались. Отключились и на этот раз.
Зорге поспешил встретиться с Ходзуми Одзаки: важно было знать его точку зрения – это раз, и два – наверняка у Ходзуми есть информация, которая еще не дошла до Зорге.
Одзаки был печален, кутался в пальто с поднятым воротником, к носу прикладывал платок.
– Простудился, – пожаловался он, – на ровном месте…
В ответ Зорге понимающе кивнул.
– На ровном месте простужаются точно так же, как и на неровном.
– Ситуация пока еще очень тревожная, – сказал Ходзуми, – захвачены и пока еще не освобождены очень важные объекты: резиденция премьер-министра, телеграф, телефонная станция, полицейское управление. Много убитых. Генералы, адмиралы, министры…
– Премьер-министр жив? – спросил Зорге.
– Да, адмирал Окада жив. Спасся случайно – забрался в гроб своего шурина – у него были похороны. Это и спасло адмирала.
– Ничего себе баварские колбаски, которые подали к пиву вместе с сахаром и повидлом, а про горчицу забыли. – Зорге удрученно покачал головой.
– Убит генерал Дзетаро Ватанабэ – прославленный человек, герой Японии, – об этом имени Зорге слышал много раз, Ватанабэ был главным инспектором обучения японской армии, – убит генерал Тецедзана Нагата, – Ходзуми загнул на левой руке два пальца, глянул на них незряче и печально, Нагата был начальником департамента в военном ведомстве, – убит министр финансов Такахаси и лорд-хранитель печати адмирал Сайто, – Ходзуми загнул на левой руке еще два пальца. – Заговорщики пока не унимаются. Но верх они не возьмут. – Ходзуми отрицательно покачал головой.
– Это и ежу понятно, – произнес Зорге фразу, совсем непонятную для Ходзуми, споткнулся: разные сорные слова прилипают к нему мертво, очень любят Рихарда, он удрученно хмыкнул: нет бы вместо ежа упомянуть Орлеанскую деву, маршала Мюрата, давно лежащих в гробу, или королей делового района Токио Маруноуци, но он зациклился на еже… Тьфу! А жизнь королей понятна всем. В Японии есть милое словечко «дзайбацу», состоящее из двух половинок-иероглифов: «дзай» – это деньги, «бацу» – род, семья, клан, в итоге получается «клан богатых». Бери любое имя из этого клана и используй хоть налево, хоть направо – поубедительнее ежа будет. И чего это привязалась к нему мусорная фраза? Заминка была короткой, Ходзуми ничего не заметил. – Да, ежу понятно, – сказал Зорге, – ведь заговорщиков не поддержал ни один из японских гарнизонов.
– Главное не это, главное – мятеж не поддержал ни один из толстых кошельков. Ни богатеи Гинзы, ни миллиардеры Маруноуци, а это – извините… – Ходзуми красноречиво развел руки в стороны.
Значит, все четыре кита, на которых держится экономика Японии, «Мицубиси», «Мицуи», «Самотомо» и «Ясуда» отвернулись от «Молодых офицеров». А это конец – тем остается только одно: браться за ножи и выпрастывать себе кишки. Финита!
– Ну что, «Молодые офицеры» сами выбрали себе судьбу, заказали харакири и им преподнесли это кушанье на фарфоровом блюде с красной каемкой – под цвет крови. Сверху положили жертвенный ножик.
– Жалко только, Араки себе этого не сделает, – произнес Ходзуми тихо, – молодые дураки при офицерских звездочках это сделают, а он нет. Плохо то, что от этого заговора будет хуже всей Японии. Прежний кабинет министров уйдет в отставку, его место займет новый кабинет – фашистской ориентации.
– Но фашист Араки свою партию проиграл, – не удержался Зорге от восклицания, – у него не осталось ни одной козырной карты…
– И обычных карт нормального достоинства – тоже. Только вот новый кабинет министров – я не знаю, кто станет его главой, – будет обязательно сориентирован на фашизм. Отдаю руку на отсечение, Рихард.
Зорге поскреб пальцами щеку – что-то там начало дергаться: то ли нервы вконец истерлись, то ли еще что-то, следом в висках возникла боль: вначале в правом, потом в левом, – он невольно вздохнул:
– А иного расклада быть не может?
– Не может. Совершенно исключено, Рихард. Если произойдет это, я назову лучшие аналитические умы Японии обычными детскими пустышками.
Они прогуливались по аллее небольшого зеленого сквера. Чем хорош Токио – здесь много зелени, много уютных тихих скверов, всюду расставлены скамейки, где можно посидеть, переговорить. Зелени, в общем, столько, что зимний месяц февраль совсем не чувствуется. Сквозь ветки деревьев была видна высокая, сложенная из красного прокаленного кирпича башня университета Васэда.
Впереди по дорожке шел пожилой японец в песочном шерстяном пальто, держа под руку маленькую скорбную женщину с седой непокрытой головой.
Пара была трогательная, пожилой человек, похоже, был любящим сыном, седая старушка – матерью, сын не отступал от матери ни на шаг, предупреждал каждое ее движение, свои шаги старался подладить под ее мелкую семенящую поступь, Ходзуми даже замолчал, глядя на эту пару, глаза его потеплели. Зорге тоже умолк.
– Сядем на скамейку, – через минуту предложил Ходзуми, шумно втянул в ноздри воздух. – Мимоза цветет… Весна. Честно говоря, я уже забыл, как цветет мимоза, – на лице Одзаки возникло что-то жалобное, словно бы он жалел самого себя, но это выражение тут же исчезло: он был не из тех людей, которые позволяют, чтобы их жалели, – все работа, работа, работа… В детстве я любил мимозу больше всего, много больше других цветов.
По календарю еще была зима, но в Токио цвела уже не только мимоза: подле каждого дома, на каждом пятаке земли, даже если это был голый твердый камень, обязательно что-то цвело – камни обставляли глиняными кюветками, а в кюветке можно вырастить что угодно, даже баобаб. Каких только растений, каких только цветов не было у порогов здешних домов!
Зорге продолжал обдумывать информацию, полученную от Ходзуми. Выходит, любой поворот в политической жизни нынешней Японии, каким бы он ни был, будет хуже для Советского Союза. Все только темное и ничего светлого.
Пожилой японец со старушкой удалялись от них в сторону университета Васэда, к выходу из сквера – ажурная чугунная калитка уже была видна. Неожиданно сбоку, из кустов, на дорожку выскочили двое крепкотелых плечистых людей, одетых в темные рабочие комбинезоны, и выхватили пистолеты.
В то же мгновение прогремели два выстрела, почти слившиеся в один.
Пожилой мужчина остановился, недоуменно повернулся к стрелявшим и, по-птичьи раскинув руки в стороны, упал на дорожку лицом вниз. Седая женщина, сильно кренясь на один бок, проковыляла немного вперед и, сделав несколько кривых угасающих шажков, также ткнулась головой в дорожку.
Люди в комбинезонах подбежали к упавшим, сделали по одному выстрелу в голову и молниеносно исчезли. Ходзуми, сорвавшись со скамейки, подбежал к мужчине, перевернул его.
– Я перевяжу вас, помогу…
А у мужчины на глаза уже начала наползать сизая муть – он был мертв. Ходзаки с побелевшим лицом откинулся от него.
– Ты должен знать этого человека, Рихард.
Зорге отрицательно покачал головой.
– Не знаю.
– Главный редактор профсоюзной газеты. – Ходзуми, сморщившись болезненно, перекатился к седой старушке.
Та также была мертва.
– Вот так «Молодые офицеры» расправляются со своими политическими противниками, – тихо проговорил Одзаки.
В те дни Зорге передал в Москву несколько пространных радиограмм, в том числе и аналитический прогноз на ближайшее будущее: что ждет Японию в марте и апреле и каким боком обернется сложившаяся ситуация для Советского Союза.
Клаузен сумел собрать маленький переноской передатчик, состоящий из трех блоков, новая машинка легко собиралась и так же легко разбиралась, Анна совала ее в продуктовую кошелку, накрывала шелковой салфеткой, сверху укладывала зелень и без особых сложностей добиралась до любого конца города.
Макс, который к этому времени стал солидным бизнесменом, заделался владельцем целой конторы, торгующей дорогими фотоаппаратами (и не только ими), исправно платил налоги, завел массу знакомств, снял – за счет фирмы, естественно, – несколько квартир в различных районах Токио и теперь каждый раз вел передачу с новой точки. Макс, опытный человек, кожей своей, макушкой, затылком ощущал, что с первой же минуты пребывания в Токио находится под плотным колпаком. И неважно, чей колпак это был, политической полиции или полиции нравов, «кемпетай» либо службы охраны императора, важно, что Клаузен ощущал этот колпак, ему было душно, иногда даже было нечем дышать, вот ведь как. И Зорге этот плотный колпак чувствовал, и Анна, и Бранко Вукелич – все, словом (другие иностранцы также не были исключением – их тоже держали под колпаком), и вели себя соответственно – шпиков старались особо не дразнить, но и при случае спуска не давали, всем существом своим показывали, что видят их, слышат, чуют и вообще не намерены подпускать к себе близко – от таких людей надо держаться на расстоянии.
Нужно отдать должное агентам всех мастей и всех служб Токио – на враждебное отношение иностранцев к ним они старались не реагировать, хотя все засекали и запоминали, но до поры до времени все прятали в далекий ящик.
На всякий случай Макс вел себя с агентами аккуратно, при встрече с ними обворожительно улыбался, засовывал себе в рот пустой мундштук и с вкусным чмоканьем посасывал его.
Сообщения по радио он передавал с пулеметной скоростью, делал это раза в три быстрее нерасторопного, невозмутимого, как старая скала, Бернхарда. В Москве не преминули отметить, что с появлением нового радиста (точнее, старого, ведь в Китае Зорге успел съесть с Максом не менее двух пудов соли) группа Рамзая стала работать много продуктивнее.
Из Центра поступило очередное «одобрямс» Семена Петровича Урицкого:
– Молодцы, ребята! – Сообщение это пришло, естественно, зашифрованным.
Хотя «Молодые офицеры» и продули свою партию вчистую, и мятеж был задавлен вроде бы в корне, даже отростков не осталось, а март в Токио выдался беспокойным: по ночам звучали выстрелы, в скверах находили убитых людей, в своих домах были застрелены несколько крупных военных – приверженцев «группы умеренных», было сожжено несколько жилых зданий – жизнь, в общем, была очень тревожной.
Затихло все лишь в апреле, в середине месяца. Уже и правительство новое работало вовсю, и программу свою обнародовало (Одзаки оказался прав – Япония стала ориентироваться на фашистскую Германию, других друзей у нее не оказалось), а выстрелы все звучали и звучали…
А в середине апреля как отрубило, не раздалось больше ни одного пистолетного хлопка, даже случайного.
Глава нового кабинета министров Коки Хирота заявил, что намерен начать серьезные переговоры с Германией – пора заключать с Гитлером пакт. И это будет не просто пакт, а стальная ось «Европа – Азия», на которую окажется насажен весь земной шар, все страны.
Хирота был в Советском Союзе фигурой известной. И взгляды его, и устремления также были хорошо известны. Несколько лет он проработал в Москве в качестве посла, потом получил портфель министра иностранных дел островов, – Урицкий, когда Зорге общался с ним перед последним отъездом на место, сказал, что на этом человеке пробы ставить негде. Увы, так оно и было.
Теплым апрельским вечером в небольшом ресторанчике «Розовое облако, освещенное первыми лучами солнца», славящимся своим домашним пивом, – его варили прямо в подвале ресторана, делал это настоящий умелец, мастер не только по пиву, но и винам – гнал дивные вина из слив, черешни, малины – плодов и ягод известных, а также вина очень редкие, из горной земляники, например.
– Давно мы не виделись, Эйген, – произнес Зорге укоризненно, – а еще, называется, друзья.
– Чертова работа, – Отт выругался, – она перечеркивает всю личную жизнь, – поднял кружку, наполненную темным густым пивом. – Пиво ведь имеет отношение к личной жизни?
– Самое прямое, – ответил Зорге с невозмутимым лицом.
– У меня полным полно очень ответственных заданий, – пожаловался Отт, – оттуда вон, – он потыкал мокрым от пива пальцем вверх, – из канцелярии самого фюрера.
– Это хорошо, Эйген, но про ужины с друзьями все равно не надо забывать.
– Виноват! – Отт поднес кружку ко рту и в один присест, махом, осушил ее до дна. – Критику признаю.
К их столу поспешно подскочил официант и вновь наполнил кружку Отта пивом. Эйген немедленно ухватил кружку за ручку и опять поднес ее к губам, но пить не стал, лишь затянулся дразнящим крепким духом пива и пробормотал восхищенно:
– Ну просто райский запах! Аро-ма-ат.
– Вряд ли рай пахнет пивом, – насмешливо сощурился Зорге, – там, согласно Библии, совсем другие ароматы. А насчет остального все так и есть – здесь варят лучшее в Токио домашнее пиво. Запах у него – соответственный.
– Про заявление Хироты слышал? – спросил Отт.
– Насчет заключения пакта с рейхом? Да. Надо сделать все зависящее, чтобы это произошло как можно скорее.
– Ко мне пришло секретное поручение из Берлина, – Отт понизил голос и оглянулся, – прощупать, насколько серьезны намерения Хироты.
– Мне кажется, Эйген, они серьезны.
– А Берлину так не кажется, Рихард, – проговорил Отт неожиданно обиженно. – Мне нужна твоя помощь.
– Всегда готов, Эйген.
– У тебя большие связи в Токио, Рихард…
– Не преувеличивай, Эйген, – Зорге сделал предостерегающий от захваливаний жест, – перестань!
– Я говорю, что знаю. Помоги мне, Рихард, по своим каналам узнать, насколько Хирота искренен и как далеко готов пойти.
– Нет проблем, Эйген. Сделаю все, что ты скажешь.
– Только имей в виду – об этом поручении не знает даже посол Дирксен.
Это было что-то новое: берлинские вояки действовали в обход даже самого посла, хотя посол был «их» человеком и все уши прожужжал токийцам, рассуждая в своих интервью о «сердечном сближении арийцев и самураев». Значит, в обход посла… Зорге отметил этот факт как особенный – раньше такого не было.
Раз Дирксена исключили из игры, значит, задание Отт получил напрямую от военного министерства либо от генерального штаба. Вполне возможно, об этом поручении знает сам Гитлер.
Залпом выпив вторую кружку пива, – Отт умел делать это очень лихо, чувствовалось: прошел он хорошую школу, – полковник вновь подставил ее под кувшин, с которым поспешно подскочил официант, одобрительно наклонил голову:
– Лей, не жалей!
Официант вылил из стеклянного коричневого кувшина остатки – кружку наполнил всклень, – остатки эти были «самые сладкие», как водится…
– Прошу повторить, – попросил Зорге по-японски.
Официант принес второй кувшин, пиво в нем было ледяным.
– Не пойму, как они умудряются держать пиво таким холодным, – недоуменно пробормотал Отт.
– Здесь в каждом ресторане, даже самом маленьком, есть свой ледник, – пояснил Зорге, – иначе говоря, яма, набитая кусками льда, в ней все и хранится.
– Но ведь лед надо еще где-то достать…
– Его привозят с севера, как правило, с Сахалина.
Отт выпил кружку, попробовал свежего пива, только что принесенного, и вкусно почмокал губами:
– Восхитительно!
Ночью Клаузен передал радиограмму в Москву – сообщение Отта представляло в первую очередь политический интерес и только во вторую – оперативный, и остался ночевать на съемной квартире вместе с радиопередатчиком.
– И так всю жизнь, – с грустной улыбкой произнес он, укладываясь в холодную постель.
О полковнике Осаки в Токио слышали многие, только мало кто знал его в лицо. В военной форме он появлялся на людях очень редко, ходил в основном в штатском, носил небольшие ухоженные усики, этакие две шелковистые нашлепки «а-ля фюрер», дружил с шефом немецкой колонии, который был партийным секретарем и одновременно коллегой Рихарда Зорге – возглавлял отделение германского телеграфного агентства ДНБ, – и вообще преклонялся перед всем немецким.
Полковника легко можно было перепутать со служащим какого-нибудь банка, с крупье малоприметного казино или с владельцем магазинчика свежей рыбы, – внешность его была такова, что запоминалась с большим трудом.
Собственно, люди его профессии просто обязаны иметь такую внешность: Осаки был шефом токийской контрразведки.
Два месяца назад его сотрудники, работавшие на стационарных пеленгаторах, засекли радиопередачу, которую вели из центра города. Передачу записали, подивились многомудрой цифири, которой набралось несколько листов, отдали специалистам по дешифровке, но сделать что-либо большее не сумели: нужна была особая техника – это раз, и два – над шифром надо было очень здорово поломать голову.
Через два дня тот же самый радиопередатчик, с тем же «голосом», был засечен в другом районе Токио.
Передача велась в глухие предутренние часы, перед самым рассветом. Осаки попробовал блокировать район, где был засечен «пианист», но попытка закончилась ничем.
Это вызвало у полковника приступ головной боли, который он погасил несколькими порошками лекарства и двумя стаканами противно теплой воды. Головная боль исчезла, но на смену ей пришло дурное настроение, кроме того – во рту появился какой-то странный свинцовый привкус, будто весь день он ел вредный окислившийся металл… Тьфу!
Он подержал в руках листки с ровными столбиками цифр, расположенными, как иероглифы, поморщился от досады – а ведь эта цифирь несет важный смысл, информацию, от которой, может быть, зависит судьба Японии, может, сухая цифирь эта очень опасна, а он ничего не может сделать.
Вздохнув тяжко, Осаки нажал на кнопку вызова, тяжелая дверь неторопливо приоткрылась, и в проеме показалось бледное лицо секретарши.
– Начальника шифровального отдела ко мне! – потребовал полковник.
Секретарша молча поклонилась и исчезла. Полковник сжал кулаки, постучал ими по столу – он ощущал свою беспомощность, от которой даже тело становилось слабым, чужим, старческим, но поделать ничего не мог. Осаки не узнавал себя – это был он и одновременно не он.
В тяжелую дверь протиснулся начальник шифровального отдела. Дешифровщики – специалисты, способные перевести непонятный набор цифр на знакомый язык иероглифов, находились в его подчинении.
– Сколько времени потребуется на расшифровку этого вот… – полковник поднял над столом несколько исчерканных цифрами листков и разжал пальцы. Листки белыми птицами разлетелись по столу, замерли. Начальник шифровального отдела проследил за ними зачарованными глазами и переступил с ноги на ногу, словно провинившийся школьник.
– Не знаю, господин полковник, – повышенным нервным голосом проговорил он, – работаем. Вся группа работает, но пока… – Он замолчал и красноречиво приподнял плечи.
– Месяца вам хватит? – нетерпеливо произнес Осаки. – Двух месяцев?
Начальник шифровального отдела неопределенно покачал головой – этого он не знал. Осаки с досадою махнул рукой, выпроваживая неумеху из кабинета. Тот едва ли не бегом посеменил к двери – в кабинете шефа было холодно, едва ли не до костей пробирала какая-то сырая могильная студь, от нее по коже бегали колючие насекомые, кусались, в груди застывал холод.
Ясно было, что и в месяц, и в два месяца начальник шифровального отдела не уложится, хотя под его крылом были собраны лучшие специалисты со всей Японии. Что делать?
Что делать, полковник Осаки не знал. Позвонил своему давнему приятелю Накамуре – также полковнику, одному из лучших специалистов по выколачиванию признаний от арестованных – Тонео Накамура работал начальником следственного отдела Токийского суда, имел в своем подчинении не только ловких и хитроумных дознавателей, но и сыщиков, способных выследить кого угодно, даже тени давно умерших императоров, появляющиеся на праздники в городе, и специалистов по расшифровке тайных текстов, и мастеров радиоперехвата… На помощь Накамуры полковник Осаки рассчитывал очень.
– Подошли мне копии шифровок, которые перехватили твои люди, – попросил Накамура.
– Через полтора часа они будут у тебя, – пообещал Осаки.
– Я посмотрю, что можно сделать, – сказал Накамура.
Но и его шифровальщики, как и специалисты по дешифровке, оказались бессильны: проработали несколько суток напролет без перерыва и ничего не сумели сделать.
Язык мудрой цифири, которой пользовался неизвестный радист, оказался им неведом – орешек не был расколот.
События тем временем раскручивались с нарастающей скоростью. Собственно, они были отзвуком событий, происходивших в Берлине. А в Берлине с большим успехом прошли переговоры между министром иностранных дел Германии Риббентропом и послом Японии в рейхе Осимой. Переговоры были настолько секретными, что о них не знали даже заместители Риббентропа. Осима каждый день посылал зашифрованные сообщения в Токио – докладывал детали словесных дипломатических баталий.
Зорге знал о переговорах почти все – ведь большинство материалов для Риббентропа готовил генштаб, а в генштабе Отт был родным человеком, так что сведения Рихард получал наисвежайшие.
В один из дней Отт, довольно потирая руки, сообщил Рихарду:
– Свершилось! Документы об окончательной договоренности между двумя сторонами, германской и японской, положили на стол фюреру. Так что блин, лежащий на сковородке, с обеих сторон смазан маслом, фюреру осталось только налить кофе из кофейника, добавить в чашку сливок и подцепить блин вилкой, – пребывая в Японии, Отт старался выражаться цветисто, иносказаниями – подражал Востоку, здешним мыслителям, и сам ощущал себя мыслителем. – За это стоит выпить коньяку, – Отт поднял указательный палец, – у меня есть старый «курвуазье», вчера доставили две бутылки…
Коньяк был хорош, золотисто-коричневый, душистый, крепкий – от него даже пощипывало язык и нёбо, но это пощипывание было приятным послевкусием. Отт приподнял стопку, почмокал аппетитно:
– Все-таки французы – большие мастера по части аристократических напитков.
– М-да, заставляют одним глазом плакать, а другим смеяться. Умеют это делать, умеют…
– Я так понял, Рихард, к французам ты относишься иронически…
– Ни в коем разе. Просто я воевал там в пятнадцатом году, знаю, кто такие французы, по собственному опыту.
– А я тогда служил в Берлине, в главном генштабе. Каждому свое, Рихард. – Отт поднес стопку к ноздрям, втянул в себя коньячный дух.
Послужной описок Эйгена Отта Зорге знал, как свой собственный.
– Давай выпьем за дружбу, Эйген, – предложил он.
– Дружбу, которая скреплена на войне кровью, – подхватил Отт, тост ему понравился, – хотя и были у нас разные фронты…
Выпили. Коньяк показался еще более вкусным, чем в первый раз.
– Ну, а третью стопку – за то, чтобы у Берлина с Токио как можно скорее был заключен пакт. – Отт бережно, стараясь не пролить ни одной капли, наполнил стопки. – А цвет-то какой, цвет!
– А вкус, а аромат, а послевкусие… А! – Зорге подхватил восторженную игру Отта. Вот уж за что не хотелось пить, так за заключение пакта – ничего хорошего миру он не принесет, а уж Германии с Японией в первую очередь. Интересно, в какой костюм будет одет господин Пакт и что за вывеска будет к нему прикреплена?
– Прозит! – сказал Отт и легонько стукнул своей стопкой о стопку Рихарда. Выпив, он заткнул бутылку пробкой и сунул коньяк в сейф. Сказал, смеясь: – Об этой бутылке не должны знать ни Хельма, ни сам посол. – Следом он убрал резные хрустальные стопки, пить из которых было особенно вкусно. – Все, финита! – Отт запер стопки и добавил, понизив голос до шепота: – Скоро в Токио прибудет посланник фюрера.
Раз прибудет столь высокий чиновник – какой-нибудь дядя с бульдожьим невозмутимым ликом и золотым фашистским значком на лацкане, то значит, бумаги вот-вот будут подписаны. И в Берлине, и в Токио. Во рту долго еще стоял благородный горьковатый привкус, будто солнышком рожденный, Зорге еще о чем-то беседовал с Оттом, а в груди сидела тревога, никак не проходила: если пакт будет подписан, то до новой войны от него – полтора шага. А Отт… Отт этим обстоятельством был доволен – уселся в кресло и с наслаждением вытащил из серебряного портсигара сигарету, чиркнул спичкой.
– И кого же фюрер пошлет к нам с высокой миссией? – равнодушным тоном спросил Рихард.
– Не знаю. Думаю, что это будет не просто чиновник… Поживем – увидим.
Ночью в Москву была отправлена очередная шифровка, подписанная коротко и звучно: «Рамзай». В шифровке шла речь о том, что немецко-японские переговоры о заключении пакта подходят к концу и в Токио ожидается приезд специального представителя Гитлера.
Специальным представителем фюрера оказался долговязый мужчина с тяжелым волевым подбородком и кустистыми бровями, одетый в потертый черный костюм. Лацкан пиджака действительно украшал круглый золотой значок с изображением свастики в центре, из нагрудного кармана торчал зажим ручки-самописки, также золотой. Небедный был господин, словом. И пиджак, хотя и потертый изрядно, был сшит из ткани очень даже недешевой, такая ткань может тридцать лет носиться и не протираться.
Прибыл высокий берлинский чиновник в самолете, уже известном Рихарду, – он сам в последний раз летел в Токио на таком самолете, – новеньком, сияющем свежими заклепками «юнкерсе».
Уже в посольстве выяснилось, что советник Хаак – так величали важного гостя, – представляет все-таки не фюрера, а Риббентропа, что, впрочем, тоже было немало, – особенно для Герберта Дирксена, кадрового дипломата, который карьеру свою сделал задолго до прихода Гитлера к власти. Иоахим Риббентроп – обычный дворник по сравнению с Дирксеном, в молодости нынешний министр был рядовым коммивояжером, не гнушался продавать тряпки, швейные машинки и елочные украшения и ходить в неглаженых брюках с отвисшими коленями, потом переместился в разряд бакалейщиков – способствовал заключению винных и коньячных сделок, отстегивал в карман немалые проценты, и только потом кривая судьбы вывела его в дипломаты.
А Дирксен – это аристократ до седьмого колена, голубая кровь, белая кость, весь светится… И все-таки коммивояжер Риббентроп очутился наверху – видать, здорово подмазал фюрера содержимым своего кошелька, а Дирксен, несмотря на свой внушительный вес в высшем свете рейха и огромные связи в деловом и прочих мирах, остался внизу. Очень показательна эта расстановка сил, не надо объяснять, кто есть кто в Берлине и его дипломатии.
Через некоторое время Зорге узнал, что малоразговорчивый советник Хаак вообще не дипломат, а относится совсем к иному ведомству, к разведке, и, прикрываясь политическими, дипломатическими и другими высокими задачами, постарается поразить цель, вообще не прописанную в документах – военную: сколотить, слепить кулак, который мог бы грохнуть по земному шару так, что дома подпрыгнули бы не только в какой-нибудь Италии, а и в Аргентине с Парагваем.
Чем советник Хаак собственно, и занялся, не откладывая дела в долгий ящик.
Через некоторое время стало известно, что новый блок будет назван Антикоминтерновским пактом, сведения об этом проникли в европейскую печать. Вукелич, который был во французском посольстве своим человеком, сообщил Рихарду, что Париж очень обеспокоен этим обстоятельством, но когда тамошний МИД сделал официальный запрос премьеру Хироте, тот ответил, что переговоры эти направлены лишь против одного государства в мире – Советского Союза, европейские страны могут не тревожиться, Соединенные Штаты тоже могут спать спокойно.
Зорге немедленно передал эту информацию в Москву.
Хаак работал вместе с Оттом – пристегнул его к своей упряжке, показывал Эйгену все документы, приходящие из Берлина, а у Отта не было секретов от Рихарда – так советский разведчик Зорге тоже оказался пристегнутым к упряжке, работающей против Москвы и Советского Союза. Вот такая хитрая получилась комбинация.
Плюс ко всему, через Ходзуми Одзаки Рихард получал самые точные сведения из правительственных коридоров Токио, плюс (частично) – от своих друзей-корреспондентов, представляющих разные страны, суммировал, анализировал сведения, делал выводы и отправлял горячий материал, который дымился, как лепешка, вытащенная из печи, в Москву. Иногда Зорге посылал в Центр даже документы – целиком, с полными текстами, подлинные.
Центр был доволен работой токийской группы. Комкор Урицкий слал в ответ шифровки со скупыми словами одобрения. Зорге и Клаузен были отмечены благодарностями в приказе по Четвертому управлению РККА.
После приезда Хаака в Токио из Германии начала поступать новенькая военная техника, пахнущая краской, еще даже не прошедшая обкатку. Больше всего приходило самолетов.
«Дело пахнет керосином, – невольно отметил про себя Зорге, – а если не керосином, то чем? Иначе к чему на мирных японских островах столько военной техники? Готовить из сырой рыбы вкусное сасими?»
Здесь он засек и знакомый «юнкерс», только если раньше самолет был пассажирским, то сейчас в Японию прибыла целая эскадрилья «чистопородных» бомбардировщиков – рисунок у самолетов был один…
Военные в Токио на все лады обсуждали старое высказывание генерала Мадзаки, размахивали им, как вытертым флагом – генерал озвучил его еще год назад, но высказывание тогда поддержки не получило, сейчас же обрело второе дыхание, каждый более-менее приметный вояка старался подписаться под ним: «Надо смотреть на Запад и искать там друзей для большой войны. Японии одной будет трудно».
Одного друга Япония себе нашла… Кто будет следующий?
Японский журнал «Дайямондо» вообще написал открыто, даже не пытаясь – хотя бы ради приличия – прикрыть наготу происходящего: «Поскольку Советский Союз – чрезвычайно мощная держава, Япония одна не в состоянии выступить против него и поэтому вступила в соглашение со страной, которая также считает СССР своим смертельным врагом».
И еще: «По отношению к СССР может быть проведена только одна линия – оттеснение Советского Союза в скованные льдом районы Севера».
Вот так.
Немцы по части красноречия нисколько не уступали японцам. Для начала отличился сам фюрер. Когда был создан Антикоминтерновский пакт и к нему присоединилась Италия, Гитлер воскликнул патетически – это происходило в Мюнхене:
– Соединились три государства. Сначала была образована европейская ось, теперь – великий мировой треугольник. – Он считал, что старушка Земля с ее народами и богатствами уже находится у него в кармане, осталось только взять вилку с ножом и разделить этот жирный пирог.
Но это произошло позже.
Тревожно было в мире, еще более тревожно было на душе; Зорге не являлся исключением, он считал себя таким же уязвимым человеком, как и все, и был прав.
У Бранко Вукелича завелся новый приятель. В генеральском звании. Это был Френсис Пиготт, военный атташе английского посольства, они стали часто встречаться, вместе ходили на теннис. Вукелич был неплохим игроком, уверенно чувствовал себя на корте, умел с пистолетной скоростью отправить мяч в любой нужный угол, Пиготт этими качествами тоже обладал, но все равно уступал своему новому приятелю. И не мог понять, в чем, собственно, дело… Может, в отсутствии юношеской напористости?
Бранко теперь жил в самом чистом, самом аристократическом районе Токио Усигомэ-ку, это повышало его престиж в глазах коллег, без ботинок можно было остаться и даже без носков только за одно знакомство с элитным жильем, квартиру в Усигомэ-ку мог себе позволить разве что только корреспондент богатой «Нью-Йорк геральд трибюн» Джозеф Ньюман, и больше никто.
Присматривал себе тут апартаменты и шеф токийского отделения Германского телеграфного агентства «Дойче Нахрихтен Бюро» (ДНБ) Виссе, но поскольку он возглавлял еще и партийную нацистскую организацию в Японии, то в Берлине ему погрозили пальцем «Не сметь! Это не положено партийному товарищу», и Виссе поджал хвост, будто нашкодивший кот, затих, а вскоре вообще был отозван в Германию.
Пост руководителя нацистской партии в Токио был предложен Рихарду Зорге, и Зорге от предложения не отказался.
Но вернемся к Бранко Вукеличу. Дважды в неделю Вукелич и Пиготт ездили на теннисный корт, потели там, борясь друг с другом; вместе с отцом на корте часто появлялась и Джульетта Пиготт, красивая и очень капризная девушка.
Будучи натурой увлекающейся, влюбчивой, она положила вначале глаз на Бранко, но тот взаимностью не ответил, да и какой нормальный человек станет ухлестывать за дочерью своего приятеля (а вдруг образуется ребенок, что тогда делать?), и Джульетта увлеклась Рихардом.
Зорге тоже иногда появлялся на корте. Несмотря на хромоту, он мог легко, в считаные миги, переместиться с одного угла площадки на другой, обладал хорошей реакцией и считался сильным игроком. Его крученые удары были хороши особенно, отбить их было просто невозможно.
Пиготт горящими глазами следила за человеком, в чьей постели хотела очутиться, но Зорге относился к ней до обидного снисходительно, будто к гимназисточке младших классов, ни на что не годной, и это злило Джульетту.
Отец Джульетты все понимал, но как всякий умный отец в амурные дела своей дочери не вмешивался – в конце концов сам же виноватым и будешь. Вечером, сидя у Вукелича в гостях, он набивал душистым табаком «Вирджиния» трубку, поудобнее располагался в мягком кожаном кресле, – Бранко обставил свою квартиру богатой мебелью, – и начинал очень толково, остро рассуждать о перипетиях современной политики.
Именно Френсис Пиготт заявил Вукеличу между двумя стаканами крепкого вкусного пойла, именуемого «виски с содовой», следующее:
– Если в Европе начнется крупная заваруха, то Англия, забыв все старые распри, будет, как в четырнадцатом году, стоять рядом с Россией.
…В тот теплый день на корте собрались четверо: Бранко, Пиготт, Зорге и Джульетта, решили играть двое на двое. Рихард не любил, когда на площадке было тесно – сплошная толкучка, не развернуться, но свободных площадок не было, и ему пришлось смириться. Зорге – в кремовых брюках, кремовой шелковой рубашке и кремовых теннисных туфлях – был элегантен настолько, что Джульетта, игравшая с ним в паре, даже пропустила несколько простых мячей – любовалась напарником. Но благодаря Рихарду они не продули ни одной партии – Зорге их вытянул. Он брал такие сложные подачи, что попади они к Джульетте, то выбили бы ракетку из рук, и отпасовывал их так ловко и сильно на противоположную сторону сетки, что мяч обязательно попадал на единственное незащищенное место на площадке: ни Бранко, ни генерал не успевали взять его.
В конце концов Пиготт положил ракетку на землю и зааплодировал громко – понял, что противников не удастся одолеть, этот хромой красавец Зорге заранее знает место, куда упадет его с Вукеличем мяч, и обязательно оказывается там в тот момент, когда удар уже сделан.
– Браво! Ваша взяла!
Когда покидали корт, чтобы перекусить в каком-нибудь небольшом ресторанчике – выпить свежего пива и заесть свежей макрелью, которая еще два часа назад плавала в море, – Джульетта крепко ухватила Рихарда за руку, прижалась жарким боком:
– Зорге, почему вы не обращаете на меня внимания?
Скосив на нее глаза, Рихард ловко поддел ногой морской голыш, неведомо как попавший сюда, проговорил добродушно:
– Потому, что вы еще очень маленькая, Джульетта.
– Не такая уж и маленькая, – обиженно возразила она.
– А я уже старый, много повидавший на свете крокодил.
– Никакой вы не крокодил! С чего вы взяли?
Чему суждено было случиться, то и случилось – Джульетта стала часто бывать в тихом уютном доме Рихарда на улице Нагадзакамати, тридцать, – и потом никогда об этом не жалела.
Хотя много позже, почти тридцать лет спустя, отвечая на вопрос корреспондента одной толстой газеты о Зорге, наморщила недоуменно лоб: «Зорге? С трудом припоминаю. Я, кажется, играла с ним. В теннис. Только в теннис. По вечерам? Ах да, кажется, встречалась и по вечерам. Но так, из девичьего любопытства. Это был яркий мужчина, красавчик. Было интересно взглянуть и понять, в чем же знаменитые его в Токио чары. Встречался ли с ним отец? Не знаю, хотя почему бы и нет? Хотя между немцем и англичанином разговор мог быть не самым лучшим и легким. Но все-таки могу сказать главное, что запомнилось: он в теннис играл лучше других, по крайней мере лучше меня. – Тут бывшая мисс Пиготт на мгновение умолкла, глянула на корреспондента глазами, чуть притуманенными воспоминаниями, и добавила тихо: – Я от него многому научилась».
Отец Джульетты, человек наблюдательный, знал о японской армии очень много, у него имелись свои источники информации, весьма «квалифицированные», как сказали бы сейчас, а тогда говорили «надежные», способные за сотню иен выведать тайну – какого цвета кальсоны носит военный министр в зимнюю пору и могут ли японские танки плавать, поэтому Зорге охотно общался с генералом и каждый раз узнавал что-нибудь новое.
И все равно своими знаниями Зорге перекрывал Пиготта – о новинках он, например, узнавал раньше генерала и иногда делился с ним информацией.
И об оперативных секретах, связанных, допустим, с Квантунской армией, узнавал раньше, и о том, какие перестановки затеваются в японских частях, чем будут заниматься силовики, и какой курс поведет правительство в ближайшее время – все это Рихард узнавал раньше. Возможностей у него было больше, чем у представителя английской разведки генерал-майора Пиготта.
О том, что Зорге и Джульетта стали близки, папаша, конечно, догадывался, но всякий раз при встрече с Рихардом делал вид наивного агнца – так ему было удобно. И Зорге было удобно.
Немецкий военный журнал «Вермахт» попросил Зорге написать статью о японской армии – насколько она сильна, современна, победоносна и вообще, надежный ли союзник – островное государство, выспренно именуемое Страной восходящего солнца?
Из Берлина пришло соответственное письмо, Рихард прочитал его и, не скрывая удовлетворения, явился с ним прямо к начальнику центрального управления военного министерства генералу Муто. Тот расплылся в довольной улыбке.
– Приятно, когда братья по оружию интересуются нами, – и дал указание познакомить «господина корреспондента Зорге» со всем, «что есть в японской армии». – Секретов не делать, – приказал он, – от братьев у нас вообще нет секретов!
В результате Зорге узнал, что танковый парк японской армии увеличен в одиннадцать раз, артиллерийский – в четыре раза, самолетов стало больше почти втрое: раньше императорская армия имела сто восемьдесят машин, сейчас – пятьсот.
– И все это благодаря помощи братской Германии, – сказал в заключительной беседе генерал Муто, картинно поклонился Зорге: Рихард был для него представителем страны-благодетеля.
Зорге также картинно поклонился в ответ.
Но это было еще не все. Квантунская армия, вставшая стеной у советской границы и угрожающе бряцавшая ныне оружием, была увеличена в пять с лишим раз.
Было над чем задуматься.
Через некоторое время в «Вермахте» появилась статья Рихарда Зорге «Японская армия: от самураев к танковым войскам». Статья эта была встречена в Токио более чем одобрительно и очень укрепила позиции Рихарда.
Подробные сведения о том, что увидел Зорге в японских частях и как проходили маневры Квантунской армии около нашей границы, на которых он побывал, легли на стол руководителя Разведуправления РККА.
Работа продолжалась.
– Ну и как впечатления? – спросил генерал Пиготт у Зорге, когда тот вернулся из Маньчжурии, неторопливо раскурил трубку и приготовился слушать рассказ о новостях в рядах потомков самураев, находившихся в штате Квантунской армии. – Что заметило ваше острое журналистское око?
– Око заметило много чего любопытного.
– А именно, Рихард?
– В Маньчжурии японцев ныне в несколько раз больше, чем маньчжуров. Куда ни ткнись – всюду японцы в мятой военной форме, под каждым кустом.
Зорге не скрывал от генерала Пиготта почти ничего, – знал, что генерал ответит тем же самым, и разговоры их, в противовес суждениям Джульетты, были взаимно дружелюбными и легкими. Польза от этих встреч была обоюдная, результаты же, как правило, оказывались в Москве, на столе комкора Урицкого.
Клаузен показывал чудеса мастерства – наверное, не было в мире другого такого радиста, который работал бы столь интенсивно. Почерк Макса, скорость передачи, манеру стучать ключом хорошо знали и в «Мюнхене» (Москве), и в «Висбадене» (Владивостоке), и в Токио, фиксировали каждую передачу, ну а дальше те, кому на стол ложились листы со столбиками цифр, действовали по-разному: одни делали одно, другие – другое.
Полковник Осаки все чаще и чаще хватался за сердце и тяжело серел лицом, комкор Урицкий, довольно покачивая головой, отправлял донесения Рамзая наверх, к руководству Генерального штаба, а оттуда бумаги уже шли к самому Сталину.
В наследство от Бернхарда Клаузену досталась неуклюжая запыленная машина внушительных размеров – этакий локомобиль с трубой, используемый на тяжелых сельскохозяйственных работах. И если на этом локомобиле можно было еще как-то стучать ключом, то прятать его было просто невозможно: куда ни засунь, наружу обязательно высовывается закопченная труба.
Совсем другое дело – передатчик, собранный самим Максом, с ним даже Аня справлялась без особых трудностей… Поскольку за Максом, как за солидным человеком, часто ведущим деловые переговоры, сохранялся номер в отеле, то локомобиль Бернхарда находился там, упакованный в солидный чемодан, украшенный цветными наклейками. Чемодан этот уже несколько месяцев пылился под кроватью, к нему даже уборщицы не прикасались – так велел хозяин…
– Что делать с рацией Бернхарда – ума не приложу, – пожаловался Клаузен шефу.
– Она тебе нужна, рация эта, Макс?
– Примерно так же, как кенгуру лошадиный хомут.
– Уничтожь ее.
– Даешь на это «добро»? Имущество же!
– Даю «добро».
– Фу-у-у, – облегченно выдохнул Макс, – готов по этому поводу заказать в соборе мессу.
– Мессу не надо, а вот виски или коньяк можешь выставить.
– Могу и то и другое, Рихард. Но если настаиваешь на чем-то одном, то что предпочтешь: коньяк или виски?
– И водку тоже.
Клаузен засмеялся, широкое добродушное лицо его сделалось круглым, как у ребенка.
– Осилим и водку. По рукам!
Ударили по рукам.
В субботний вечер к отелю, где находился чемодан с рацией, на машине подъехал Бранко, Клаузен уже ждал его внизу. Бранко вытащил из салона машины две сборных четырехколенных удочки, на виду у всех продемонстрировал их товарищу:
– Ну как?
Макс с удовольствием поцокал языком:
– Вся королевская макрель будет наша. А как по части наживки? Не протухла?
– Наживка наисвежайшая. Ровно десять минут назад куплена в магазине.
– О’кей! – Макс азартно хлопнул в ладони. – Едем! Только… – он в предупреждающем движении поднял указательный палец, – айн момент, майн либер фройнд! Я также кое-что приготовил для успешной рыбалки.
Бранко понимающе улыбнулся.
– Помочь?
– Не надо. Справлюсь сам.
Клаузен поднялся в гостиничный номер, выволок из-под кровати чемодан, где находилась разобранная рация, подумал о том, что, конечно, очень рискованно было держать ее здесь (а вдруг сюда наведались бы агенты «кемпетай»?), но в следующую минуту успокоенно махнул рукой: а ведь не наведались – это раз, и два – этот чемодан остался ведь от старого жильца, который обещал за ним заехать, от Бернхарда… Не будет же он ковыряться в чужих вещах, смотреть, что там – это же неприлично!
Он поднял чемодан и, кряхтя, понес к двери: однако тяжеловата машинка господина Бернхарда!
Когда Клаузен спустился вниз, то к нему поспешно подскочил мальчишка-бой, ухватил чемодан за ручку и тут же удивленно отскочил от него:
– Ого!
Клаузен поставил чемодан у ног и повертел пальцем у носа боя:
– Как ты думаешь, молодой человек, чем занимаются люди на рыбалке? Только ловят рыбу?
– Ну да!
– Неверный ответ. Они еще употребляют в большом количестве виски, водку, коньяк, заедают это чем-нибудь вкусным и запивают пивом. Желательно холодным. Понятно, молодой человек?
– Так точно! – Бой браво пристукнул каблуками ботинок.
– Вот теперь верный ответ, – назидательно произнес Макс и вновь взялся за ручку тяжелого чемодана.
Бранко помог ему, вместе они завалили чемодан в багажник машины. Внутри у Макса все было холодно: а если этот бой – агент «кемпетай»? Ведь так оно и есть – своих негласных помощников агенты «кемпетай» часто вербуют из числа гостиничных и ресторанных служек: эти люди видят очень много и много знают. Макс ощутил, как у него начали дрожать пальцы. Запоздалая реакция. Он приветственно поднял руку, благодаря боя за то, что тот хотел помочь; дрожащие кончики пальцев – это… в общем, хрен с ними, это бывает со всяким и это обязательно пройдет, как много раз проходило и все другое… А если их машину по дороге остановят полицейские и проведут обыск, тогда что?