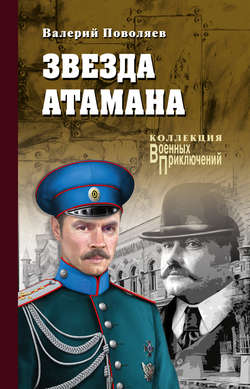Читать книгу Звезда атамана - Валерий Поволяев - Страница 2
ОглавлениеПосле прохождения утвержденного курса наук в сельскохозяйственном училище села Кокорозены студент Григорий Котовский – молодой, крепкий, с хорошими оценками в листе успеваемости, был направлен на практику в имение богатого, неплохо разбирающегося в делах земельных помещика Скоповского. Скоповский хорошо знал, что кукуруза растет початком вверх, а свекла хвостом вниз, что у коровы главный предмет ее массивного антуража – вымя, а лошади при всем своем умении быстро носиться по полям и долам, так и научились бегать задом наперед, бедные, – но при всех своих богатых знаниях помещик был человеком очень вспыльчивым.
При случае Скоповский мог и за ружье схватиться, и за топор, а уж что касается плетки с ввинченной в охвостье свинцовой гайкой, то помещик с нею даже спать ложился, клал между собой и женой, молча указывал пальцем на тяжелую гайку и засыпал.
В общем, непростой был человек этот Скоповский. Денег имел много, регулярно обращал их в золото – в сундуке хранил несколько слитков, иногда, пребывая в хорошем настроении, покупал жене различные камешки – то в уши, то на пышную грудь, то на пальцы, – когда дарил жене украшение, то улыбался довольно…
Одно было плохо: Скоповский старел, годы тяжелым мешком, набитым всем и вся, гнездились у него на горбу… Сидели плотно – не сбросить.
Мадам Скоповская мужа побаивалась. Хоть и в годах он был, – вся шея в морщинах, на глаза словно бы белесая пленка натянута, – но слишком уж вздорный характер имел, никак не мог успокоиться, возраст совсем не действовал на него, плеткой мог огреть любого человека и не поморщиться. Скоповская вздыхала, пудрила нос нежной «французской пылью» и, лежа в постели, отворачивалась от мужа к стенке: все равно проку по части марьяжной от него было мало.
Как ни странно, Скоповскому такое поведение жены было по душе, – не надо, во всяком случае, напрягаться попусту, а потом в неком, почти юношеском смущении засовывать голову под подушку и делать вид, что очень устал.
Когда в имении Валя-Карбуна появился Котовский – сильный, статный, молодой, с насмешливым взглядом и улыбкой, прочно застрявшей в уголках рта, Скоповская, что называется, положила на него глаз – очень уж хорош был молодец, присланный из Кокорозенского сельскохозяйственного училища, заведения по той поре, надо заметить, известного довольно широко и грамотного.
Из стен этого училища выходили неплохие специалисты, Бессарабия их ценила. Иногда среди выпускников попадались умельцы, которые запросто могли привить яблоневую почку к носу валяющегося на мостовой пьяницы, либо скрестить брюкву с крапивой и вывести сорт, на который огородные воришки даже не посмеют покуситься, такая брюква будет острекаться хуже крапивы, кожа на руках и заднице облезет сразу двумя слоями.
А студент-дипломник Григорий Котовский действительно был на загляденье, хоть в магазинную витрину, чтобы демонстрировать великолепный торс и роскошные белые зубы, выставляй.
Скоповский интерес жены к новому управляющему засек, – сам хотя и был старый, а нюх имел молодой, конь его даже ушами запрядал от неприятного звука, помещик и этот звук засек, коня не пощадил и огрел его плеткой.
– Будешь мне изображать тут интеллигента, сукин сын! – выговорил он коню внезапно охрипшим голосом и вновь нанес обжигающий удар плеткой.
Конь чуть не заплакал от обиды, затанцевал, задирая голову, он готов был взлететь на небеса, да хозяин не дал – был против.
Выдернув из кармана обрывок льняной бечевки, Скоповский завязал на ней узел – на память. Чтобы не забыть… Такие штуки надо помнить долго и прочно.
Повод расстаться с управляющим нашелся в суровую ветреную зиму, когда порывы вьюги сдирали снег с земли до окостеневшей основы и уносили его в овраги, по пути подхватывали птиц, скручивали их на лету и били о стволы деревьев – бедные вороны повисали на ветках бесформенными тряпками (почему-то под охлесты лютого ветра попадали в основном вороны, но если попадался тяжелый домашний гусь весом не меньше овцы, эта же участь ждала и гуся, он тоже оказывался на ветках деревьев) – вот такой февраль выдался в 1902-м году в имении Валя-Карбуна.
От бессилия, оттого, что мороз общипывает его любимое имение по перышкам и скоро совсем оголит, Скоповский только зубами скрипел, да заставлял нервно вздрагивать своего жеребца.
Но при виде практиканта-управляющего Скоповский заставлял себя улыбаться, этот рыжеватый красавец не должен был догадываться о том, что его ждет серьезное наказание. Надо было только придумать, за что наказывать Котовского. И помещик придумал.
У Скоповского набралось целое стадо свиней, предназначенных для продажи. Он вызвал к себе Котовского и ласково улыбаясь, – умел это делать Скоповский как никто, умел даже в очень невыгодных для себя ситуациях, – сказал, потирая руки и улыбаясь так, что во рту даже стали видны коренные зубы.
– Вам, молодой человек, я хочу поручить очень ответственное дело…
– Выполню в наилучшем виде, – готовно вытянулся Котовский.
Он, конечно, засекал ласковые взгляды мадам Скоповской, обращенные к нему, но старательно делал вид, что не замечает их, более того, давал понять, что никогда не ответит на горячие чувства пышногрудой мадам взаимностью. Существуют, мол, правила, через которые он никогда не сможет переступить. Помещик это тоже видел, но в равнодушное спокойствие управляющего поверить не мог. Поэтому и погасить в себе жгучий костер ревности тоже не мог и тягу к мести одолеть не мог.
– Это хорошо, что выполнишь в наилучшем виде, – Скоповский хмыкнул, затейливо пошевелил усами. Ну будто дрессированный таракан… – Надо гурт свиней в Кишинев на базар перегнать, продать их там подороже.
– Будет сделано, – вновь вытянулся Котовский.
– В наилучшем виде, – подыграл ему Скоповский, голос у помещика по-прежнему был ласковым. – На этом все. Отправляйся в Кишинев, – он сделал движение рукой, какое обычно делает стряпуха, выгоняя из кухни разжиревших мух.
И Котовский отправился в Кишинев.
Перегнать стадо свиней за тридцать с лишним километров, отделявших имение от Кишинева, – штука непростая, свиньи могли добрую сотню раз исчезнуть по дороге, разбежаться и собрать их, упрямых, себе на уме, недовольно хрюкающих – задача не из легких. Котовский справился с поручением на пять, выторговал у покупателей целую пачку денег – Скоповский будет доволен… Но Скоповский вместо благодарности выгнал управляющего из имения. Жене же своей надавал по щекам. Видимо, того требовали неведомые правила шляхтецкого этикета (по национальности Скоповский был поляком).
Молва донесла до нашего времени следующее. Говорят, что Котовский, прежде чем появиться у помещика, завернул к одному больному батраку, которому привез из города лекарство, в это время в бараке том появился и Скоповский.
Между ними произошел не самый приятный разговор. Скоповский обвинил своего управляющего в том, что тот без всякого на то разрешения истратил на лекарство помещичьи деньги. Кто разрешил Котовскому это сделать? Причем Скоповский, словно бы помня о своем благородном происхождении, имени жены в этом объяснении не упомянул.
Кто знает, может быть, в тот момент уже и не до жены было Скоповскому, – он подал бумаги на развод, – а дело совсем в ином? Во всяком случае, Котовский в своей автобиографии написал о жизни в имении Валя-Карбуна следующее: «И здесь с ужасающей ясностью сталкиваюсь с огромной нищетой того, кто создает все богатства помещику, с беспросветной жизнью батрака, с его 20-часовым рабочим днем, у которого нет во всей его тяжелой кошмарной жизни ни одной светлой, человеческой минуты – с одной стороны, и со сплошным праздником, полной роскоши жизни, жизни паразитов, безжалостных, беспощадных эксплуататоров, – с другой».
Было понятно, что у Скоповского вряд ли удастся получить достойный отзыв на свою работу, – кстати, очень честную, – а значит, не удастся получить и диплом об окончании училища в селе Кокорозены Чеколтенской волости Оргеевского уезда: без отзыва официальные государственные корки Котовскому не выдадут, вместо документов останется только память.
Тут даже не поможет Манук-бей, покровитель Котовского, его крестный отец, один из самых знатных людей в Бессарабии: Скоповский, как и многие поляки, которых знал наш герой, был упрям, будто бревно, плывущее по реке, – не найдется сила, способная переубедить его, если уж что втемяшится шляхтичу в голову, то выковырнуть это можно будет только с помощью немалых физических усилий, применив надежные инструменты – кайло или кирку. А может быть, даже и лом.
В жилах Котовского тоже текла польская кровь, – вернее, часть крови, – но он не был таким.
В тот же день Котовский покинул имение Валя Карбуна. Вскоре он объявился в хозяйстве помещика Якунина, в деревне Максимовке. На должности помощника управляющего. У Якунина он тоже долго не задержался: согласно молве, был уволен за растрату денег.
Но молва услужливо преподносит и другую версию: деньги не были растрачены, их выкрали из помещения, в котором квартировал Котовский, а раз он не сберег хозяйское богатство, то должен был возместить его.
Возместить деньги Котовский не мог, для этого надо было иметь плотно набитый купюрами кошелек. А в кошельке его плавало лишь несколько серебряных пятнадцатикопеечных монет, так называемых пятиалтынных, и все. Остальное пространство в кошеле занимал воздух. Воздух можно было превратить в ветер, но никак не в деньги.
Котовский покинул Максимовку, хотя управляющим он был хорошим, – знал и дело свое, и землю, и садовое производство, и то, как обиходить овец, как получать с них хорошие настриги шерсти, был знаком – и очень близко, – с молоководством (преподаватели молочного дела часто ставили Гришу Котовского в пример) и мельничным делом, понимал толк в паровых машинах, работавших на мукомольнях той поры… Но от Якунина он ушел.
Надо полагать, что Скоповский сыграл в этой истории недобрую роль, нашептал кое-что Якунину на ухо.
Мысль о зловредном шляхтиче прочно засела в голове, и Котовский решил выяснить с ним отношения.
Он возник в имении Скоповского внезапно, но разговора с помещиком не получилось: у того неожиданно начало трястись лицо, руки, потом задергались пальцы, в сторону поехал подбородок, движение это было угрожающим.
Скоповский стукнул плеткой по ладони и, повернувшись к приказчику, заведовавшему у него торговыми делами, гаркнул что было силы:
– Связать этого проходимца!
Приказчик – раздобревший мужик, про таких говорят «Поперек себя шире», с тощими усиками, неплотно пристрявшими к верхней губе, сделал знак рукою, и на Котовского навалилось сразу четыре человека. Знал приказчик, что Котовский может разбросать и четырех человек, щелкнул пальцами, и к четырем бойцам прибавились еще четыре.
Ввосьмером они скрутили управляющего – по четыре мюрида на каждую руку, это более, чем много, перебор такой, что Котовский даже сопротивляться не стал. Хотя лицо у него напряглось, приняло угрожающее выражение. Приказчик это засек и вновь щелкнул пальцами.
Один из молодцов выдернул из-за пояса веревку, скомандовал хрипло:
– Навались?
Руки Котовскому завернули за спину и очень проворно, ловко связали – вначале стянули локти, потом запястья, затем обвязали веревкой едва ли не до подмышек… Хорошо, что узлов соорудили мало, видать, лень было.
– Грузи его! – велел приказчик.
Котовского подхватили под мышки и завалили в телегу, как бревно. Рядом с ним разместились несколько человек, приказчик взялся за вожжи, и телега, громыхая колесами по мерзлой земле, как по каменной дороге, покатила за пределы усадьбы.
– Скатертью дорога! – крикнул вдогонку Скоповский.
Телега подпрыгивала, связанные руки попадали под тело, Котовский морщился от боли, сипел сквозь зубы:
– Что же вы делаете, земляки?
Земляки молчали.
Вывезли Котовского в неровное, с покатым краем поле, догола, до костяшек и суставов выскребенное ветром, обдутое, со скользкими ледяными проплешинами, недобро поблескивавшими на поверхности земли.
– Тпр-ру-у! – распустив губы, громко выдохнул приказчик, останавливая лошадь. Повернулся к замерзшим от ветра красноносым бойцам:
– Все, ребята! Выгружайте этого малохольного!
Один из бойцов цапнул Котовского за воротник.
– А ну, вставай! – рявкнул. – Разоспался тут!
Котовский молча, с лицом, ничего не выражающим, развернулся, свесил с телеги ноги. Соскочить с нее со связанными руками он никак не мог. Казалось бы – малая малость, которую легко преодолеть, не хватает какой-то слабенькой подпорки, точки, на которую можно опереться и переместить центр тяжести, а сделать ничего Котовский не может… На щеках его вспухли досадливые желваки.
Второй боец подключился к первому, ухватил Котовскому за связанный локоть, напрягся, наливаясь бурой краской, пожаловался напарнику:
– Тяжелый хряк, не поднять.
– Бугай.
– Чего телитесь? – приказчик не выдержал, даже взвизгнул от возмущения: слишком уж неповоротливы его бойцы, не бойцы, а недотепы какие-то, единственное, что они умеют хорошо делать – ложками выскребать кашу во время обеда, еще – квас дуть в жару ведрами, – вот, пожалуй, и все. Остальное же им надо приобретать – и мозги, и сноровку, и умение разговаривать складно. – Вываливайте его на землю и – поехали отсюдова! – в голосе приказчика вновь послышались визгливые нотки.
Бойцы насели на Котовского кучей, дружно насели, окрики приказчика действовали не хуже кнута, – кряхтя и матерясь, они перекинули бывшего управляющего на жесткую мерзлую землю.
– Поехали! – повторил приказчик свое грозное распоряжение и вновь дело не обошлось без визга.
– Развяжите меня, – просипел Котовский. – Я же здесь, на промороженной земле, подохну!
– Не велено. Такое разрешение может только барин дать, – фыркнул приказчик, удобнее усаживаясь на телеге, – к нему обращайся!
– Да как я до него доберусь? На чем? И со спутанными руками?
– Это уж твои заботы. Нам распутывать тебя не приказано. Приказано вывезти в поле и оставить тут… А дальше ты действуй сам, по своему усмотрению. Понял, пан управляющий?
Меньше всего Котовский хотел быть сейчас паном и тем более – управляющим. Лежа на земле, он покрутил головой, стукнулся виском о твердую, как камень кочку. На виске остался кровоподтек, обрамленный багровым окоемом.
– Развяжите меня!
– Мн-но! – приказчик огрел кнутом жилистую лошаденку, та мотнула головой и резво взяла с места. – Тихо ты, зараза, – осадил ее приказчик. – Телегу рассыпешь!
С грохотом и едким, стягивающим зубы болью скрипом, лихо подпрыгивая на комьях земли, телега унеслась в холодное пространство. Исчезла мгновенно, словно бы ее и не было. Котовский застонал вслед, но собственного стона не услышал, язык у него словно бы прилип к глотке.
Подергал руками, пытаясь освободить хотя бы пальцы, но куда там – умельцы, связывая Котовского, постарались, явно рассчитывали на наградной лафитник.
Найти бы на этой замерзшей, со следами неглубокой пахоты земле куст или камень, вросший в ледяную линзу, или дерево с окостеневшими от холода сучьями, тогда можно будет перепилить о заостренный край всю веревку, но ни кустов, ни камней, ни деревьев не было.
Было обычное горбатое, комкастое, просквоженное насквозь холодом поле, на котором и пяти минут лежать нельзя – пробьет насквозь, вытянет из тела тепло и жизнь. Котовский застонал и перекатился по полю на манер бревна, – неуклюже, тяжело.
Но выхода не было, нужно было катиться дальше.
Вдалеке белели здания с рыжими, недавно покрашенными крышами, это была железнодорожная станция, около домов высилось десятка полтора стройных пирамидальных тополей, дальше в неровный рядок выстроились домики попроще, у двух из них крыши были соломенные… Там жили простые люди – обходчики, стрелочники, ремонтники, – словом, тот самый народ, который необходим всякой железной дороге без исключения. Необходим для жизни.
Не будет этого народа – рельсы скрутятся в кольца и сами по себе свалятся с насыпи на обочину, уползут под откос.
Котовский сделал еще несколько движений, перекатываясь дальше, – к дороге, к станции. Но до станции катиться ему было далеко, выдохнется, замерзнет, а вот до дороги сил должно хватить.
На дороге, глядишь, какая-нибудь телега прогромыхает, остановится на призывный крик, либо арба появится или просто какой-нибудь старичок в рваных штанах, каких по Бессарабии шатается больше, чем положено: люди здешние, несмотря на богатую природу и тучные урожаи, бедны, как мыши, живущие в разоренных хатах, – очень редко видят хлеб и картошку вдоволь, не говоря уже о молоке или мясе.
На странствующего старичка или случайную арбу Григорий и рассчитывал.
Верно говорила крестная мать Котовского Софья Михайловна Шаль, и Григорий хорошо запомнил ее слова: «Для человека главное – быть не счастливым, а везучим». Действительно, важно бывает, чтобы везло, – чтобы кирпич на голову не свалился во время легкой прогулки по свежему воздуху, и конь в скачке не влетел ногою в яму, и чтобы дно реки, когда переправляешься с грузом, было твердым.
А без везения и глаз можно себе выколоть гнилым сучком, свесившимся с яблони, и ногу сломать, нежаясь во сне на пышном душистом сеновале, и подавиться овсяным киселем, который обычно орлом проскакивает в любой, даже самый заросший, самый дремучий желудок, и споткнуться о таракана, вылезшего из-за печки в нехорошей задумчивости и затормозившего свой ход на земляном полу сельской хаты… Так что везение стоит на порядок выше счастья.
Только повезет ли сейчас Григорию Котовскому?
Он еще несколько раз перевернулся, катясь по земле, свалился в неширокую плоскую ложбину и замер – перехватило дыхание. Надо было отдышаться.
Выгнувшись неловко, приподнял голову – показалось, что кто-то едет по дороге… Нет, ложная тревога, на дороге никого не было. Котовский опустил голову на землю. Открыл глаза, закрыл, открыл, закрыл – показалось, что сквозь туманную налипь, застилавшую взгляд, что-то прорезалось слабым блеском.
Блеснуло и тут же исчезло. Котовский не поверил тому, что видел: неужели ему так сказочно повезло? Не может этого быть!
Он постарался как можно внимательнее вглядеться в землю: что там блеснуло так обнадеживающе? Оказывается, стеклянный черепок, – скорее всего, от пивного графина. Котовский помотал головой – не верил тому, что видел. Прошептал тихо, в себя, – но шепота своего не услышал:
– Господи!..
Часто заморгал глазами: надо было дотянуться до этого черепка, выколупнуть его из промороженной земли.
Он развернулся ногами к черепку, поддел его носком ботинка. И тут ему еще раз повезло – черепок легко вылез из земли. Теперь важно было ухватить его пальцами. Но пальцы, пальцы-то… они же связаны, проку от них ноль целых, ноль десятых… В голове возникла недобрая мысль: неплохо бы с преданными псами Скоповского разделаться, проучить их, тут внутри у Котовского родилась усмешка, угрюмым хрипом вымахнула наружу. Но ведь концы пальцев свободны, а ими Григорий мог даже туго затянутые гайки отвернуть, штук пять.
– Будь у этих недоделков мозгов на пару извилин больше, они бы ногти скрутили проволокой.
Он перевел дыхание, выплюнул слюну, сбившуюся в комок во рту, и заработал ногами, подтягивая тело к обломку стекла.
Обломок этот, похожий на старинный музейный черепок стал сейчас главной надеждой на благополучный исход. Если он разрежет им веревку на запястьях, на локтях, на пальцах – будет жив и врагам своим вцепится зубами в задницы, чтобы впредь не кусались, если не удастся разрезать – примерзнет легкими своими, печенкой, мозгами, брюхом к этой обледенелой земле, и тогда все…
Он застонал, заерзал, приноравливаясь к ложбине, к угловатому черепку, вскинувшему вверх свое острое ребро.
Простое, казалось бы, дело – дотянуться до осколка, ухватить его кончиками пальцев, а операция эта оказалась более, чем ювелирной, очень важно было не придавить этот черепок телом, не размолоть его случайно.
Минут десять понадобилось Котовскому, чтобы овладеть осколком, он перевернулся набок, просунул конец черепка между пальцами и, кряхтя, захлебываясь, давясь собственным дыханием, стал пилить веревку.
Просипел удивленно:
– Проклятая мочалка! Крепкая, зар-раза, как сизаль.
Африканский сизаль – заморский, жесткий, вечный, прочный, – считался лучшим в мире материалом для канатов и веревок, его очень хвалили матросы, плававшие в Черном море. На одном таком канате, зацепленном за буфера паровоза, можно было запросто буксировать тяжело пыхтящий поезд.
Терпение и труд, говорят, все перетрут – Котовский перетер веревку в трех местах. Несколько мгновений лежал неподвижно, словно бы не веря в то, что произошло невероятное. Вполне возможно, это и было чем-то невероятным, кое-кто вообще не осилил бы веревку, свитую из конопляного лыка, а Котовский осилил.
Дальше было проще. Два узла, которые завязали подручные приказчика, были, конечно, крепкими орешками, но сложности особой уже не представляли, Котовский одолел их.
Пока освобождался от веревки, промерз до костей, даже губы у него сделались белыми, словно бы на них проступила снеговая махра, лицо тоже стало белым, – холодом пропитался основательно.
Упершись локтями в землю, приподнялся, слепо помотал головой – показалось, что костлявая дохнула на него с негодующей яростью, чуть до костей не пробила холодом.
Холод этот мог оказаться могильным, последним в его жизни.
Утром Скоповский позвал к себе приказчика, специально отращенным ногтем разровнял усы, подправил низ их и прищурил один глаз.
– Поезжай-ка на то поле, где ты вчера уложил спать этого крикуна, посмотри, осталось от него что-нибудь или все уже растащили собаки?
– Слушаюсь, – четко, по-военному ответил приказчик, надул щеки, голова у него мигом сделалась большой, и этот испуганно озирающийся человечек с торопливыми движениями исчез.
Вернулся он через два часа, еще более суетливый, с растерянным лицом.
– Ну? – вперил в него острый взгляд Скоповский, у приказчика даже что-то зачесалось под мышками, а в голове родился нехороший звон: понял специалист по торговым делам, – если он не понравится чем-то хозяину, тот поступит с ним так же, как поступил с Котовским.
– Ничего на поле нет, – сообщил приказчик, переступил с ноги на ногу, – абсолютно ничего.
– Куда ж он подевался?
– Наверное, собаки схарчили, – приказчик не выдержал, преодолел самого себя и, раздвинув губы, зашелся в мелком смешке, – они любят это дело.
– Что, даже костей не осталось?
– Даже костей не осталось, господин.
– Может, тряпки какие-нибудь, обрывки штанов, рубаха, куски веревки?
– Ничего не осталось. Все сожрали.
Скоповский неверяще покачал головой, – впору хоть самому ехать к станции, от нее, как от исходной точки, начать проверку, прочесать поле. Не может быть, чтобы от грузного высокого детины Гришки Котовского ничего не осталось. Но самому идти пока нельзя. А значит, надо довольствоваться докладом приказчика. Дальше видно будет. Но в то, что бывшего управляющего сожрали собаки, Скоповский не верил.
– Ладно, – он махнул рукой, отпуская приказчика, – иди, занимайся делами.
Приказчик ушел. Скоповскому осталось только уладить кое-какие имущественные дела с бывшей супругой, и досадное недоразумение, испортившее ему на пару месяцев жизнь, останется позади.
Некоторое время он сидел неподвижно, размышляя, что делать дальше, потом из конторки достал пару листов хорошей бумаги «верже» и на верхнем написал: «В полицейское управление…»
На всякий случай – вдруг собаки действительно сожрали Котовского? – надо было обезопасить себя. Почесывая отточенным ногтем усы, он довольно долго сочинял жалобу. Дело это оказалось непростым – даже спина заболела.
Поглядел на свою работу, Скоповский остался ею недоволен: слишком много различных поправок, зачеркиваний, слов, вставших над строчками, – сплошная грязь, в общем. Надо переписать.
Покряхтев недовольно, Скоповский занялся перепиской. На этот раз две странички с жалобой выглядели много приличнее первого варианта. Скоповский приподнял страницы двумя пальцами, держа за край, осмотрел внимательно, покивал головой – жалобу можно было отправлять.
В ней было все: и характеристика Котовского – какой он плохой человек, и как он попытался отбить у порядочного семьянина-помещика жену – в результате разрушил семью, и как обкрадывал хозяина, продавая продукты из поместья Скоповского в Кишиневе, и как внезапно исчез, прихватив с собою деньги – уволок семьдесят семь рублей…
А семьдесят семь рублей по тем временам – сумма немалая, на нее можно было купить десяток дойных коров-симменталок и несколько копен душистого сена, чтобы коровы, прибыв к новому хозяину, вволю полакомились и подобрее отнеслись к женщинам, которые придут их доить, не то, если у коровы будет плохое настроение, она запросто опрокинет копытом подойник, а саму дойщицу исхлещет хвостом.
Скоповский перечитал бумагу, удовлетворенно кивнул и на конверте вывел адрес полицейского управления – пусть там возьмут это дело в свое ведение и если где-нибудь найдут оторванную ногу Котовского в ботинке, обглоданную до костей, то пойдут своим путем, Скоповский здесь будет совсем не при чем.
Он подумал, что надо бы дописать десяток строчек про то, какой ярый богохульник Котовский, как он ненавидит царя и его семью, пусть в полицейском управлении знают и это, но переписывать послание по второму разу не хотелось, да и бумага «верже» была на исходе, – и дорогая она очень, поэтому помещик махнул рукой – и так сойдет.
В тот же день письмо ушло в полицейское управление. Скоповский был уверен: оно еще сыграет свою роль. Если, конечно, Котовскому удалось развязаться и сбросить с себя веревку. Вопреки трусоватому приказчику и его словам, произнесенным дрожащим голосом, помещик пришел к выводу, что Котовсого не собаки съели, а скорее всего, окаменевшее от холода тело нашли такие же обормоты, как и он сам, и зарыли в какой-нибудь промерзлой канаве. Но как бы там ни было, подстраховка никогда не помешает…
Считается, что именно в тысяча девятьсот втором году Котовский объявился среди революционеров-ленинцев, а если быть точнее – среди «искровцев».
Ему была интересна литература, которую распространяли «искровцы» – таких книг и брошюр раньше Григорий никогда не читал. И вообще не встречал.
Работы не было, устроиться куда-либо, не имея рекомендации от прежних хозяев, Котовский не мог, с этим делом было строго, приходилось браться за все, что могло принести несколько копеек на буханку хлеба с водой, не то ведь даже кусок черняшки купить было не на что. Котовский разгружал вагоны и баржи, пас скот, копал землю, вышвыривая лопатой из ям чудовищно крупные куски земли. Силой он был наделен невиданной.
Именно грузчики, с которыми он подрабатывал, и дали ему две прокламации, появившиеся в Одесском порту. Прокламации вкусно пахли свежей краской. Раз пахнут типографией, значит, отпечатаны они здесь же, в городе – не завозные они… Так в Одессе и Кишиневе запахло революцией.
Дух ее Котовский, как и окружающие его люди, тоже ощущал, хотя и не предавал революционной деятельности такого значения, которое придавали «искровцы». А вообще дело дошло до того, что к Кишиневу подтянули воинские силы – полицейских могло не хватить.
Стал известен приказ, свидетельствующий о жестоких мерах, разработанных командиром полка, вошедшего в Кишинев. Тот сформировал роты «для подавления могущих возникнуть в городе беспорядков».
«Выступать по приказу, – велел ретивый командир полка. – Действовать решительно и ни перед чем не останавливаться. Каждому нижнему чину иметь 15 боевых патронов и одну веревку». Командира пехотного полка поддержал военный комендант Кишинева. Власть была готова стрелять в собственный народ.
Винтовки были вскинуты, патроны загнаны в стволы, затворы взведены… Осталось только подать команду «Пли!»
Прознав про все это, Котовский лишь поморщился неверяще, покачал головой и несколько раз с тоской посмотрел в небо, словно бы собирался куда-то улететь.
Но улетать было некуда. Если только в армию – в ближайшем времени ему предстояло натянуть на плечи солдатскую рубаху: наступала пора воинской повинности. Это беспокоило Котовского – а вдруг его заставят стрелять в людей, в своих же собственных земляков, а? Что в таком разе делать?
Этого Котовский не знал.
Несколько позже, когда пройдет года три, он будет хорошо знать, что делать…
Первого октября он приехал в Балту – небольшой, утопающий в садах городок, насквозь пропитанный запахом яблок и слив, явился в так называемое воинское присутствие к сонному штабс-капитану, обитавшему в небольшой комнатенке по соседству с полицейским околотком. Штабс-капитан окинул Котовского ленивым взглядом и не удержался от зевка:
– Приходи через месяц, раньше не приходи, парень… Забирать народ в армию будем в ноябре месяце. Понял? – штабс-капитан вновь звучно, широко распахивая рот, зевнул. До Котовского донесся перегар, оставленный местной яблочной наливкой, – в Балте ее умели готовить как нигде.
Во времени образовалась дырка. Отправляться в Кишинев, либо ехать в Одессу не имело смысла – практически тут же пришлось бы возвращаться.
Котовский долго раздумывать не стал, покатил к сестре в Ганчешты, в свое родное село, где в семье заведующего машинным отделением винокуренного завода Григорий был четвертым ребенком, младшим из детей.
Работал старший Котовский, Иван Николаевич, – отец Григория, – у знаменитого князя Манук-бея. Манук-бею и принадлежал завод, выпускавший лучшие на бессарабской земле вина. И сам Манук-бей был личностью неординарной, известной не только в здешних краях, но и в Румынии, и в Турции, и в Болгарии, сыграл он немаловажную роль и в жизни младшего Котовского и вообще его семьи – Манук-бей поддерживал всех Котовских, и когда у Гришки не стало ни матери, ни отца, ни старшего брата, помог устроиться в престижное сельскохозяйственное училище, а пару раз вообще вытаскивал из таких передряг, которые грозили Григорию непременной тюрьмой.
Влияние князя Манук-бея было выше решений полицейских властей.
Старший брат Григория Коля утонул в пруду, когда Гриша еще только учился ходить – ему было два года. А рос Коля мальчишкой толковым, ему прочили большое будущее.
Гибель его окончательно подкосила мать Акулину Романовну, она слегла. Уже в постели, когда она была лежачей больной, выяснилось, что ей предстоят преждевременные роды.
Подняться с постели Акулине Романовне не было дано, домой она вернулась уже в гробу, чтобы попрощаться с родными стенами.
Хата, в которой они жили, была неказистой, о трех окнах, с высокой, покрытой местным материалом-дранкой крышей, но, несмотря на неказистость, нарядной; Акулина Романовна каждый год обязательно белила стены и масляной краской обновляла рамы и бревенчатые столбы, подпирающие вынесенную вперед крышу. Изба даже пыльным летом выглядела по-рождественски праздничной, от нее веяло уютом и покоем.
И вот Акулины Романовны не стало. Кто теперь будет белить стены?
Родную матушку Грише Котовскому заменила мать крестная. Софья Михайловна Шаль хорошо знала семью Котовских, была человеком очень сердечным, всегда старалась угостить крестника чем-нибудь вкусным. Гриша любил Софью Михайловну не меньше матери. Были еще и сестры, которые также заботились о младшем брате, но все-таки у Софьи Михайловны было больше возможностей для проявления материнской нежности.
Отец сутками пропадал на заводе среди машин и огромных емкостей, в которых отстаивалось (Иван Николаевич говорил: «воспитывалось») вино, иногда брал с собою Гришу, рассказывал ему об устройстве разных механизмов, в том числе и сложных, и сын оказался сообразительным, практические науки усваивал очень быстро.
Жизнь шла. Шла нормально, пока не наступил тот самый скорбный день, когда в Ганчештах даже воздух сделался черным.
Не стало отца. Иван Николаевич простудился, когда ремонтировал паровой котел, слег в постель, рассчитывал скоро подняться, но подняться не сумел – не хватило сил.
Посмотрел на детей прощально, сглотнул слезы, скопившиеся в глотке, закрыл глаза и глубоко, судорожно вздохнул. С этим последним вздохом душа его покинула тело.
Сейчас Григорий собирался повидать одну из сестер. Вторая тоже жила в Ганчештах, но сейчас вместе с мужем отбыла в Киев на похороны. Она была женой управляющего винокуренного завода Горского.
Правда, вина сейчас завод производил очень немного – перешел на выпуск спирта, это было выгодно и не столь хлопотно, заморочек в три раза меньше, чем с вином, а деньги – те же. Иногда даже больше – в кассе завода оставались весьма приличные суммы.
Спирт в Ганчештах гнали из кукурузы, поэтому дорога к заводу, стоявшему в стороне от большака (предприятие было выстроено на плавунах по особой технологии, без свай и фундамента, увидеть завод можно было из любого угла села, его венчала высокая черная труба), была украшена длинными лезвистыми листьями кукурузы. День и ночь на дороге теперь скрипели арбы – крестьяне подвозили к заводу сырье – крупные початки кукурузы.
Едва прибыв в Ганчешты, Котовский узнал, что его разыскивает становой пристав. За что, за какие проделки и смертные грехи ему выпала такая честь, Григорий не знал, но от пристава решил не прятаться, а явиться к нему за разъяснением: пусть расскажет, что к чему. Вдруг тот разыскивает Григория по делу?
– В чем вопрос-то хоть, пристав не объяснил? – спросил Котовский у сестры.
Елена со вздохом покачала головой:
– Нет!
Не знала сестра, что в отношении ее брата уже имеются и решение мирового судьи, и распоряжение судебного пристава: «Мещанина Котовского Г. И. разыскать и на месяц посадить под тюремный замок».
Григорий задумчиво почесал затылок – что-то подсказывало ему, что самое лучшее – исчезнуть из Ганчешт и через месяц появиться в Балте – пусть его берут в рекруты, в конце концов, а когда натянет на себя солдатскую рубаху, его уже никакой полицейский не сумеет прижать к забору.
– Да не мучайся ты, – сказала ему Елена, – сходи к приставу и все узнай. Дел-то!
И Котовский пошел: интересно было, чего становому приставу от него надо?
А пристав, едва в дверях появился плотный человек с сильными руками и короткими рыжеватыми волосами на голове, с жестким прищуром серых глаз, даже привстал на стуле. Григория Котовского в лицо он не знал, никогда ранее не видел, но здесь внезапно вспомнил его фамилию. В ушах у станового даже звон раздался.
Он расправил усы, трубно кашлянул в кулак:
– Котовский?
– Так точно, – ответил тот по-солдатски.
– Из Кишинева – давно?
– Недавно.
– Что ж, придется съездить еще раз, – сказал пристав и рявкнул так, что с потолка попадали сонные осенние мухи: – Пшепшеченко!
В небольшом коридорчике загрохотали сапоги и на пороге комнаты появился полицейский в фуражке, глубоко натянутой на уши. Даже глаз не было видно из-под козырька – только нос. Странный был человек, и фамилия у него была странная, ни польская, ни украинская, ни молдавская – Пшепшеченко. Котовский никогда не слышал такой фамилии.
– Бери господина Котовского под руки и препроводи в Кишинев, – велел пристав полицейскому в фуражке, – не то эти господа скоро вообще в бумажках утопят – закидали требованиями. Усадьбу ими можно отапливать.
– А мне в Кишинев не надо, – неожиданно произнес Котовский.
– Надо или не надо, об этом тебя даже спрашивать никто не будет, – от рявкающего голоса пристава попадавшие с потолка на пол мухи сдулись в угол и сгреблись в одну серую кучу. – Понял?
В Кишиневе Котовскому объяснили, в чем дело – выстрел, посланный ему вдогонку Скоповским, все-таки достиг цели: обвинение в исчезнувших (а по мнению помещика уворованных) семидесяти семи рублях было рассмотрено в суде, и судья вынес приговор с совершенно реальным сроком, судебный исполнитель принял бумаги к действию и начал разыскивать Котовского.
Все доводы арестанта были отклонены, а история о том, как Скоповский морозным февральским вечером, при недобром, красном, похожем на растекшуюся по небу кровь закате, вывез его в чистое поле и оставил там замерзать, вызвала у ретивых исполнителей приговора веселый смех.
Хорошо, что Григория еще не связывали, не надевали на запястья кандалы, как это иногда делали с другими заключенными, а просто бросили в камеру. Камера была наполнена спертым воздухом, какой-то странной вонью – похоже, это был запах немытого тела, еще чего-то, чему, кажется, и названия нет, и плотно набита бритоголовыми, с цепкими глазами людьми.
Кишиневская тюрьма вообще походила на крепость времен средневековой инквизиции, была угрюма, темна, стены имела такие толстые, что их не мог пробить даже пушечный снаряд, звук также не проходил сквозь плотную каменную кладку, над центральными воротами, сложенными в виде башни, красовался вырезанный в виде углубления католический крест – горельеф, который смотрелся, будто вырубленный.
Растительности у тюремных ворот почти не было, хотя Кишинев всегда славился своей зеленью, деревьями, спасающими людей от летнего ошпаривающего солнца, акациями и каштанами, но здесь все было голо.
У высокой решетчатой двери, по обе стороны которой были сооружены две караульные будки, стояли дюжие охранники с винтовками – пуще глаза своего стерегли здешних сидельцев. Были охранники хмуры, поблескивали чисто выбритыми (ну, будто металлическими) подбородками и всякому, кто задерживался около них, желая поглазеть на диковинные ворота главного бессарабского зиндана, кричали прямо в лицо – глотки у охранников были луженые:
– Проходи мимо! Не застревай!
И народ, устрашившись кликов, невольно убыстрял шаг: уж очень неприятным было это место, хотя и походило на некую сказочную крепость. У молодого Котовского даже сердце защемило, когда он в первый раз увидел решетчатые двери и крест, аккуратным углублением вырезанный в округлой каменной стене, – не думал он тогда, в солнечный октябрьский день, что в тюрьме этой ему придется побывать еще не раз, застенки здешние станут для него неким университетом, хотя и своеобразным, но очень полезным.
«Бежать отсюда надо… только одно – бежать», – возникла в нем мысль, затеплилась светлым огоньком, и он начал думать, как бы это сделать, но додумать до конца не сумел – потрясение было настолько велико, что он свалился на нары в нервной горячке.
Чувствовал Григорий себя настолько слабым, что даже тюремный врач по фамилии Басилевич пожалел его и, стряхивая с халата вошь, перепрыгнувшую к нему от какого-то слишком близко подошедшего арестанта, сказал следователю, приехавшему посмотреть, как ведут себя его «клиенты»:
– Я бы освободил Котовского – пусть катит домой под надзор околоточного. Здесь с ним может случиться что угодно… Неприятностей потом не оберемся.
Следователь в ответ отрицательно покачал головой и произнес всего лишь одно слово:
– Нет.
Заключенный отсидел срок, определенный ему судом, час в час, минута в минуту, вышел за диковинные тюремные ворота ослабший, голодный, без копейки денег в кармане – ни одного медяка не было, – даже дорогу до Ганчешт, к сестрам, нечем было оплатить…
Было холодно, деревья стояли голые, свирепые ветры содрали с них всю листву, на осенних улицах народа почти не было – в такое неуютное время люди предпочитали сидеть дома.
«Попался бы мне сейчас этот Скоповский, – подумал Григорий с неожиданной злостью, – я бы ему, как петуху, голову в задницу засунул. – Котовский огляделся, словно бы действительно мог увидеть помещика на кишиневской улице… Но нет, Скоповского тут не было, им даже не пахло, улица, примыкающая к тюрьме, была пуста. – Ладно, – решил Котовский, – ты мне еще попадешься, петух вонючий».
Через двое суток он объявился в Ганчештах, худой, в истрепанной одежде, с покрасневшими от усталости, какими-то погасшими глазами.
– Господи! – только и всплеснула руками его сестра Елена. – Гриш, ты на самого себя не похож.
– Знаю, – глухо пробормотал Котовский, – плохо мне…
Сестра знала его характер, знала, что Григорий никогда ни на что не жаловался и не будет жаловаться, натура у него такая, но раз он говорит, что плохо, значит, Грише действительно плохо.
На столе стояла крынка со свежим молоком, Елена схватила ее, протянула брату:
– Выпей!
Тот все понял, улыбнулся через силу:
– Что, так паршиво выгляжу?
– Паршиво, – не стала скрывать Елена.
Григорий покачал головой, вздохнул – похоже, он сочувствовал сам себе, но в следующее мгновение выпрямился: сочувствие и жалость – штуки плохие, они расслабляют человека, более того – унижают, а быть расслабленным или тем паче – униженным, Котовский никак не хотел, более того – жалость к себе, любимому, лучшему из лучших, – презирал. Он улыбнулся Елене, взял из ее рук крынку.
– Пей, пей, – подтолкнула его сестра, – молоко парное, еще теплое. Много полезнее разных порошков и микстур.
Кивнув согласно, Котовский выпил молоко. До дна. Протянул крынку Елене пустой.
– Из родных рук не то что молоко, даже простая вода становится целебной, – искренне, хотя и несколько выспренно произнес он. – Спасибо, сестра.
– Тебе надо полежать пару недель, прийти в себя, – сказала Елена, с сочувственной грустью глядя на брата, – а потом заниматься делами, жить дальше.
– Для меня сейчас самое важное – устроиться на работу, – сказал Котовский.
Но это по-прежнему было непросто. Если претендовать на приличную должность, то для этого нужно рекомендательное письмо.
А кто даст ему рекомендательное письмо? Скоповский? Владелец богатого имения в Максимовке Якунин? Григорий чуть приметно усмехнулся, – печальной была эта усмешка: людей, которые поручились бы за него, нет.
Вот если б был жив Манук-бей, тогда… Но Манук-бей, добрая звезда, покровитель Гриши Котовского, недавно ушел из жизни.
Отлежавшись немного у сестры и обретя дыхание, Котовский некоторое время работал в селе Молешты Бендерского уезда лесным объездчиком (это место дал ему помещик Авербух), потом обычным, не чурающимся никакой черновой работы поденщиком в имении Недова, затем перебрался в Кишинев и устроился на пивоваренный завод Раппа. Работа на заводе была сытной, пивной…
В январе девятьсот пятого года его арестовали вновь. На этот раз – за уклонение от воинской службы: мол, не хотел маршировать с трехлинейкой на плече.
А Котовский вовсе не думал уклоняться, просто сотрудники воинского присутствия были слишком нерасторопны, ленивы, прислали призывной квиток в Ганчешты, где «бравый рекрут» не появлялся уже несколько месяцев, и поскольку от него не было ни вестей, ни «стука с трюком», обвинили в нарушении закона.
Третьего февраля состоялось открытое заседание Балтского воинского присутствия, после чего Котовского направили в 19-й Костромской пехотный полк, расквартированный в Житомире.
Обстановка в России складывалась трагическая. Повсюду вспыхивали крестьянские бунты, деревни голодали, полыхали богатые усадьбы, имущество помещиков нещадно растаскивалось, раздергивалось по щепотьям, катастрофически увеличивалось количество нищих. Посол Франции в России Бомпар докладывал в Париж: «Все классы общества пришли в смятение: в стране совершаются политические убийства, идут забастовки, крестьянские бунты, новые слои общества, охваченные идеями радикализма и обновленного народничества, превратились в оппозицию государству».
В общем, замаячил призрак революции, охваченный языками пламени, окутанный клубами дыма. Надо заметить: Котовскому этот призрак нравился.
В мае месяце Котовский заболел и был помещен в полковой лазарет. Врачи, командовавшие лазаретом, недоуменно чесали затылки – никак не могли установить диагноз:
– То ли болен этот парень, то ли здоров – непонятно.
А Григорий Котовский, который постепенно превращался в Григория Ивановича, – его рано начали величать по имени-отчеству, – знал, чем он болен.
Тридцать первого числа, ночью, он оделся в заранее припасенную рабочую спецовку, которая и мягкая была, и не мялась до неприличия, как другая одежда, да и чувствовал он себя в ней удобно, открыл окно пошире и спрыгнул в густой куст сирени. После чего был таков.
Котовского пробовали искать местными силами, малыми, солдатскими, но куда там – солдаты пехотного полка, расквартированного в Житомире, сами были готовы сбежать, так что дезертира они не отыскали, и полковник Воронов, командовавший частью, издал приказ, в котором были следующие слова: «Исключить его из списков полка, роты и больных Житомирского местного лазарета».
Четвертого числа июня девятьсот пятого года Котовский уже прибыл в Бессарабию, где почувствовал себя, как рыба в воде, – он находился в своей стихии.
Молдавия пребывала в подавленном состоянии: почти три года Кишинев, как, впрочем, и Одессу, сотрясали еврейские погромы. Котовский отрицательно относился к ним, при случае мог ухватить погромщика за шиворот и приподнять над землей, либо сунуть ему под нос устрашающе большой кулак:
– Нельзя, понял? Грех!
Язык кулака был понятен всем, даже самым непонимающим. Котовский не был националистом, не был человеком, который плохо относился к евреям, и когда узнал, что евреи в ответ на погромы создали социалистическую партию «Бунд» и теперь проводили агитацию в армии среди солдат еврейской национальности, видя в них своих будущих защитников, то только в ладони похлопал:
– Браво!
Крестьянские волнения докатились и до его родины, помещичьи усадьбы, правда, не полыхали так ярко, как это происходило, скажем, в Среднем Поволжье или на Украине, но дымом пахло здорово, а кое-где веселился, ярко освещая пространство, огонь, и это был огонь далеко не костерный… Кстати, досужие специалисты от статистики потом подсчитали, что с тысяча девятьсот второго года по девятьсот четвертый по России прокатилось 670 крестьянских восстаний…
Пришли солдаты и в Ганчешты. Там оголодавшие батраки, долго не получавшие от своих хозяев ни денег, ни продуктов, самовольно забрали у торговцев муку. Реакция последовала незамедлительно: в селе появились две роты вооруженных солдат.
Пороли не только виноватых батраков, но и тех, кто к сопротивлению не имел никакого отношения, – всех подряд, словом. Хотя порки, обработка спин палками и кнутами и вообще всякие телесные наказания были отменены царем в девятьсот третьем году. Отменены официально.
Положение складывалось унизительное… Подумал-подумал Котовский и… создал свой отряд. В солнечный зимний день первого декабря тысяча девятьсот пятого года в Иванчском лесу, между Кишиневом и Оргеевом, отрядом Котовского был остановлен богатый дворянский тарантас, в котором сидел самодовольный молодой человек, – как потом выяснилось, зажиточный помещик по фамилии Дудниченко.
Вид вооруженных людей не смутил его.
– Чем обязан? – спросил он.
– Деньгами, – почти в тон ответил ему Котовский.
– Немного могу одолжить, – произнес молодой человек с улыбкой. – Жертвую на бедность.
– Нам надо все, – сказал Котовский, – и не на бедность, а на нормальную жизнь.
Дудниченко опустил руку во внутренний карман пиджака, вытащил оттуда длинный кожаный кошель с тиснением, протянул Котовскому.
– Вот. Больше ничего нет.
– Верю, – удовлетворенно проговорил тот, перехватывая кошель, сделал знак своим спутникам: – Пропустите!
Те посторонились, и дворянин Дудниченко покатил дальше. Лицо его было безмятежным, розовым, на губах продолжала играть легкая улыбка – похоже, владелец богатого тарантаса не очень-то и расстроился, лишившись кошеля. Счастливый человек. Котовскому тоже очень хотелось бы быть таким…
В тот же день группа нашего героя обзавелась еще одним кошельком, потом еще и побогаче дворянского. Деньги в карман Котовского перекочевали из кармана купца Когана.
Отмечали первый добычливый день в трех километрах от дороги, на которой производили «экспроприацию», в лесу у высокого жаркого костра. Маноля Гуцуляк, ставший правой рукой Котовского, притащил два бочонка темного виноградного вина, на радостях зажарили свиной окорок и нежную телячью ногу. Шумно, вкусно, весело было в лесу, жизнь казалась собравшимся безмятежной, счастливой. Котовский, осушив в один прием полуторалитровый ковш вина, пообещал своим сподвижникам: «Так будет всегда!» И победно вытер рыжеватые, игриво вьющиеся усы.
Жизнь действительно была прекрасной, но, несмотря на романтическую приподнятость момента, на радостное настроение, в котором сейчас находились люди Котовского, забот было все-таки много. Предстоящий ночной мороз, о котором недвусмысленно предупредил багровый закат, – одна забота, скажем так, сиюминутная, кони, которых обязательно надо было достать, поскольку по заснеженному лесу передвигаться на своих двоих было очень сложно, – вторая забота, также требовалось добыть оружие, без которого всякое войско – это не войско, продукты, одежда, конспиративное жилье – все это заботы, заботы, заботы…
Все они свалились на голову атамана, все надо было решить. Чтобы не оказаться на бобах.
Два ограбления, совершенные Котовским первого декабря, остались в бессарабском обществе практически незамеченными, словно бы их и не было, – кроме, наверное, семей купца Когана и помещика Дудниченко, – а вот то, что происходило потом, незамедлительно сделалось достоянием газет.
О Котовском, – фамилия его быстро просочилась в печать, словно бы кто-то был в этом заинтересован, – начали писать. Писали левые, правые, центристы, анархисты, бундовцы, националисты, монархисты, социалисты, гимназисты-революционеры, все, кто хоть немного был знаком с сочинительством, мог оперировать словами и награждать героев участившихся ограблений разными сочными эпитетами.
Из Иванчского леса Котовский перебрался в Бардарский – более густой, более спокойный и близкий душе, что ли. Григорий Иванович сделался героем публикаций едва ли не всех бессарабских газет, но больше всего материалов о нем давали такие издания, как «Бессарабская жизнь», «Друг», «Бессарабец». Именно с их страниц пошла молва о «бессарабском Робин Гуде», который действовал ловко и бесстрашно, изобретательно, всегда появлялся в тех местах, где его не ждали, водил за нос полицию и помещичьих охранников, а чиновникам, творящим беспредел, и владельцам земель, не спешившим рассчитаться со своими батраками, бросал прямо в лицо такие фразы, что те делались бумажно-белыми от испуга. Информация насчет того, что где происходит и кто виноват, у него всегда имелась самая свежая, получал он ее быстрее, чем самые популярные бессарабские газеты.
В декабре девятьсот пятого года группа Котовского совершила двенадцать «экспроприаций», взяла пару мешков денег, не меньше, значительную часть из них раздала беднякам, у которых не то, чтобы хлеба – даже соломы, чтобы кинуть на язык, да пожевать ее, как корова, не было; про себя котовцы, конечно, тоже не забыли.
Котовский называл подопечных «черноморцами». Почему именно черноморцы, никто не знал, понять не мог, но тем не менее это прозвище прижилось.
Как-то вечером, у костра Гуцуляк спросил у Котовского:
– Скажи, Григорий Иванович, а кто такой Робин Гуд?
– Это был сильный, справедливый человек, который отнимал деньги у богатых и раздавал их бедным.
– А-а-а… Теперь понятно, почему про нас в газетах так пишут, – задумчиво протянул Гуцуляк.
– Ну, если еще понятнее, то про Васыля Чумака ты слышал?
– Было дело, слышал.
– Чумак – это тоже Робин Гуд, ежели хочешь.
Чумак молдаванам был известен хорошо, его знали в каждом бедном доме, – один из самых блистательных и справедливых людей прошлого…
– Чумак – это хорошо, мы вроде бы тоже, как Чумаки.
– Что касается меня, то я, брат Маноля, больше люблю Дубровского. Это из Пушкина Александра Сергеича, он о нем весьма недурственно написал.
– Хороший человек был Дубровский?
– Очень хороший. – Котовский подкинул в огонь немного сушняка, пламя взвихрилось, сделалось ярким, словно в него сыпанули пороха. Гуцуляк выжидательно смотрел на атамана, думая, что тот скажет что-нибудь еще, но лицо Котовского сделалось задумчивым – он уже вырубился из разговора.
Совсем недалеко от костра, метрах в пятидесяти, в черной глубине леса тревожно и призывно заухала крупная ночная птица. Котовский поднял голову – точно ли это птица? А вдруг человек? Сжал глаза жестко, будто выискивал в черном пространстве врага, в следующую минуту успокоенно опустил голову: это была птица.
Конечно, слава разбойника, которую хотели припечатать к его имени, не была нужна совершенно, а вот слава Робин Гуда… Тут надо десяток раз крепко подумать, раз восемь примерить и раз пять взвесить, и только потом принимать решение. Робин Гуд, Робин Гуд…
Слава Робин Гуда – тоже, наверное, не то, честно говоря, Котовский хотел другой славы и, когда ему неожиданно приписали чужое ограбление (помещика Критского чуть ли не догола раздели гоп-стопники), возмутился невероятно, написал довольно колючее опровержение и отправил его в редакцию «Бессарабской жизни». Газета это опровержение опубликовала, текст опровержения привлек внимание не только читателей-молдаван, но и одесситов, украинцев, русских, вырезки в своих карманах носили даже неграмотные грузчики.
Фамилия Котовского стала известна на юге Российской империи, не просто известна, а очень широко: она была на устах дворников и городовых, экономок и извозчиков, пехотных офицеров и работяг из литейных мастерских, лесных объездчиков и служащих мелких контор.
Честно говоря, Котовского это раздражало, хотелось, чтобы его фамилию трепали поменьше, но что было, то было, и запретить людям говорить он никак не мог.
Налеты налетами, заботы заботами, передвижения по лесам передвижениями – главное, не сбить ноги о какую-нибудь корягу, но вот странная вещь: встав во главе ватаги, Котовский начал больше читать. Хорошая книга стала для него такой же желанной добычей, как и туго набитый кошелек… Читал Толстого и Байрона, Чехова и Бальзака, Достоевского и Вольтера, Уайльда и Монтеня, Гумбольдта и Монтескье. В книгах он искал ответ на вопрос: что есть человек? Или кто он есть?
И чем больше читал, тем меньше находил ответов на этот вопрос, вот ведь как. Человек – существо сложное, запутанное, загадочное, вызывает грустную улыбку и заставляет размышлять еще больше: кто же все-таки он есть?
В январе девятьсот шестого года Котовский перенес свою базу из Бардарского леса назад в Иванчский: тут недалеко все-таки находилась большая дорога, широкий тракт, а Котовскому без большой дороги никак нельзя, на тропинках, да узких проселках тесно, там даже дышать нечем. Да и к Кишиневу Иванчский лес был ближе, чем Бардарский, – околица города, деревянные домишки мещан располагались уже в Иванчском лесу, среди птичьих гнезд, а лисы и зайцы вообще заходили в дома к людям, как в свои собственные.
В Кишиневе Котовский снял пару больших квартир, чтобы ватаге было где расположиться, обзавелся гардеробом из восьми костюмов. Тут имелись и два смокинга, в которых богатый человек обычно выходит в свет – в театр или в ресторацию с любимой женщиной, и офицерский мундир с аксельбантами выпускника Академии Генерального штаба, и стихирь православного священника, и одежда знатного охотника, сшитая из замши… Обзавелся Котовский и собственным выездом – парой ухоженных лошадей, лакированным фаэтоном, на козлы сажал кучера в шелковом котелке – обычно эту роль исполнял Прокопий Демьянишин.
Лихо носясь по кишиневским улицам, Прокопий не только по-пистолетному громко щелкал кнутом, но и давил на каучуковую автомобильную грушу, прилаженную к облучку, – движение фаэтона сопровождал выразительный коровий рев. Ну никак не мог Григорий Иванович обойтись без маскарада!
А с другой стороны, каждый такой его выезд в Кишинев становился известен: народ с удовольствием смаковал детали налетов Котовского на дома богатых людей, истории эти передавались от человека к человеку, обрастали подробностями, которых на деле не было, фигура главного героя тех событий обретала романтические очертания, на глазах превращалась в легенду.
Часть денег Котовский по-прежнему раздавал, завел даже специальный блокнот, в котором отмечал, кому сколько рублей выдал; фамилии, конечно, не записывал, но сам факт отмечал обязательно, и эти робингудовские поощрения потом в народе помнили долго, о них чуть ли не песни складывали.
Кому-то он совал красный червонец на приобретение двух телят, кому-то сумму побольше – на покупку коня, кому-то – поправить прохудившуюся крышу, иначе семья может вообще остаться без дома, а кому-то просто на похмелье.
В общем, всякое бывало…
Имя Котовского сделалось популярным.
Количество полицейских, пытавшихся в ту далекую пору вычислить Котовского, напасть на его след, арестовать, сосчитать невозможно. Несколько сотен человек. На ноги были подняты все – и полицейские околотки малых городов, и большие жандармские соединения городов крупных, в состояние тщательного обнюхивания галош каждого нового человека были приведены сотни различных стукачей – дворников, чистильщиков сапог, продавцов зелени и пирожков с рук, леденцов с лотков, точильщиков ножей и ножниц, молочниц, мастеров по удалению спекшейся сажи из печных труб, водовозов и прочих сознательных граждан, которые имели хороший нюх и цепкие глаза.
С их помощью Котовский обязательно должен быть пойман, ему не уйти никак…
Был по полицейским околоткам разослан и портрет Котовского, из него следовало, что рост бессарабского Робин Гуда – два аршина и семь вершков (в переводе на современный язык 174 сантиметра), телосложение – плотное, физически развит очень хорошо, при ходьбе немного сутулится, но при этом походка его – «легкая и скорая». Волосы редкие, черные (скорее всего, все-таки темные, с веселой рыжинкой), на лбу – залысины. Глаза карие, усы аккуратно подстрижены, может появляться с бородой и без бороды. Под глазами – крохотные темные пятна. Голова круглая.
В числе особых примет было отмечено: левша. Стреляет обычно из двух пистолетов, причем стрелять, как правило, начинает с левой руки.
Чутье у Котовского успело выработаться тонкое, опасность он ощущает издалека, за километр, как говорят в таких случаях, но молодой атаман ощущал запах дыма и дух смазки, которой были обихожены жандармские наганы, за много километров. Так что великолепным чутьем своим, кожей, корнями волос, лопатками он ощущал опасность загодя, потом подпускал к себе: вот она, уже рядом находится, обкладывает…
Другой бы озаботился, лег на дно, распустил боевиков, – плевать, что привык к ним, как к родным братьям, – затих бы на полгода, но только не Котовский, он был слеплен из другого материала. И обожжен по-иному. И обработан хорошо – ветрами, водой, ночным холодом, опасностью, дружбой преданных людей, – испытан в разных технологических режимах, словом.
До сих пор в молдавских селах живы легенды, которые передаются из одного поколения в другое уже более ста лет.
Известный писатель середины прошлого века Владимир Шмерлинг, которого считают первым биографом Котовского, в свое время собрал эти легенды. В частности, он записал, например, рассказ одного возчика по фамилии Дубоссарский.
…День тот был вьюжный, здорово подмораживало, когда несколько женщин, у которых дома в селе закончились деньги и детишки кричали от голода, решили поехать в Кишинев за пенсией.
Сильно мело, в открытых местах хвосты снега, наползшие на дорогу, поднимались высоко, до полуметра, превратились в настоящие пороги, твердые, как камень, хоть топором сквозь них прорубайся, жестокий ветер проникал сквозь любую плотную одежду, просаживал клиенток возчика до костей – те только зубами стучали от холода, мороз прихватывал им то носы, то щеки, то подбородки – озябшие бабы только вскрикивали от боли либо онемения…
Дубоссарский думал, что они попросят повернуть назад, отложат поездку хотя бы на сутки, но, видать, у тех не было такой возможности – безденежье совсем подперло, поэтому женщины лишь кутались в одежду и ждали, когда появятся домишки кишиневской окраины.
Неожиданно из густых охлестов снега возник верховой. Остановился. Это был Котовский, возчик знал его в лицо.
– Куда это вы в такую погоду нацелились? – спросил Котовский. – Мороз же!
– За пенсией, – постукивая зубами от холода, сообщила одна из баб.
Котовский не выдержал, хмыкнул.
– И велика ли пенсия? Сколько получать придется?
– Пять рублей, – услышал он ответ.
Покачав удрученно головой, Котовский хмыкнул снова, достал из кармана кошелек – «лопатник», как было принято говорить в ту пору, – и выдал каждой женщине по «синенькой» – пятирублевой кредитке.
– А тебе, друг любезный, вот гонорар, – Котовский также выдал возчику пятерку, – разворачивай оглобли в обратную сторону и развези женщин по домам, каждую к крылечку, – велел он Дубоссарскому, – нечего им морозиться.
Дубоссарский так и поступил. Потом долго рассказывал землякам эту историю…
В трех городах – Кишиневе, Бельцах и Оргееве в худые годы неимущие студенты-бессарабцы каждый месяц получали конверты с деньгами. Отправлял эти «письма счастья» неизвестный благодетель.
Впрочем, для студентов он не был неизвестным, молодые люди знали, кто это, и при случае старались рассказывать своим знакомым о «славном человеке Котовском»…
В Кишиневе помощником пристава третьего участка служил человек очень шустрый, пронырливый, все замечающий – ни одна мелочь не проходила мимо его глаза, засекал он все, – по фамилии Зильберг.
Он был первым полицейским, которому удалось выследить Котовского, но когда он беззвучно проник в квартиру, где по точным сведениям стукача скрывался разбойник, и замер у двери, чтобы немного оглядеться, прислушаться к опасной тишине, то неожиданно ощутил прикосновение холодной стали к виску.
Скосил глаза вбок и почувствовал страх, – даже колени задрожали от неожиданности, а во рту сделалось сухо и горько, словно бы на язык ему сыпанули молотого перца. Даже слезы полились из-под век. Вот тебе и захватил Котовского врасплох…
– Ну что, душа любезный, – исковеркал правильную речь Котовский, – молись! Отслужил ты свое на царя-батюшку. Похоронят тебя за казенный счет. Даже выпивку тебе за казенный счет поставят… Чуешь, долгоносый?
Зильберг всхлипнул и хлопнулся на колени.
– Батюшка родненький, пощади! – проныл он.
– А зачем? – спокойно, беспечным тоном поинтересовался Котовский.
– Что зачем? – у Зильберга невольно застучали зубы.
– Зачем щадить-то тебя? – Котовский недоуменно приподнял одно плечо. Произнес озадаченно: – Не нахожу для этого никаких оснований.
Считал Зильберг, что Котовскому прихлопнуть человека – все равно, что щелкнуть муху газеткой: шлеп – и от мухи останутся только одни лапки. Да еще крылышки, может быть. Страшно сделалось Зильбергу, он закрутил голевой болезненно, выворачивая из воротника шею.
– Гы-ы-ы-ы… – Зильберг заерзал коленями по полу, захлюпал носом, будто простуженный, ноздри ему, похоже, заткнуло пробками, дышать сделалось трудно. – Не стреляйте в меня, – попросил он Котовского, – я вам еще пригожусь.
– Пригодишься? – Котовский недоуменно сморщил лоб. – Это каким же боком? У пристава из-под носа уволокешь стакан с чаем? Или набьешь в его пахитоски куриного помета?
– Я пригожусь вам, вот увидите, ваше высокоблагородие… Попомните мое слово.
– Никогда не был их высокоблагородием, – сказал Котовский перетрухнувшему полицейскому, – и что важно – никогда не буду.
– Но я все равно пригожусь вам, даже если вы не будете высокоблагородием…
Подумав немного, Котовский отвел пистолетное дуло от головы незадачливого помощника пристава.
– Ладно, допустим, я тебе верю, – неторопливо проговорил Котовский, – но, если обманешь меня хотя бы в малой малости, будешь жалеть, что родился на белый свет.
– Не обману, точно не обману… – зачастил Зильберг и перекрестился.
Котовский удивленно вскинул одну бровь: этот деятель с ярко выраженными чертами лица – православный? Крещеный? Это хорошо, что он крещеный. Обманывать меньше будет.
Котовский засунул пистолет за пояс, расправил ремень.
– От тебя, душа любезный, мне нужно только одно, – сказал он, – чтобы я знал все, что полиция затевает против меня. Понятно?
– Понятно, понятно, – поспешно закивал Зильберг, – все буду делать в лучшем виде.
Поведение помощника пристава было суматошным, нервным, руки дрожали, лицо тоже тряслось. Котовский подумал, что другой на его месте, не задумываясь, пристрелил бы этого деятеля: нет человека – и забот никаких нет. И угрозы тоже нет.
Он снова взвел курок пистолета и, выдернув его из-за пояса, ткнул стволом в голову Зильберга.
– Вы же обещали, – захныкал тот, – обещали, что не будете меня убивать…
– Не бойся, шкура, убивать я тебя действительно не буду. Но знай одно – если где-нибудь споткнешься, и я это засеку, – пара дырок тебе в голове обеспечена. Ясно?
Помощник пристава был понятливый, он покорно закивал тяжелой, потной от ощущения близкой опасности головой.
Отпустив полицейского, Котовский поспешно покинул квартиру – береженого Бог бережет, мало ли что у этого деятеля с жидким аксельбантиком на плече может быть в мозгу. Лучше перестраховаться и потом, чуть позже, проверить, не сидит ли кто во дворе в поленнице, замаскировавшись пилеными чурками, засекает, кто приходит в гости к Котовскому, а тип, засевший на противоположной стороне, ковыряет щепочкой в зубах и ждет, когда появится, допустим, Маноля Гуцуляк или Захарий Гроссу?
Конечно, Зильберг трясся совершенно напрасно, впустую стучал зубами и мокрил простудной жидкостью пол: за свою короткую жизнь Котовский не убил еще ни одного человека и убивать не собирался – не в его это характере. И не в его принципах…
Проверка Зильберга дала положительный результат – похоже, помощник пристава третьего участка решил действительно честно поработать на «адского атамана», как кишиневские издания начали в те дни величать Григория Ивановича, – придумали ведь, раньше до такого не додумывались, – трижды подряд сообщил о полицейских засадах, в которых были задействованы не только полицейские и жандармские силы, но и едва ли не целиком караульная рота кишиневского военного коменданта.
Полицейских и жандармов Котовский не боялся, но вот когда речь заходила о солдатах, внутри у него возникал холод: водить за нос и укладывать штабелями в грязь да в конский навоз ребят, которые, может быть, и призваны-то из его родных мест, из Ганчешт или со станции Кайнары, было жалко. Не заслужили такого обращении земляки. Котовский морщился, да накручивал на пистолетный шомпол кончики усов.
После трех проверок он начал относиться к Зильбергу, что называется, теплее, – с большим доверием.
А Зильберг старался, очень старался. По части «адского атамана» у него имелся свой план. Если все получится как надо, то карман у Зильберга оттопырится очень приметно. От купюр крупного достоинства. И на хлеб с маслом тогда будут у помощника пристава деньги, и на икру паюсную, и на мармелад душистый производства московской фабрики Эйнема, и на божественный парижский парфюм «о де колон»[1].
А пока Зильберг ждал, старался как можно ближе подойти к Котовскому, узнать адреса всех конспиративных квартир атамана. Знал же он пока лишь половину – это первое, и второе – Зильбергу было важно вычислить квартиры, где Котовский бывает чаще всего.
Поскольку «время икс» еще не наступило, Зильберг демонстрировал свою преданность Котовскому – безграничную, можно сказать, «до гроба», как принято у стоп-гопников… А Григорий Иванович оказался очень доверчивым, помощник пристава даже не предполагал, что матерый разбойник может быть таким…
В конце концов Зильберг произвел кое-какие подсчеты и пришел к выводу: пора хлопнуть по мухе туго скатанной газетой и сделать это в квартире в доме номер десять по улице Куприяновской…
Стоял ветреный день восемнадцатого февраля одна тысяча девятьсот шестого года.
Мелкий снег одеревянел, гулко хрустел под ногами, будто был слеплен из мерзлых коровьих лепешек, колючий пар, вырывающийся изо рта, прилипал к губам и вообще пытался втянуться назад, из-за жидких замороченных облачков робко выглядывало синюшное февральское солнце, совершенно не знающее, что такое свет и тепло.
Холод пробивал до костей.
В семь тридцать утра Зильберг засек Котовского – тот появился в квартире на Куприяновской: подъехал на пролетке, но свет зажигать не стал, а, сбросив с себя одежду, сразу же завалился спать.
Не удержался Зильберг, довольно потер руки:
– Й-йесть! Осталось только захлопнуть клетку.
Силы на Куприяновскую улицу были стянуты изрядные – мышь не проскочит.
В общем, Котовскому не уйти. Жандармские головы разве что из труб соседних домов не выглядывали, а так они были везде, торчали, словно тыквы на плетнях в урожайный год, куда ни кинь взгляд – всюду тыквы, тыквы, тыквы… Хорошо, время зимнее на дворе стоит, – ничего не видно, темень, – Котовский не обнаружил некоторых очень заметных вещей.
Но и заходить в дом к Котовскому облава боялась – изуродует ведь всех. Если не пулями, то кулаками.
А ловкостью и силой Котовский обладал редкостными, в борьбе мог уложить на земле рядком до полуроты солдат, – такая слава шла об этом человеке, и шустрый помощник пристава это знал.
– Что делать будем? – обратился к Зильбергу пехотный поручик. – Бандит в доме, чего ждать-то, а? Может, начнем штурм?
– Не будет никакого штурма, – покачал головой Зильберг, – не надо. Возьмем тихо, комариного писка никто не услышит.
– Это как? – поинтересовался поручик.
– Когда Котовский выйдет из дома, навалимся на него с перевесом, хорошим числом, руки скрутим, вот и все.
Поручик задумчиво приподнял одно плечо, потом другое, пошмыгал носом и отошел в сторону: никакой многомудрый козел не поймет этих полицейских. Действовали бы сами, не привлекая солдат – наверняка для всех лучше было бы. А быть у них в пристяжных – штука противная.
В конце концов так и поступили, как велел этот полицейский пшют: брали Котовского, когда тот, ни о чем не подозревая, вышел из дома, – даже оглядеться не успел, как на него с воем, толкаясь, мешая друг другу, словно полчище саранчи, налетели полицейские, жандармы, солдаты. Натянули на руки пеньковую веревку.
Котовский не сопротивлялся – понял, что бесполезно, только набычился угрюмо, уперся ногами в крыльцо, чтобы не завалили, да головой иногда крутил.
Увидев Зильберга, предупредил его:
– Тебе это даром не пройдет, Иуда!
Помощник пристава нервно вздернул голову.
– Прошу мне не угрожать!
В ответ – грустная усмешка Котовского: не разглядел он этого человека, не понял, что у него внутри, ошибся, думал, что все вопросы решают деньги, но денег Зильбергу оказалось мало…
Зильберг знал, что делал, – за Котовского он получил хороший куш из казны полицейского управления – две новеньких, вкусно хрустящих пятисотрублевых кредитки.
В доме номер девять на улице Куприянова до самого вечера проходил обыск: полицейские думали, что найдут здесь и оружие, и патроны, и взрывчатку, и нелегальную марксистскую литературу, которой начал увлекаться Котовский, и естественно, деньги – большие суммы денег, богатство купцов и помещиков, которых в последнее время так усердно тряс Григорий Иванович – несколько месяцев потратил на это.
Увы, не нашли. Вот что оказалось в результате в их руках: записная книжка, из которой мало чего можно было понять, новенькая театральная маска, свисток и четыре рубля двадцать пять копеек наличности: мятая трешка, рубль и две потертые серебряные монеты – гривенник и пятиалтынный, десять и пятнадцать копеек.
Зильберг чуть на потолок не полез, увидев, насколько мал его улов, уже вцепился руками в портьеру и занес ногу, и если бы не пехотный поручик, отогнавший помощника пристава в сторону едкими словами, то Зильберг, может быть, и вскарабкался на потолок.
Котовский с усмешкой посмотрел на Зильберга и, качнув головой, произнес многозначительную фразу:
– У вас все впереди… Как у царя Соломона.
Восемнадцатого же февраля, во второй половине дня, были арестованы и закованы в кандалы помощники Григория Ивановича Прокопий Демьянишин и Игнатий Пушкарев, были задержаны также хозяйки двух конспиративных квартир Акулина Жосан и Ирина Бессараб. Словом, обкладывали Котовского плотно, обстоятельно, умело.
Вскоре список арестованных увеличился.
– Мы теперь не только города, но и леса почистим, – пообещал Зильберг, – там теперь даже мыши будут жить с печатями полицейского управления на хвостах… Понятно?
– Слепой сказал посмотрим, – угрюмо проговорил в ответ Котовский, потом неожиданно хмыкнул: он знал нечто такое, о чем не подозревал Зильберг.
Кишиневская тюрьма, схожая с крепостью поры крестоносцев, была уже известна Котовскому, – прошлый «заход» даром не прошел, – так хорошо известна, что иногда на воле, в лесу, даже снилась и, случалось, утром Григорий Иванович иногда просыпался с ощущением некой застарелой оскомины.
Видать, недаром она снилась Котовскому, раз он вновь очутился здесь, в этих темных, пропахших бедой, грязью и мышами помещениях…
Котовского вызывали на допросы, но говорил он мало, в основном отмалчивался, а следователи – их было несколько, один сменял другого, – его особо и не трясли, что-то сдерживало их, и Котовский невольно усмехался, понимал, в чем дело: следователи боялись его…
Тем временем Кишиневская тюрьма взбунтовалась. Она не была исключением из ряда других тюрем: беспорядки возникали то в одной губернии, то в другой, в Москве рабочие, например, разобрали мостовую, чтобы пустить ее на камни, и преуспели в этом – камнями отражали нападение целых рот солдат, и это у них получилось.
В темные майские дни шестьдесят человек заключенных Кишиневской тюрьмы объявили голодовку, эта голодовка и стала отправной точкой бунта, в результате которого многие тюремные надзиратели очутились в камерах, на арестантских местах, в камере оказался даже помощник начальника тюрьмы Гаденко, связанный веревкой. Все произошло быстро, сделано было ловко, умело, еще немного – и заключенные оказались бы на воле, за воротами…
Но не смогли они пробиться за ворота. Позже никто даже сказать точно не мог, почему именно. Далекая молва, проникшая в наше время из той задымленной, затуманенной поры в наши дни, преподносит, – словно на блюдечке, – имена двух провокаторов, предавших Котовского. Другие, например, считают, что дело в неких нетерпеливых уголовниках, которые, оказавшись рядом со свободой, не выдержали, полезли на тюремные стены, и их засекла конная стража, патрулировавшая примыкавшие к «зиндану» улицы.
Полицейского и жандармского народа мигом набежало столько, что не только арестант или бедная голохвостая мышь могли проскочить – даже таракан не мог бы проскользнуть.
Бегунов поснимали со стен и загнали назад в камеры. В камере очутился и Котовский, вооруженный двумя старыми «трофейными» револьверами, отнятыми у надзирателей. Понимая, что до него попытаются добраться особо, Котовский заперся в камере и посчитал, сколько патронов утоплено в барабанах его древних стволов.
Получалось немного, но на то, чтобы заставить болезненно сморщиться десяток полицейских, хватит с лихвой.
– А нам больше и не надо, – сказал Котовский, дунул вначале в один ствол, как в свисток, затем в другой.
Сунуться в камеру к Котовскому полицейские побоялись – слишком уж грозная слава плыла за этим человеком по тюремным коридорам, – поэтому по совету властей решили провести с ним переговоры.
Проводить переговоры с Котовским приехал заместитель губернатора Кнолль. Лично решил познакомиться с человеком, чья слава была в полсотни раз звонче славы губернаторского зама. Лицо у высокого чиновника было сухим, бесстрастным, по нему ничего нельзя было угадать, – все мысли надежно запечатаны, ни одного светлого пятна, ни одной слабинки на темной, сухой коже, ни одной живой жилки.
Действовал вице-губернатор аккуратно, движения у него были тихими, ласковыми, чужими, будто он и не в тюрьму приехал, а в показательное помещичье хозяйство, где на кукурузных стеблях выращивают сливы величиной с яблоко, а заросли крапивы сводят на нет грядками ядреной сладкой клубники.
Как ни странно, он очень быстро уговорил Котовского сдать древние револьверы. Григорий Иванович даже удивился этому – весьма скорым оказался губернский чиновник, такому только воробьев по полю гонять: очень быстро переловит серых потребителей зерна, с которыми борются все бессарабские помещики – к сожалению, безуспешно.
Хоть и пообещал Кнолль поблажки заключенным и Котовскому в первую очередь, а своего обещания он не сдержал. Скорее, наоборот – Котовского скрутили и перевели в главную башню тюрьмы, в камеру-одиночку, которую надзиратели называли «железной». В ней всегда, даже в лютую кишиневскую жару было холодно, мозжило кости, остывала кровь; убежать из башни, – а «железная» камера находилась на высоте шестиэтажного дома, – не было никакой возможности.
Власти пришли к выводу, что Котовский, несмотря на пребывание в «железной» камере, обязательно попытается убежать, только не знали, когда, как, где, с кем, поэтому Кнолль не мудрствуя лукаво приказал начальнику тюрьмы:
– Приставьте к этому бандиту отдельного охранника и отдельного надзирателя.
– Да никуда он не убежит, ваше высокопревосходительство, – убежденно произнес начальник тюрьмы, человек тучный и в силу своей комплекции, благодушный.
– Я лучше знаю, убежит он или не убежит, – сухо проговорил Кнолль и недовольно поморщился.
Режим у Котовского был жесткий – он находился в полной изоляции, в каменной тишине, от которой по коже ползли мурашики, – сюда, на верхотуру, даже городские звуки не долетали, – прогулка во дворе раз в сутки, на пятнадцать минут, также в полном одиночестве.
Все было нацелено на то, чтобы сломить этого человека.
Никого рядом нет, только за спиной натуженно сопит надзиратель, да в макушках деревьев возбужденно каркают одуревшие от жары вороны. Воздух тяжелый, обваривающий, дышать нечем…
Сидя в башне, Котовский усиленно занимался гимнастикой, нагрузку давал себе максимальную, кости только трещали, да тело покрывалось таким потом, будто Григорий Иванович попал под струю воды…
Мышцы у него сделались такие, что по твердости не уступали железу, вызывали удивление у надзирателей – Котовский легко рвал лошадиные подковы и стальные скобы от дверей, пальцами вытаскивал гвозди из досок, – в общем, показывал чудеса, что только увеличивало его славу: о легендарном кишиневском узнике знали не только в Кишиневе, но и в Одессе, Киеве, Могилеве-Подольском, Унгенах… Наверняка докатывались разные сведения о нем и до Москвы с Петербургом.
Несмотря на колпак, под которым сидел Котовский, он все-таки умудрился бежать: выбрал момент, сломал скобы двери у своей камеры и очутился в коридоре. Оттуда через окно перемахнул на чердак башни, с чердака спустился во внутренний двор тюрьмы (высота, между прочим, такая, что и голова могла закружиться, могли отказать и руки), из внутреннего двора в мастерские, – причем прошел мимо поста надзирателей, – те даже физиономий не повернули в его сторону, приняли Котовского за обычного работягу, с которого в порядке поощрения сняли кандалы, – и был таков.
Произошло это тридцать первого августа девятьсот шестого года.
Шум поднялся невероятный. На поимки Котовского были подняты силы всего юга России, секретные циркуляры разосланы во все места, где мог появиться беглец, даже в город Тобольск (зачем, спрашивается?), но след Котовского простыл, он словно бы сквозь землю провалился.
В домах сестер Котовского Елены и Софьи были выставлены круглосуточные засады, беглеца ждали, но – бесполезно.
Газеты каждый день публиковали материалы о беглеце, в конце концов они сообщили, что Котовский покинул территорию Российской империи, пересек русско-австрийскую границу и исчез окончательно – в общем, ищи его теперь, свищи.
Но пристав второго участка Хаджи-Коли, которому поручили вести дело Котовского, имел на этот счет другое мнение. Газет о приключениях беглеца он не читал принципиально, более того – считал это занятие вредным, был пристав человеком въедливым, умным, начальство ценило его высоко.
Он нюхом чуял, что Котовский никуда не уезжал, находится здесь, в Кишиневе, лежит где-то на дне, пьет сладкое домашнее вино и посмеивается про себя: хорошую же шумиху он организовал, полицейские все свои перья растеряли, разыскивая его, скоро вообще останутся с голыми пупками и пупырчатыми гузками.
Хаджи-Коли высчитал все точно: Котовский город не покидал (все это время он находился в доме номер двадцать по Гончарной улице)… На след его надо было наткнуться обязательно, нащупать его. Не может быть, чтобы никто ничего не знал о Котовском.
И пристав решил повнимательнее присмотреться к людям, которые в недавнем прошлом были близки к Котовскому. Как всегда, деньги решили все: Григория Ивановича сдал, даже глазом не моргнув, боевик-эсер Еремчий.
Впрочем, конкретно номер дома, где находился Котовский, Еремчий не знал, а вот район указал, пальцем даже потыкал в карту:
– Здесь он находится… Здесь!
Хаджи-Коли поприкидывал, как вести слепой поиск, и принял единственно верное решение: начал патрулировать район. Причем делал это не в одиночку, а брал с собою трех увешанных оружием, громыхающих саблями городовых и двух агентов в штатском.
Чутье подсказывало приставу – он обязательно встретит Котовского. А когда встретит, то важно будет не упустить его. Больше ничего не надо. Не то очень уж клиент опасный. И шустрый – может проскочить не только между двумя руками, но и между двумя пальцами. Несмотря на свою солидную комплекцию.
Приставу второго участка повезло – в конце сентября, в разгар теплого солнечного дня, Хаджи-Коли нос к носу столкнулся с Котовским на многолюдной Тиобашевской улице. Хаджи-Коли даже онемел, едва не врезавшись на ходу в человека, которого изучил настолько хорошо, что чуть ли не каждую ночь видел его во сне, разговаривал с ним, гнался по темным кишиневским улицам, когда тот решил удрать, палил в беглеца из револьвера и отчаянно ругался на всех языках сразу, которые знал – русском, татарском, молдавском, добавлял еще еврейские слова… В общем, тот еще был полиглот.
Увидев Котовского, полицейский пристав, наряженный в костюм из модной голубой рогожки, вскинулся, будто подучил удар в солнечное сплетение, изо рта у него невольно вывалилось восклицание, похожее на горячую кособокую лепешку:
– Опля!
Хоть и был пристав наряжен в штатское, а Котовский мигом угадал, кто это, и выставил перед собой на манер ружья с примкнутым к стволу штыком трость. По тому, как побледнел Хаджи-Коли, было понятно: испугался здорово.
Это хорошо, это – выигранные секунды. Котовский молча отпрыгнул в сторону, всадился плечом в густой куст акатника[2], облепленный белесой поденкой, и в ту же секунду услышал тонкий резкий крик Хаджи-Коли:
– Стреляйте в него! Это – Котовский!
Сопровождение пристава не растерялось, настороженно озиравшиеся полицейские немедленно открыли частый огонь. Били на поражение. Котовский понял: не уйти. В это мгновение одна из пуль пробила на нем пиджак и обожгла плечо.
«Ранен, – мелькнула в голове Котовского неверящая мысль. – Эти деятели готовы половину Кишинева перестрелять».
Оружия у Котовского не было, он так и не научился стрелять в людей, не мог преодолеть в себе некий барьер, останавливающий его, да и всему Кишиневу было известно высказывание Котовского, широко растиражированное в газетах: «Я не убил ни одного человека в городе…» И в деревне тоже. И если при нем окажется пистолет, то это еще не означает, что в нем будут патроны.
Неужели до полиции не дошли его слова о том, что он не стреляет в людей, почему же они палят по нему как хотят?
– Стреляйте, стреляйте! – продолжал вопить пристав. Сам он не стрелял – не мог вытащить из-под мышки застрявший револьвер – огромный, убойный, рукояткой такого мастодонта хорошо колоть грецкие орехи: ни одна скорлупа не выдержит удара, даже самая толстая, даже если она будет отлита из железа. – Стреляйте! – Хаджи-Коли прыгал на одном месте, вертелся, словно петух, по-птичьи заполошно размахивал руками и кричал. Голос у него находился на исходе, еще немного – и он угаснет.
Котовский рванулся ко второй гряде плотного, словно бы вырубленного из дерева акатника, всадился в жесткие пружинистые ветки и почти одолел гряду, когда его достала вторая пуля. Она попала в ногу.
Боль была резкая – свинец зацепил какой-то нерв, окончание, на которое замыкается боль, – Котовский стиснул зубы, чтобы не закричать. Согнулся, уходя вниз, под акатниковую гряду и неожиданно там, среди корней, увидел потный нос и круглые испуганные глаза. Это был один из полицейских. В руке он держал новенький наган.
– Руки вверх! – просипел полицейский.
Голос был сдавленный, загнанный внутрь глотки, Котовский понял: если он сейчас не поднимет руки, этот шут гороховый выстрелит в него – от страха полицейский потерял остатки соображения.
– Тихо, тихо, почтеннейший, – хриплым тоном пробормотал Котовский. – Не видишь, что ли, я ранен, руки не могу поднять?
Руки он, конечно, поднять мог, и левую, и правую, и даже сделать какое-нибудь упражнение – это тоже мог, но слишком было противно – поднимать руки, а если точнее – сдаваться. Сдаваться Котовский не привык, его буквально выворачивало наизнанку от брезгливости, когда он видел людей, поднимающих руки. Уж лучше пустить себе пулю в висок или прыгнуть с крутой высокой стенки вниз, чем кому-то сдаться.
Полицейский поводил большим, схожим с крупной породистой морковкой носом из стороны в сторону, приподнял над землей костистый зад и засипел дыряво:
– Сюда! Сю-юда! Он здесь! – но в следующее мгновение поперхнулся: Котовский исчез.
Полицейский икнул изумленно, закрутил головой: не может быть, чтобы такой большой дядя мог бесследно раствориться в воздухе, но что было, то было.
Подручные Хаджи-Коли оборвали все листья на акатнике, обломали сухие ветки, подмели несколько кучек сора, но Котовского не обнаружили. Тот исчез способом совершенно сказочным, колдовским, растаял с пулей в ноге.
Объявился Котовский на квартире давних своих друзей Прусаковых. Ему перебинтовали ногу, обработали йодом и травяными мазями обожженное плечо, напоили чаем и… уложили спать.
Надо заметить, что несмотря на раны, Котовский прекрасно отдохнул и быстро пришел в себя. Прусаковы были готовы оставить его в доме надолго, но Котовский заторопился – надо было разобраться в том, что произошло.
Очень скоро он покинул гостеприимный дом Прусаковых и вернулся на прежнюю свою квартиру. А Хаджи-Коли – опытный, настырный, умеющий анализировать происходившее и в груде мелочей находить крупное, держал под прицелом весь район. Полицейских, и переодетых, и в форме, нагнал много – воробей не пролетит, обязательно зацепится.
И все равно он не нашел бы Котовского, если бы не эсер-провокатор: Еремчии сыграл свою подлую роль до конца. На этот раз он узнал точный адрес дома, где скрывался Григорий Иванович и передал его приставу. Тот окружил нужный дом тройным кольцом.
Котовский попробовал уйти – выпрыгнул из окна, перепрыгнул через забор и очутился в соседнем дворе. Но уйти ему не удалось: двор оказался забит полицейскими.
Едва он метнулся к воротам, как на него обрушился удар винтовочного приклада. Жестокая боль пробила раненое плечо, Котовский застонал, ткнулся лицом в доски забора и в кровь разодрал себе лицо.
– М-м-м, с-суки, что же вы делаете? – простонал он обожженно, увидел, что кровь из рукава закапала на землю и мелкие рисунчатые листья акатника, похожие на гороховые метелки. Акатник в Кишиневе, как и в Одессе, рос везде. Котовский стиснул зубы.
Через мгновение на него обрушились еще два удара прикладом.
Воздух перед ним порозовел, заклубился, будто вода, вылетающая из-под пароходного винта, Котовский, чувствуя, что сейчас упадет, протестующе помотал головой: не-ет!
Он удержался на ногах.
В следующий миг к нему подскочил Хаджи-Коли, сунул в висок холодный револьверный ствол: научился-таки выдергивать свою неуклюжую пушку из-под мышки.
– Вот ты и попался окончательно, – торжествующе проговорил полицейский пристав.
Котовский нашел в себе силы усмехнуться.
– Еще не вечер, – проговорил он.
– Не делай неловких движений, – предупредил пристав. – Одно резкое движение – и я срежу тебе половину головы. – Ходжи-Коли вытянул шею и прокричал своим подопечным: – Пролетку сюда… Живо!
Несмотря на то, что Котовский имел уже две раны, Хаджи-Коли угрожающе выпалил ему в лицо:
– Руки! Для тебя есть вот что, – он выдернул из-за пазухи облегченные плоские кандалы, похожие на два обруча. – Заморская штучка… – пристав побряцал кандалами перед лицом Котовского, – те, кто носил – хвалят. А ну, руки!
Котовский протянул к нему руки. Обе ладони были в крови. Хаджи-Коли ловко застегнул на запястьях пленника замки «заморской штучки» и только после этого, почесав концом револьверного ствола усы, засунул оружие под мышку, в кобуру.
Так Котовский снова очутился в тюрьме, в одиночной камере. Очень скоро он пришел в себя, залечил раны, со смутной надеждой начал посматривать на дразняще яркий свет, проникающий в узкую крепостную бойницу его камеры, заменявшую окно.
За стенами тюрьмы бесновалось солнце – на пороге была весна, оглушающе громко пели птицы, на деревьях набухали крупные почки – через несколько дней Кишинев захлестнет зеленый взрыв.
Все мысли Котовского были о воле: скорее туда, за пределы этих мрачных стен, на чистый воздух… Григорий Иванович начал готовиться к очередному побегу.
В один из теплых весенних дней Котовскому в камеру передали два новеньких, в заводской смазке браунинга, отдельно должны были передать патроны, но не успели – на Котовского донесли. Ох, уж эта, присущая не только России многонациональная тяга к доносительству, иного гражданина хлебом не корми – дай только возможность на кого-нибудь настучать! Котовский много раз сталкивался с этим необъяснимым явлением, пытался понять его, но так и не понял…
В камеру к Григорию Ивановичу ворвались надзиратели – даже дышать в тесном помещении сделалось нечем, – девять человек. И хотя в камере схоронок, потайных мест было мало, но все равно надзиратели потратили не менее полутора часов, прежде чем нашли браунинги.
– Ха! – цапнул сразу оба свертка помощник начальника тюрьмы Гаденко, вскинул их над собой: – Ха-ха!
На нем была темная форма, украшенная офицерскими погонами. На лице Гаденко возникла злорадная усмешка:
– Ха-ха-ха!
Котовский не сдержался, подмигнул бравому тюремному начальнику:
– Ха-ха!
Тот даже не засек издевки в смехе арестанта, так был обрадован и возбужден одновременно.
Убежать Котовский не успел: тринадцатого апреля девятьсот седьмого года его заковали в кандалы – тюремное начальство по-прежнему боялось, что Григорий Иванович сбежит, растает в воздухе, – и доставили в окружной суд.
Зал заседаний был переполнен – яблоку негде упасть, люди стояли в проходах, заполнили даже галерку, которая всегда бывала пуста: личность Котовского представляла для Кишинева большой интерес. Горожане приходили в суд просто посмотреть на него, улыбнуться подбадривающе, сцепить руки в дружеском пожатии, показать тем самым, что находятся на его стороне. Когда Котовский видел это, на душе у него делалось светлее. В конце концов все деньги, которые он изымал из кошельков бессарабских богатеев, отдавал этим людям. Ему очень хотелось, чтобы они жили лучше.
Ведь налицо вопиющая несправедливость: одни купаются в богатстве, ни в чем себе не отказывают, а другие захлебываются в нищете, – редкий день выпадает, когда они досыта наедаются хлеба, а вообще в жизни их немало дней бесхлебных совершенно, – эта несправедливость угнетала Григория Ивановича…
В ноябре Котовскому был вынесен приговор – двенадцать лет каторги.
Свои сроки получили и друзья Котовского – Прокопий Демьянишин, Захарий Гроссу, Игнатий Пушкарев и другие.
Очень скоро Котовский в тюрьме сделался тем, кого многочисленные уголовники стали позже, в тридцатые годы, звать паханами. Ни одно волнение, ни один бунт против начальства в тюрьме не проходили без Котовского. Котовский был везде.
Организовать громовой грохот кастрюлек о железные двери камер взялся Григорий Иванович и успешно исполнил задуманное, выгрызть кружками дыру в стене и совершить массовый побег – такое было под силу только закоперщику Котовскому, оторвать во всех камерах ручки от дверей и выбросить их в окна – тут первым тоже был Котовский… Кстати, цель у последнего акта была проста – напомнить тем, кто находился на воле о людях, заточенных в каменные закутки…
Всюду Котовский, Котовский, Котовский, без него не обходился ни один протест. Это очень раздражало и начальника тюрьмы Францевича и его помощника Гаденко.
И Францевич и Гаденко корнями волос, кожей, носами своими, очень чувствительными, ощущали, что Котовский готовится к новому побегу, вот только когда он это совершит и в какую щель постарается спрятаться, им было неведомо. Они переглядывались молча, встревоженно, листали отрывные календари, бормотали что-то про себя, колдовали, но определить даже приблизительно даты побега Котовского не могли. И держали своих подчиненных в напряжении.
– За Котовским следить в шесть пар глаз, – такую команду дал Францевич, но тут же пришел к выводу, что шесть пар глаз мало, и сделал поправку: – В шестьдесят шесть пар! Понятно?
Это было понятно. Только вот Котовский принадлежал к категории заключенных, за которыми никогда не уследишь – не дано.
А Григорий Иванович разрабатывая комбинацию – он готовился совершить побег, а заодно рассчитаться за старые долги с Зильбергом. Тем более по части расчетов с Зильбергом у него обозначился надежный союзник… Сам Хаджи-Коли.
Хаджи-Коли видел в Зильберге соперника, человека, который может перебежать ему дорогу и даже нагадить, поскольку у помощника пристава третьего участка характер был мстительный. Зильберг любил и умел делать гадости, поэтому господина этого надо было опрокидывать на землю. Чтобы не портил воздух в полицейских учреждениях. Хаджи-Коли знал, что Зильберг получал от Котовского деньги, но всякие деньги – это вода, они притекают и утекают, и тут Хаджи-Коли никак не сумеет доказать его виновность, а вот по части вещей (если, конечно, Зильберг их брал) сможет очень легко. Вещи обладают способностью выдавать тех, кто сунул их себе под мышку и сделал своими либо получил в качестве гонорара.
Когда Котовского неожиданно перевели в Николаевскую каторжную тюрьму, за которой ходила худая слава – считалось, что побег из нее невозможен совершенно (если только по воздуху, но в тюрьме еще не было ни одного крылатого арестанта), – новый узник потребовал себе бумагу и чернила.
– Для чего? – грозно свел брови в одну линию старший надзиратель смены.
– Хочу сделать признание, – заявил Котовский.
– Как, из тебя еще не все признания выколотили? – старший надзиратель приподнял длинную дугу бровей.
– Не все.
Котовскому принесли ручку с заскорузлым пером, пузырек чернил и два листа дешевой, с шершавыми остьями бумаги. Григорий Иванович написал заявление о продажности полицейских чинов, в частности, Зильберга, – и добился, чего хотел: его вернули в Кишинев, в тамошнюю тюрьму, более удобную для побега, чем Николаевская каторжная…
Началось новое следствие. В этот раз в отношении Зильберга. Хаджи-Коли подключился к следствию, подключился активно: пятнадцатого сентября девятьсот восьмого года Зильберга арестовали. Увидев, как его настойчиво готовят к доле каторжанина, как прессуют, Зильберг взвыл буквально по-волчьи.
Отголоски того давнего воя можно услышать даже сегодня – в архивах сохранились объяснения и встречные жалобы бывшего помощника пристава третьего участка Кишинева.
В частности, в жалобах своих Зильберг нападал на Хаджи-Коли, обвинял в том, что тот подкупил хозяйку конспиративной квартиры Анну Пушкареву – подарил ей швейную машинку «Зингер», а также вручил девяносто рублей наличными – требование у пристава было одно: обвинить «честного и неподкупного Зильберга», что Пушкарева и сделала.
Вторая домовладелица по фамилии Людмер так же, как считал Зильберг, наговорила на него – подтвердила факт тесного знакомства Зильберга с Котовским. А этого не было, никаких тесных знакомств не существовало, хотя помощник пристава третьего участка действительно встречался с бандитом Котовским, но исключительно в интересах сыска и по распоряжению вышестоящего начальства, а именно «губернатора г-на Харузина, полицмейстера г-на Рейхарда и товарища прокурора г-на Фрейнета».
Зильберг полагал, что ему повезет, все наветы он стряхнет со своего пиджака, как старую моль, выкрутится и в конце концов вставит перо в зад этому недожаренному гусю Хаджи-Коли, чтобы больше не трепыхался, не говоря уже о Котовском, но Зильберг просчитался и упоминание в жалобах и объяснениях высоких чиновных имен ему не помогло: на суде, в присутствии свидетелей были опознаны вещи, подаренные Котовским. Зильберг брал их охотно, особенно дорогие вещи, ведь за них ничего не надо было платить, – наиболее приметным, вызвавшим вой у галерки, оказался королевский ковер, подаренный персидским шахом одному из российских подданных. Принадлежал этот ковер помещику Крупенскому.
У Крупенского Григорий Иванович этот ковер и изъял, хотел отвезти в лес, чтобы украсить одну из берлог, специально возведенную для отряда, если людей Котовского обложат мертво и придется скрываться, а потом передумал и отдал ковер Зильбергу. В обмен на секретные сведения: полиция разработала специальную операцию по ликвидации бессарабских партизан, сведения эти сделались в результате достоянием группы Котовского.
Это конечно же стоило шахского ковра. Ковер забросили в пролетку, на которой приехал Зильберг, он, довольно похохатывая, вскочил в легкий удобный кузовок повозки и умчался.
При обыске приметный шахский ковер был найден в его доме, отпереться, сказав, что ковер ночью какой-то неизвестный провокатор сунул в окно, Зильберг не сумел, улика была слишком серьезной, и в результате бывший помощник пристава получил то, что заработал: четыре года каторги.
Столько же получили и подручные Зильберга – помощник пристава Лемени-Македони и околоточный надзиратель Бабакиянц.
В общем, с этим все было в порядке, продажные полицейские были наказаны, а вот побег, который так тщательно разрабатывал Котовский, сорвался, – буквально на следующий день после суда его отправили в Смоленск, в тамошний централ… Словом, – подальше от кишиневских корней, обстановки и людей, которых Котовский хорошо знал, которые помогали ему, были даже готовы взорвать тюрьму-крепость, чтобы вызволить Григория Ивановича.
В Смоленске он просидел до декабря девятьсот десятого года. А в декабре – кандалы на ноги, кандалы на руки и – в дырявый товарный вагон, идущий на восток. В щели, украшавшие обшивку старого вагона, можно было увидеть заснеженные просторы Российской империи… Чуть больше можно было разглядеть в два небольших оконца, прорубленных под потолком на лицевой части вагона, но глядеть в эти окна было нельзя – запрещали. Хотя видно было то же самое, что и в щели – промороженная белая пустыня, да лес, лишь изредка, будто бы из ничего, возникали редкие станции.
За станциями снова начиналось снежное царство, в котором, казалось, даже ели были вылеплены из прочной клейкой белой массы. По дороге Котовский прикидывал: можно ли убежать из вагона?
Ответ на этот вопрос мог повергнуть в уныние любого опытного арестанта – убежать было нельзя. И вновь тоскливо стучали на стыках колеса, – стучали внизу, прямо под головой, под телом, тревожили душу…
До Байкала ехали больше месяца и в конце концов остановились посреди сатанинского воя, в кашле мороза, в глухих ударах тяжелых охапок снега, бьющихся о стенки вагона. Голосов, криков людей не было слышно.
Так Котовский впервые прикоснулся к знаменитой сибирской пурге.
Несколько часов арестантов продержали в вагонах, а потом, когда пурга немного утихла, велели выбираться наружу.
Одноэтажное, скошенное на одну сторону здание станции то возникало в охлестах снега, то пропадало, Котовский, у которого не было теплой одежды, лишь пиджак, помассировал пальцами плечи, грудь и встал в колонну арестантов – предстояло пешком идти в Александровский централ. От холода во рту, кажется, даже смерзались зубы.
Через несколько минут колонна загромыхала кандалами и растворилась в пляшущих снежных космах.
В Александровском централе Котовский получил новое распределение – в Горный Зерентуй, на рудники. На перемещение снова ушло больше месяца, тем более, что перемещаться пришлось не в скрипучем мерзлом вагоне, а на своих двоих, под печальный аккомпанемент глухо побрякивающих кандалов.
В Зерентуй колонна пришла уже весной. Горько пахла цветущая черемуха, кипенно полыхал густой боярышник, на землю роняли свои сережки березы и осины, а над каменными буграми висели, не видя никого и не слыша ничего, жаворонки, пели свои сладкие песни.
Котовский, когда над его головой раздалась возбужденная жавороночья звень, вздрогнул и остановился. Вместе с ним остановилась и вся колонна.
Забегали конвоиры. Горный Зерентуй!
…Горный Зерентуй оказался небольшим поселком, занявшим неглубокий распадок, – полторы хилых улицы в одну сторону от церкви, полторы – в другую, храм – посередине, огороды, окруженные густым лесом. Каменные гольцы, несмотря на звонкую весну, по-зимнему угрюмо возвышающиеся над окрестным пейзажем, на макушках их – нерастаявший снег.
Минуты три прошло, прежде чем оглушенная увиденным колонна двинулась дальше. Хотя идти ей оставалось совсем немного. Котовский подергал ручные кандалы, пробуя их на разрыв, поморщился – заклепаны были крепко, бросил оценивающий взгляд на гольцы: в конце концов, если он не перелетит эти каменные нагромождения на крыльях, то одолеет их руками и ногами и обязательно исчезнет отсюда… На небритом лице его возникла далекая усмешка.
Хорошо, что никто из охранников этой усмешки не засек.
В Горном Зерентуе Котовский начал усердно посещать лагерную церковь. Он, конечно, не был истовым прихожанином, но верил в Бога, верил в высшую силу, которая в итоге обязательно рассудит, кто виноват, а кто прав, и накажет зло.
О том, что он тоже совершал зло, Григорий Иванович не думал…
На службах отца Никодима он усердно крестился, раньше времени в барак не уходил. Не знал, даже не предполагал батюшка, что Котовский задумал бежать и теперь пытался нащупать ход, который, как говорили каторжане, существует, он есть и ведет на волю, в тайгу, расположенную по ту сторону охраняемого забора, тесно сдавившего тюремный лагерь…
Но подземный ход этот оказался штукой мифической, да и такое архитектурное излишество совсем не нужно было ни отцу Никодиму, ни его прихожанам, и Котовский решил придумать что-нибудь иное.
Отец Никодим к своим прихожанам относился с благоговением, сочувственно и, случалось, наиболее приглянувшихся, верных угощал наливкой собственного изготовления. Угощал он и Котовского. Этот могучий каторжанин вызывал у него невольное уважение.
В один из пригожих дней, после службы батюшка допоздна засиделся с Котовским, наливки он выпил на три стопки больше положенного и решил прикорнуть на лавке в небольшой трапезной, которая имелась при храме. Для Котовского три лишних стопки – все равно, что слону пучок гороховых стеблей.
Когда батюшка уснул, Котовский перекрестился, снял с гвоздя стихать священника, бархатную шапочку, быстро переоделся и ровной размеренной походкой вышел из церкви. Направился к воротам. Вот так решительно, откинув в сторону всякие колебания, действовал он.
Единственное, что было плохо – Котовский чувствовал себя неудобно перед отцом Никодимом. Но батюшка – человек добрый, он все поймет…
Убежать не удалось, хотя Котовский уже миновал проходную, – поскольку он был в церковной одежде, то на него даже внимания не обратили… И надо же было такому случиться – за проходной он наткнулся на самого начальника каторги, который в сопровождении старшего надзирателя совершал обход.
На Котовского навалились сразу человек пятнадцать охранников, мигом скрутили, на ноги, на руки натянули кандалы и кинули в карцер.
Вышел он из карцера больным – едва держался на ногах, – но держаться старался, не проявлял слабость, сознание на виду у охранников не терял, – стискивал зубы, крутил головой, стараясь прийти в себя.
Худо ему было. Кандалы с Котовского снимать не стали, – так в кандалах и отправили на этап – в Горном Зерентуе каторжанина, стремившегося на волю, решили не держать, опасно, – предписали для начала тяжелую дорогу на Казаковские прииски.
Прииски эти славились тем, что давали хорошее рудное золото.
Дорогу Котовский одолел с трудом – думал, что после холодного и голодного карцера не вытянет. Вытянул. Жажда жить, память о Бессарабии, о людях, которых он знал и любил, долг перед самим собою, перед сестрами помогли – он дотянул до Казаковских приисков.
Утром его из помещения выгнали на работу – в сырую глубокую шахту.
Работать Котовский умел, не отлынивал, выполненная норма гарантировала ему фунт мяса и четыре фунта хлеба в день, если же норму не выдашь – останешься на пустой затирухе, которую варили, похоже, из обычной травы, единственное что – соли не жалели.
Проработал Котовский на приисках недолго – физиономия его не понравилась начальству (это – традиционно) и его вновь, пешим ходом, в окружении людей с винтовками, вернули в Горный Зерентуй.
В Зерентуе начальник, хорошо помнивший Котовского, переодетого в поповское облачение, – редкостный грешник, этот Котовский! – почесал пальцами затылок и решил, что грешника лучше всего определить на заброшенную серебряно-свинцовую шахту.
Шахта была настолько старой и так сильно прогнившей, что в нее даже заходить было опасно, не то, чтобы ковыряться в какой-нибудь сырой выработке, пахнущей окисленным свинцом. В общем, чего греха таить, начальник каторги рассчитывал, что однажды шахта завалится и Котовский больше никогда уже не сможет мозолить ему глаза. Очень начальник каторги этого хотел.
А у Григория Ивановича были свои планы на ближайшее будущее, и он с легкостью согласился на работу в старой опасной шахте. Начальник каторги, крупный животастый мужик, – сам, видать, в прошлом каторжанин, – пренебрежительно растягивая слова, заявил, что шахту в будущем собираются опять запустить в работу, России нужно серебро, – для этого выработки надо исследовать, изучить все заброшенные штольни, сделать выводы, по которым будет произведен ремонт…
В бараке Котовского предупредили, что до него двое каторжников уже пытались выполнить это задание, но им не повезло – попали под обвал.
Шахта находилась далеко от бараков – в живописном, полном птиц, звонком распадке, идти надо было не менее шести километров в сопровождении двух конвоиров. Но главное было не это, главное – перед спуском в шахту с Котовского снимали кандалы.
Вел себя Котовский очень дружелюбно, выполнял все, о чем его просили, даже собирал валежник для костра, и конвойные быстро привыкли к нему – привыкли именно к такому Котовскому.
Как-то утром он спустился в шахту, но очень скоро попросился наверх. Пояснил:
– Живот что-то прихватило. Мутит сильно.
Конвойные заботливо уложили Котовского у костра, дали немного отлежаться, потом один из них поинтересовался:
– Ну как, прошло?
– Нет, не прошло, – Котовский облизнул языком сухие заскорузлые губы, – мутит по-прежнему.
– Тогда будем собираться домой, – сказал охранник и призывно громыхнул лежавшими у костра кандалами.
Когда он приблизился к Котовскому, тот со стоном приподнялся и неожиданно сильным, точным, ловким ударом кулака оглушил его. Выгнувшись пружинисто, вскинулся и в следующее мгновение оказался около второго охранника. Короткий хлесткий удар – и второй охранник улегся рядом с первым. Котовский отряхнул руки, снял с первого конвоира патронташ, из кармана вытащил кусок хлеба с луком, со второго стражника сдернул полушубок, натянул себе на плечи, подхватил винтовку и через несколько мгновений исчез в тайге.
Пора была еще ранняя – одиннадцать часов дня. До восьми вечера его не хватятся, – если, конечно, оглушенные охранники не придут в себя раньше и на четвереньках не доползут до Горного Зерентуя, – в общем, у него был кое-какой запас времени. И этот запас надо было с толком использовать.
Он шел, не останавливаясь, несколько часов подряд – хорошо понимал, что от шахты надо уйти как можно дальше. Чем дальше он уйдет, тем больше шансов, что побег окажется удачным.
За ним могла увязаться погоня. Но даже если погоня будет многочисленной, найти беглеца в тайге – штука непростая. Найти его будет более сложно, чем иголку в стогу сена.
1
Слово «одеколон» в ту пору писалось именно так (авт.).
2
Ака́тник (устар.) – место, поросшее акациями.