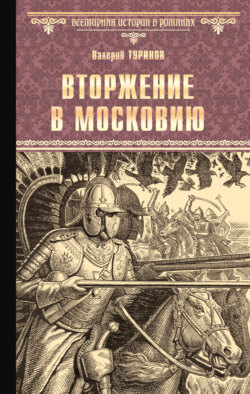Читать книгу Вторжение в Московию - Валерий Туринов - Страница 6
Глава 2. Стародуб
ОглавлениеЗа городские стены Путивля вышли три путника. Поправив за спиной котомки, они побрели по дороге, что вела в Стародуб. Путь их был не близким, но они надеялись, что их нагонит какой-нибудь поселянин на телеге и хотя бы немного попутно подвезёт.
Один из них, Гринька, по прозвищу Горлан, плотно сбитый коротышка с жиденькой бородкой, пощипанной в какой-то драке, еле плёлся в тесных сапогах. Он снял их в Путивле с гулящего, когда тот загнулся с перепою в кабаке. И вот теперь он мучился, все ноги поистёр. Затем, сплюнув, он снял сапоги, связал их верёвкой, перекинул через плечо, засеменил, лишь замелькали пятки грязные, взбивая клубы пыли над дорогой, и песню затянул. Да унылую какую-то, без слов: то остановится, вздохнёт, а то мурлычет всё то же дальше.
Вторым путником был Матюшка, наш незнакомец. Третьим, их спутником, оказался писарь Алексей, рыжий и худой, и тоже не в годках. Он шёл, молчал, на все вопросы односложно отвечал: «А-а!.. Что?.. Да!..» На этом заканчивался разговор с ним, как будто с немым или глухим.
В крохотной деревеньке на Десне, всего из двух дворов, их приютил один хозяин на ночь. Сараи, избы, крытые соломой, навесы и амбары. Как пьяное перекосилось прясло, ворота хлипкие, колодезный журавль вверх тянет шею тощую свою – всё говорило здесь, что дряхлость поселилась в деревеньке. Вокруг же буйно разрослась зелёно-грязная трава, а подле изб в пыли возились дети. Хозяин, с квадратным торсом мужик Николка, прицыкнул на мальцов. Тотчас они исчезли с глаз, как дикие, пугливые щенята. Здесь, в одной из махоньких избёнок, наши друзья и заночевали. Наутро Николка проводил их до Десны, нашёл спрятанный в кустах челнок и перевёз их на другой берег.
– Вон там, – показал он рукой вперёд, в сторону дороги с разбитой тележной колеёй, – вёрст через десяток, в урочище, Сенька шалит с дружками. Днём-то опасно. А по темноте-то совсем жутко. Как пить дать, на них выйдете. Подкарауливают съезжих-то у оврагов, не то что пеших…
Горлан, поджав губы, ворохнул воинственно плечами:
– Побьём, если их будет даже втрое больше!
И посмотрел на Матюшку, мол, так ли я говорю.
Но тот даже не обернулся к нему. И Горлан зажался, замолчал.
– Ну-ну, храбрец! – бросил Николка, смерив ироническим взглядом его короткую фигуру, и залез в челнок. Взяв в руки весло, он оттолкнул челнок от берега и поплыл обратно к себе, на свою сторону. Ни разу не оглянулся он на ходоков, которых оставил на пустынном берегу, перед неизвестной дорогой через большой и тёмный лес.
Они пошли. Всё было как обычно: теплынь стояла, и солнце пробивалось сквозь густую крону, ложилось пятнами под ноги на дорогу. Но скверно было сегодня на душе у них: им отравил дорогу поселянин рассказами о шаловливых… Перед урочищем они отдохнули, поели, затем пошли дальше. И даже Горлан притих, уже не мурлыкал свои песни без слов и лишь подтягивал штаны ежеминутно, враз отощав с чего-то. Но пыль взбивал он и сегодня босыми тёмными ногами. Алёшка же по своему обыкновению молчал, но молчал заметно по-иному. Один лишь Матюшка, вроде бы, не изменился.
Вот так и шли они. Вечерело, а их путь всё не кончался.
– Николка, видно, с вёрстами маленько промахнулся, – не выдержал и забурчал Гринька. – А может, сбились мы с дороги?.. Идём совсем уж не туда. Тут деревенькой и не пахнет…
Николка указал им, где можно было найти ночлег и выспаться у его приятеля в сарае. Он советовал пристать на ночь к тому и не искать себе неприятности у костра в глухом лесу.
А Матюшка глядел на своих спутников и ухмылялся в свои колючие усы. Они кудрявились у него большими завитками жёсткими.
Шли, шли они и уже мечтали о ночлеге, как вдруг бесшумно вышли три фигуры на дорогу, им путь загородили. Какие-то бездомные, бродяги, свой брат… «Бить будут!..» Вот это Гринька точно знал и сразу же в кусты подался.
– Стой, куда ты!.. – рявкнул Матюшка вслед ему.
И Гринька замер, как будто к матушке-земле прилип, и в плечи голову втянул… «Бить будут!» – опять защекотала его всё та же мыслишка где-то по низу живота… Но нет, всё тихо, никто не тащит за волосы его, не бьёт и не орёт… Он обернулся и увидел, что его попутчики уверенно отмахиваются от бродяг. Тогда он заспешил к ним неторопливо. И радостно взирал он со стороны, как ловко орудует Глазастый одной лишь палкой… «И справиться он сможет без меня!..» Вот одного достал Глазастый здорово. И завертелся тот на месте, схватился за голову разбитую и тут же дунул зайцем по дороге, прочь от настырных товарищей своих… И писарь тоже оказался неплохим бойцом: подбил он глаз грабителю второму. А третий не стал ждать, когда очередь дойдёт и до него: исчез в кустах, куда вот только что хотел сбежать и Гринька.
– Вот так мы их – воров, грабителей! – прокричал вслед им Гринька и пустился в пляску на дороге, воинственно размахивая чужими, в заплатах сапогами.
И даже писарь, молчун Алёшка, взвизгнул, пронзительно и тонко, и начал выделывать в пыли коленца.
– Ладно, хватит – пошли! – остановил их Матюшка, взирая равнодушно на них, своих случайных спутников, оборванных завзятых простаков… «Ну точно кармелиты!..»
Друзья взбодрились после драки и теперь уже смело двинулись через тёмный лес.
– Убивцы!.. Канальи! – провожая их, ещё долго неслись крики из глуши урмана и эхом отзывались на лесной дороге. – Ужо пойдёте тут!.. Тогда и поквитаемся!.. Собаки!.. Голодранцы!..
На ночь они устроились всё в том же лесу, у костра, уже уверенные, что больше никто не посмеет и пальцем тронуть их.
Горит костёр. Тепло. Матюшка щедро накормил попутчиков своих: из тех запасов, что добыл в деревне у Николки. И Гринька, поев, сразу же сомлел, клюнул носом, свалился тут же, захрапел. А Матюшка ещё долго сидел с Алёшкой у огня и говорил, а тот, «Немой», молчал обычным делом. Так время шло у них… Матюшка выговорился весь и стал пустой. И вот, скучая, решил он поиграть с Алёшкой.
– Ты знаешь, – тихо шепнул он писарю, – я – Андрей Нагой, дядя царя Димитрия, – сверкнули в ночи большие глаза его. Свет от костра пятном рассёк его широкий подбородок. И по лесу как будто шорох пробежал, и кто-то дико там захохотал: «Ха-ха-ха!..» Похоже, филин пугает, на всех наводит страх…
Алёшка вздрогнул. Он не был слабаком, но был напуган с малых лет рассказами о ведьмах, леших и водяных. Он верил, что ночью те выползают из своих нор под пятницу, как раз сейчас, вот в эту ночь, когда они оказались тут, вот в этом «Чёртовом» лесу… И погнал же их кто-то именно в такую пору идти пешком на Стародуб, к тому же через этот окаянный лес. Ведь про него им здешние старожилы говорили: мол, не ночуйте на дороге, пройдите лес тот засветло. Но кто же знал, что их тут стерегут бродяги. Как видно, не боятся те сказок о здешних лесах. И сами-то они, подравшись, забыли о тех советах сведущих людей.
– А почто ты молод так? – подозрительно глянул он на родича царя. – Димитрий-то твоих годков.
– Отец мой, покойник Фёдор Фёдорович, в боярстве уже, на старости, женился второй раз… И я родился в тот же год, как и царевич.
– А-а! – промолвил Алёшка и заворочался на тонкой подстилке, почувствовав, как тянет холодком земля, подставил к огню другой, замёрзший бок. – А на меня ты положись – могила! – с чувством произнёс он и снова вздрогнул отчего-то…
А на следующий день, на День Всех Святых, в святую пятницу, на десятой неделе после Святой Пасхи, они вступили в Стародуб. Шёл год 7115-й от Сотворения мира, по календарю которого жила тогда святая Русь, отсчитывая начало года с первого сентября в пику всей Европе католической. На Сёмин день, на день Симеона Столпника, всё начиналось в Московии в ту пору.
Они подошли к городским воротам Стародуба, когда уже вовсю разгулялся день. Но стражники у ворот, похоже, не скучая, шныряли взглядами по лицам входящих, по одежонке и котомкам… А что несут?.. Вон там кого-то остановили, котомку отобрали, его тряхнули самого…
– Вор! Держи собаку!..
А тот сорвался с их вялых рук, метнулся, как заяц запетлял по узкой улочке, вмиг скрылся между избёнок, прилипших друг к другу тесно.
– Сёдня пятница, – запыхтел Гринька рядом со своими дружками, не обращая внимания на стражников и воров, обычный шум у городских ворот. – Кажись, ночлежка забита на субботу… Ох, леший бы её побрал, жизнь нашу бродяжью! – стал ворчать он, прихрамывая всё в тех же тесных сапогах; их он натянул вот только что у города, перед воротами.
Поплутав по улочкам, кривым и грязным, они добрались до площади, когда день пошёл уже на убыль и уже не так остервенело крутилась толкучка на базаре. Но с криками всё так же приставали торгаши ко всем, расхваливая свой товар напропалую…
Они двинулись по толпе, протискиваясь, на всё глазели. Их голод гнал, нужна была харчевня, ночлежка тоже. У Гриньки в кармане была одна лишь мелочишка, как будто кот туда наплакал. Алёшка из скромности богатством тоже не хвалился. И они с надеждой поглядывали на своего товарища: того-то нищим никак не назовёшь. И ждали от него, что он накормит их. А если поставит ещё и по чарке крепкой, то уж тогда пошли бы за ним в огонь и в воду. Ну, в воду ещё может быть, умели плавать, вся жизнь их проходила в барахтанье на мели; в огонь подумали бы и прежде дали бы попробовать ему…
– О-о, вот что-то есть! – воскликнул Матюшка, увидев ветхий сруб, похожий на кабак.
Корчма стояла на посаде, а в городе, в базарной толчее, господствовал царёв кабак. Когда-то, лет пять назад, ещё при Годунове, он был отдан кому-то на откуп. Сейчас же никто не платил с него в казну кабацких денег: всё уходило в наживу воеводам. Но кабак оказался, на удивление, закрыт. И они двинулись на посад.
Ну вот наконец-то и сама корчма: просторный двор, осёдланные кони томятся под навесом. А вон спальная изба, напротив – кабак. И тут же к ним прилипла церквушка древняя, а там на перекладине висят позеленевшие колокольца… Вот в них ударил пономарь, он бьёт, и голос их, унылый, слабый, едва перекрывает лишь этот постоялый дворик.
Алёшка и Гринька поспешно закрестились на церквушку под удары колоколов негромких. Их спутник тоже положил крест на себя, но неумело, не поднимая глаз на церквушку древнюю. Затем он, тряхнув чёрными кудрями, словно подбадривал себя, стал подниматься по крыльцу. Оно было высокое, давно уже покосилось, перила сгнили, вот-вот, казалось, упадут, если налечь на них неосторожно…
Они вошли в кабак. Полно народа. Всё те же лица: ярыжки[5], нищие, бродяги, казаки… Столы растрескались, покрылись грязью, скоблили их, как видно было, десятка два лет назад, ещё при царе Грозном… Герои наши прошли подальше в темноту, вглубь кабака, уселись там за стол, под ними шатко заходили лавки… Гудели ноги, и горло пересохло, хотелось чем-нибудь смочить его.
Кабатчик подал сразу же им пиво и молча заглянул в лицо Матюшке: в нём по одёжке опознав того, который денежкой богат, за всех заплатит.
Матюшка подтёр нос кулаком и жестом показал ему на стол: «Пожрать, покруче и живее! Что ты как дохлый!.. Пся кровь!»
Кабатчик хитро хмыкнул: «Хм!.. Всё будет, как изволит пан!»… И вёртко крутанулся он, и словно ветром его сдуло.
Дневной свет струился слабо сквозь оконце. В кабаке, в угарном мраке, двигались какие-то, как призраки, живые тени.
Тут кабатчик вынырнул откуда-то из темноты. Перед ними появилось по лепёшке. Кинул он на стол ещё кусок от окорока, сразу же исчез опять в хмельном чаду.
Они поели и запили мясо пивом. Матюшка вытер руки о свой поношенный кафтан, сыто икнул на весь кабак и показал своим товарищам на дверь: «Пошли!..» Он поднялся с лавки, небрежно бросил кабатчику затёртый алтынец и неторопливо прошёл к выходу, подвинув рукой кого-то, вставшего ему на пути.
Они вышли с постоялого двора и направились опять к базару, по улочкам пустым и тесным.
– Ну ты, Матюшка, бога-ач! – завистливо пропел высоким тенорком бродяга Гринька. – Вот повезло-то нам! – затараторил он, с подобострастным блеском в голодных глазах. – Откуда столь серебра нахапал, а?! Богат – как царь!
Матюшка остановился возле какого-то переулка. Остановились и они. И он посмотрел на них колючим взглядом. Впервые они увидели в его глазах что-то людское… Он же постоял молча, как будто о чём-то размышляя, затем заговорил, глядя на Горлана:
– Да, Гринька, ты прав – я царь Димитрий! Но о том – молчок! Не то! – с усмешкой погрозил он ему пальцем; глаза же его вновь покрылись холодком, опять в них засквозило безразличие и что-то тёмное. – Ну как – теперь-то догадались?!
От этих его слов Алёшка побледнел. Он искренне был набожен и верил в праведность людей на свете. И отдал бы он не мешкая свою жизнь за вот такого царя, каким он представлял его себе. Он думал, что царь где-то там, в Москве, а он, оказывается, здесь, рядом с ним, как тот же Иисус с апостолами. Чем протоиерей Фома, который жил когда-то по соседству с Алёшкой, смутил его пустую голову ещё с пеленок: что тот, мол, всё видит, поможет в горе и в ненастье и злую руку отведёт…
– Устою на пытках даже я! – весь задрожал он, как в бреду. – Но не выдам я царя! Вот те крест! – выхватил он нательник из-под рваной рубашки. – Целую я на том его! – припал он к нему губами и дальше горячо забормотал: «Ты волен осудить и голову мне снять, коль заворую!»
И Гринька, бродяга, последний голодранец, которого жизнь учила, учила, но так ничему не научила, измучилась, оставила в покое, тоже выпалил испуганно и громко:
– Клянусь быть верным до конца!
– Ох и люблю же я вас, щенков! – с чувством воскликнул самозваный Андрей Нагой и обнял их.
Но его глаза стеклянным взором взирали без теплоты на них, на мир, ему чужой, убогий и неполный. И он, похлопав их отечески по плечам, потащил за собой опять в базарную толкучку.
* * *
Несколько дней они шлялись по посаду и в самом городе, от безделья глазели на всё подряд. К ночи же, когда становилось опасно на тёмных улочках от воров, грабителей лихих, они приходили на постоялый двор. За ночлег, еду и кабацкое питие – за всё щедро платил Матюшка, крепко прикармливая к себе своих случайных дружков-приятелей.
Однажды, на седьмой день по их приходе в Стародуб, на посаде появились скоморохи, ватагой шумной и крикливой. Вожатый заходил перед зеваками с медведем, держа на цепи его. Медведь же, худой, с подтянутыми скулами, весь замордованный, глядел со страхом на него, хозяина, мучителя, который выбил из него уже давно его звериную породу. И он покорно исполнял все прихоти его: ходил на задних лапах и как ватный кувыркался. И если бы умел он изъясняться, то извинения просил бы у зевак за всю породу зверскую свою… Слепой старец возложил на гусли свои тонкие персты, едва коснулся их… И струны что-то ответили ему, от нежности заныв, пропели и сразу, как в испуге, замолчали… А он, подняв персты над ними, замершими, жаждущими ласки, устремил свои незрячие глаза куда-то в пустоту, поверх голов людей… Но вот руки слепца упали на струны, на тело тёплое его потасканной штуковины, и дьявольские страсти заиграли… Он начал изощряться, щипать и бить по струнам, отбрасывать их прочь, подальше в сторону, и вниз, до унижения, чтобы гудели, плакали и выли, пощады, милости просили… Гусляр, бродячий песнопевец, был стар. Но струны его пели, вещали молодым о том, что жизнь от сладострастия пьяна и ей ли умирать…
И тут же ловкий жилистый горбун паясничал в наряде шутовском Петрушки. На голове его торчал цветной колпак, весь в колокольчиках, и одежонка пёстрою была. Он сильно хромал и был смешон, но ещё больше жалок. Кривлялся, прыгал, показывал он фокусы замысловатые. И вдруг он подскочил к Матюшке и колесом прошёлся перед ним. Затем он ухватился за пуговицу на его кафтане и дёрнул слегка её, расхохотался громко:
– Ха-ха-ха!.. Тебя я знаю! Ты щедр, как царь! Вот и меня побалуй денежкой серебряной из гамалейки[6] или вина скорее мне налей-ка!.. Заметив его резкое движение, он отскочил от него. Но острых глазёнок не опустил он перед ним, раз ловко кувыркнулся через голову: горб, безобразный, в воздухе мелькнул…
– Я – Петрушка-молодец! – пронзительно понеслось по площади. – Меня выпорол отец! За то, что к девицам ходил, вино сладкое я пил! На мне платьице худое, да к тому же и чужое!..
Дудки яростно свистели, скоморохи веселили честной народ, толпа напирала на них, слышался хохот. Под удары колотушки прохаживался вожак, водил по кругу медведя с шапкой в зубах и заставлял его кланяться, собирал копейки и полушки…
Когда скоморохи угомонились и суета вокруг них стала затихать, Матюшка подошёл к их старшему, тому вожатому с медведем, оттащил его в сторону и пристал к нему.
– Продай шута! Я дам знатную цену! – звякнул он тугим мешочком с серебром перед физиономией опешившего вожака.
Эти деньги были князей Вишневецких. И он не дорожил ими, транжирил, щедро кормил, поил своих дружков-попутчиков, ярыжек угощал, пьянчужек в кабаке и нищих, бродяг не забывал. При этом он приговаривал на ухо им: «Вот-вот придёт царь Димитрий и вас пожалует ещё дарами!..» И посад, он слышал уже об этом, заговорил, пока ещё втихую, опять о царе Димитрии. Его здесь ещё помнили хорошо, как и в Путивле.
Вожак раздумывал недолго: они ударили по рукам. Всего за десять рублей, такова была цена плохонькой лошадки, продал он горбуна, своего товарища по ремеслу. Так Матюшка в тот памятный для него день завёл своего первого холопа и всё никак не мог наглядеться на него. Горб безобразный казался ему прелестным, рост малый не смущал его. А то, что злой – на то причины есть: шут ядовитым, как поганка, должен быть. Держал он впроголодь его, чтоб ум острее был и не терял бы ловкость он, живот не портил бы горбатую осанку… Петрушка Кошелев, так звали шута, уже не удивлялся в жизни ничему, зажил за новым хозяином своим: уж если купил – пускай и кормит…
А самозваный Андрей Нагой нашёл себе на посаде двор, снял там избу, точнее угол, стал жить свободно. Днём он пил вино с хозяином двора Нефёдкой, мелким торговцем на посаде, на его летней повалуше[7], срубленной на подклети. В жару прохладно было в ней. А по вечерам его, пьяного, из кабака приводили Гринька и Алёшка. Но даже пьяным он держал язык на привязи, по себе отлично зная, что чем сильнее жажда, тем злее будет питься хмельная влага. Ни разу не проговорился он больше о том, о чём лишь однажды открылся, как ни пытались они выведать ещё что-нибудь о нём: Алёшка – млея от него, кумира своего, а Гриньке то наказал воевода. Тот припугнул его под страхом смерти, когда и до него дошли слухи о странном Нефёдкином постояльце.
Андрей Нагой, а Матюшка вжился в эту роль уже, шатался по Стародубу, кутил, порой скандалил, дрался. О нём все бабы судачили по городку, украдкой девки косили глазами на него. А мужики качали головами, глядя на его беспечное житьё-бытьё: «Вот дал же Бог кому-то всё!»
Завистливо подумывал и Гринька о своём дружке, счастливчике. А тот нашёл себе игрушку: с шутом частенько веселился.
– Давай, давай, Петька! Ещё разок! – сквозь взрывы хохота слышалось теперь.
И шут потел, кривлялся, хозяину старался угодить.
Так прошёл месяц, как заявились наши приятели в сей городок на окраине земли Московской. А уже поползли слухи о том, что царь Димитрий здесь, в Стародубе, среди них живёт и ходит, скрывается до времени, вот-вот объявится. И на город опустилась странная лихорадка. Все ждали с нетерпением царя Димитрия, но никто не видел его никогда и не знал, каков же он из себя обличьем.
Приятелям Матюшки казалось, что они знали о нём всё. Так думал и тот же Меховецкий. Но как же ошибались-то они! Не знали, не догадывались они, что он прятал Талмуд[8] на дне своей грязной котомки, но чаще баловался чернокнижием[9]. Он верил в числа. Свою судьбу он просчитал уже на много лет вперёд и знал, что ему помогут потусторонние силы совершить в жизни что-то необычное. Так вытекало из тех странных, каббалистических чисел[10]… И он решил ввериться тем силам. От Сёмина дня он отсчитал назад число каббалистическое 77. К нему он прибавил ещё три дня, по 13-м числам те силы обычно отдыхают, воскресный день есть и у них тоже, прикинул – и у него вышло, что он должен был вступить в Стародуб именно в тот день, когда они пришли, в День Всех Святых, как раз в пятницу на десятой неделе после Пасхи… Да, да, те силы распяли Его на Пасху, в пятницу!.. А он, Матюшка, начнёт восхождение с неё… Всё получалось так, как говорила каббала. Задержка хотя бы на один день сдвигала все числа, и его судьба уходила совсем в иные миры, те числа рассыпались… Да, это он просчитал уже, и не один раз, и каждый раз смущался… Вот связка времен – и она ждёт его!.. К тем десяти неделям, 70 дням от Пасхи, он прибавил свои 77 дней, отпущенных ему до срока: вновь получилось каббалистическое число, 21 неделя. Он разделил это число на семь и получил три недели, «их недели», сил потусторонних… Год на Руси шёл тогда 7115-й от Сотворения мира, и в этих числах, в сумме их, ему мерещились всё те же две семёрки.
Он лихорадочно заходил по избёнке, голый по пояс. Вспотев от волнения, он схватил со стола кувшин с пивом, припал к нему: большой кадык затрепетал на его шее. Он осушил кувшин, но не напился, сжал пальцы в кулаки, чтобы унять дрожь в теле… Да, да, всё верно, правильно, он не ошибся, и всё идёт в развязке… «Какой же?!» – заработал в горячке его мозг, толкал куда-то. И он, не выдержав томления в груди, схватил кафтан, напялил его прямо на голое тело, выскочил во двор и бросился бегом в кабак: скорей залить огонь внутри, тот жёг его.
И в этот день он здорово напился. С утра же на следующий день, как раз в пятницу, он валялся всё ещё пьяным, когда во двор Нефёдки вломилась кучка стародубских властных людей, с толпой посадских и городских.
– Андрей, Андрей, вставай! Ты что заспался-то! – стал тормошить его Нефёдка.
Он испугался огромной толпы, она уже ломала его ограду, втискивалась в его убогий дворишко. Шум, грохот, пока ещё приглушённый. Ропот и сопение чем-то рассерженных людей… И всё тут, у него, у Нефёдки!..
– Нефёдка, выходи! – застучал воевода палкой в дверь, запертую изнутри. – И постояльца давай сюда!.. Да живо! Не то раскатаем по брёвнышкам твою избёнку!..
– Да чичас! – отозвался Нефёдка, ознобливо задёргался, расталкивая своего пьяного постояльца. – Вставай, вставай, ты!.. – выругался он в сердцах. – Вот напасть-то! За что мне Бог послал такого! – забормотал он, потащил его с лежака, не в силах приподнять тяжёлое тело.
Матюшка свалился на пол, мягко, как подушка.
– Да вставай же ты, дерьмо собачье! – засуетился вокруг него Нефёдка, затормошил, затем подскочил к кадушке. Зачерпнув ковшиком воды, он плеснул её в лицо ему.
Матюшка зафыркал, стал плеваться: «Хр-р!.. Тьфу, тьфу! Фыр-р-р!» – и потянулся рукой к нему: «Я те рыло сверну, вонючка!»…
Он поднялся с трудом на ноги, повёл бессмысленным взглядом по тесной избёнке, заметил Нефёдку, тупо всмотрелся в него, пытаясь что-то сообразить: кто он и что здесь происходит…
– А-а! – промычал он и вспомнил, как вчера опять набрался сверх меры в кабаке.
Избёнка же, бедная избёнка уже ходила ходуном под напористыми сильными плечами. А дверь скрипела и скрипела… И вдруг раздался ужасный треск. Дубовая задвижка лопнула, дверь распахнулась настежь, и в неё, в пустой проём, свалились кучей у порога три здоровенных мужика, с пыхтением и бранью: «Собака!..»
А со двора донёсся всё тот же повелительный и резкий голос: «Тащите сюда… этого Нагого!»
Матюшка протрезвел от страха быстрей, чем от холодной воды, хотел было бежать куда-то, но не мог ступить и шага. Он понял, что влип, и его ноги приросли к полу.
А мужики уже тут как тут, подле него, умело заломили ему руки, нагнули низко шею и потащили во двор.
– Да хватит же, больно! – взвыл он, взирая, как перед самым носом у него полощутся вонючие мужицкие порты.
Но мужики отпустили его только во дворе. И он, ворохнув плечами, оправил на себе помятый кафтан, увидел перед собой огромную толпу, а впереди неё городских «сильников».
Вчерашний боярский сынишко[11], из здешних, городовой, его он поил вечером в кабаке, был тоже здесь. Он стоял, понурив голову, возле Гриньки… «Да, точно, выдал он!»
Приставы тем временем вытащили вперёд Алёшку и Гриньку и толкнули их к нему, лицом же к воеводе и толпе, к этой ужасной толпе. Алёшка жалобно глянул на него и отвернулся. А Гринька глаз не поднимал. Несколько дней назад он проболтался об их странном приятеле, кормильце и добродетеле. Из зависти к нему он выложил всё, по пьянке, кому-то в кабаке и не мог даже вспомнить кому. И вот сейчас он понял, что слух о том дошёл и до его родного Путивля, если от крутого тамошнего воеводы Григория Шаховского здесь появились «с доездом» сыщики: «сыскное дело» завести.
«И дознаются!» – похолодело всё внутри у него, когда он заметил за воеводой палача Ерёмку, тот притащился сюда с подручными… «Вон инструмент уже!» – углядел он у них жаровню, огромные щипцы, колодки…
Подручные спешат, уже прилаживают козлы для пытки наскоро, но ремесло поставлено умело.
– Вот ты, Нагой, болтаешь здесь, что, дескать, царь Димитрий жив и вскоре опять придёт сюда! – заговорил воевода, заложив руки за широкий кушак, подтянул большой живот, запыхтел, отдуваясь от жары.
Она, жара, накрыла городок и степь. Леса горели в этот зной, парили редкие озера за городскими стенами.
– Да вот заждались что-то мы его! – выкрикнул кабацкий голова.
Тут откуда-то вдруг появился дьяк Пахомка, забегал подле воеводы и стал толковать ему.
– Князь Лука, а князь Лука, ты не трогай вот его, вот его-то! – показал он на Матюшку.
Его, дьяка Пахомку из Москвы, Матюшка тоже припоил, тот стал ручным, его радетелем.
– Придёт, придёт, друзья… – залепетал Матюшка. Он испугался натиска толпы и воеводы, мелких служилых, боярских детей и казаков.
– Ну как вот вам такое, а?! И мы же оказались в дураках! Послушайте, послушайте его! – бросил воевода в толпу, и та заволновалась сразу же. – Так где же он?! – вскричал он, взвинчивая ленивых и зевак.
– А мы же верили в его наследный трон! – раздался пронзительный вопль какого-то юнца.
– Он, как сатана, всем милость обещал! – вдруг заголосила какая-то баба, худая, тёмная, и стала рвать на себе волосы. И её грязное платье, в лохмотьях, полетело на землю, обнажая всю её срамоту…
«Ну так и есть – юродивая! На Русь попал, святую!» – с сарказмом пронеслось в голове у Матюшки. Сердце у него дрогнуло, и сразу стало легче: опять всё то же, он снова был дома, где всё по-прежнему и всё знакомо…
– А ты-то знаешь – когда же явится наш царь?! – съехидничал воевода, приставив к лицу Алёшки кулак. – Отвечай, вонючее гусиное перо!
Алёшка струсил, и изрядно, но гордость всё ещё брала в нём верх, себя топтать не позволяла, выкручивалась, как умела.
– Ох, как же ты, боярин, нетерпелив! – умышленно польстил он воеводе, хотя тот был всего лишь мелкий дворянин.
– А ты, питух, спесив! И не по месту! Сейчас вот зададут тебе!.. – даже не заметил воевода, по тупости своей, лесть тонкую Алёшки и обернулся к стрельцам, которых толпа приволокла сюда за собой. – Схватить его!
И стрельцы тут же подскочили к приятелям, схватили Алёшку, подтащили к козлам: «Держи, Ерёмка, твоя работа!» – со смехом бросили его на руки подручным палача. Те на лету словили писаря и ловко разложили на козлах его, Алёшку, кудрявого и славного, всего лишь молчуна, к тому же безобидного пьянчужку.
– Пытать, пока не надумает сказать: почто царь не идёт и медлит, шлёт вести устные одни! – с сарказмом проворчал воевода, тряхнул отвисшим животом. – Хе-хе!
– Государь, откройся им, – стоя рядом с Матюшкой, зашептал Гринька и выбил зубами дробь, когда увидел, как с писаря сдёрнули рубашку и порты, чуть-чуть на козлах потянули, точь-в-точь как шкуру с какого-то коняги, чтоб задубить и просушить.
Матюшка сглотнул тугую слюну и прошелестел сухим языком своему кабацкому дружку: «Донесёшь – на кол пойдёшь, паршивый пёс!»
Гринька всхлипнул, зажал было рот, но его губы сами собой тряско запрыгали: «О-о, государь, молю – прости!..»
– Давай, Ерёмка, давай! – крикнул весёлый воевода палачу. – Пусть скажет, мерзавец, нам речь! Он писарь, его слова давно летают по кабакам! А ну-ка, сними кожу с него и псам отдай! А потроха – вон той убогой! – пыхнул он смешком в клочковатую бороду; его заплывшие глазки сверкнули по сторонам, остановились на юродивой, которую стрельцы вытаскивали со двора. – Вот пусть она и погадает: когда же к нам явится Димитрий, сам царь! А не собак кабацких зачем-то присылает! Ха-ха! Начинай, Ерёмка, попарь его: по заднице, по спинке!..
Ерёмка принялся за дело: бич свистнул… Алёшка взвизгнул, всем телом изогнулся. Но крепко, узлами, притянули его руки к толстому бревну.
– Да что ты гладишь-то его! – рассердился воевода, вынул кулак из-за широкого кушака и погрозил им Ерёмке.
Ерёмка, презрительно сплюнув себе под ноги, прошёлся снова бичом по спине Алёшки. И покраснела она теперь, как от стыда… Вот тут уже Алёшка заверещал, заёрзал руками, не в силах дотянуться до спины, заполыхавшей огнём.
– Я всё скажу – только уймитесь! – запричитал он, обнимая шершавое и тёплое бревно. – О Николай Чудотворец, помоги!.. Какие все вы дураки!.. Хы-хы! Помыслить сами не хотите! Хы-хы!..
– Так видел ты царя или нет?! – спросил воевода его.
Алёшка всхлипнул, послушно закивал головой.
– И как же ты признал в нём царя, а?!
– По осанке… Осанка царская его меня смущает…
– Ха-ха! – глупо хохотнул кто-то в толпе.
Воевода сдвинул брови и повёл взглядом по головам, и все бездумно замолчали снова. А он стал медленно поворачиваться и вот, когда повернулся, махнул рукой палачам, чтобы оставили писаря, и показал пальцем на Матюшку: «Теперь беритесь за Нагого!»
Но в этот момент кликуша вырвалась из рук стрельцов. Те волокли её со двора, грязную, нагую, а она, не пьяная, орала: «Здесь, здесь дух его! Сейчас увидите его! Он, сатана, пришёл до вас! А вы!.. Тьфу, тьфу!» – вдруг плюнула она в лицо одному стрельцу. Плевок попал бедняге прямо в глаз. Тот выругался, зашарил сослепу руками, ловя её… Она же вырвалась из рук другого стрельца и кинулась назад, во двор, всё с тем же воплем: «Сатана-а!..» И там она уткнулась в толпу, глазевшую, как расправляется палач с кабацкими ярыжками, забегала среди людей, со страстью вглядываясь им в лица… Но вот она остановилась перед каким-то зевакой: тот пялился во все глаза на то, как бич со свистом режет плоть несчастного Алёшки… И она, жеманно подмигнув ему, хихикнула и голым задом бесстыдно повела. Затем вскинула она вверх руку, показывая неизвестно куда-то, и опять заголосила: «Он!.. Он – глядите!»
– Да выкиньте же её! – закричал воевода стрельцам. – Афонька, а ну, марш до этой суки! Юродивых нам только не хватало!
И стрельцы забегали в толпе, ловя кликушу. А та пряталась там, орала: «Сгоришь, сгоришь!.. В аду тебе пылать!..»
Матюшка затрясся от страха, пот ледяными струйками, вот в эту летнюю жару, защекотал ложбинку на его спине. И она, спина, сейчас же подло зачесалась как раз в том самом месте, где всё ещё проступали следы побоев, когда его тащили в тюрьму и били кнутом и кулаками, затем прошлись по пяткам батогами.
Всё дальнейшее мелькнуло как в каком-то чаду: в руке у него сама собой оказалась какая-то палка. И он, защищаясь, замахнулся ею на стрельцов, на их руки, уже протянутые к нему. Из его груди вырвался клокочущий звук, в нём страх смешался со злобой, и сердце задрожало… Вскрик загнанного в угол, прижатого к стене, пса обозлённого: «А-а!» – ворвался во двор и перерос в осмысленную речь: «Ах! Вам неймётся! Я – Димитрий, царь, и вас отменно палкой проучу! Собаки! А ну, кто смел – ударь!..»
И вот сквозь пелену в глазах заметил он, как отшатнулись от него какие-то кривые тени. Испуг и страх на лицах сменились удивлением, и там же робость появилась. А кто-то уже готов был кланяться ему… Но рожа воеводы всё так же светится ухмылкой: он за здорово живёшь и на полушку не поверит никому.
«Он всех опасней! – прочно отложилось в память у него. – Хм! Получилось!»
Сердце у него сжалось в тугой комок, и жаром покрылся лоб, уже побелевший было. И он стал понемногу оживать, хотя похмелье сидело ещё в нём крепко, дрожали мелкой дрожью руки, ноги…
– Ну что – он?! – толкнул воевода плечом стоявшего рядом с ним одного незнакомца, из тех, что были из Путивля. Толкнул он его легонько всей своей массой, но тот закачался и чуть было не упал.
«Сыщик, с доездом!.. Прознает!» – догадался Матюшка и снова стал холодеть.
И, наверно, этот толчок воеводы сказался на незнакомце. Тот промямлил неуверенно и робко: «Да вроде бы похож» – и сразу опустил глаза, чтобы не видеть лица Матюшки.
А Матюшка заметил, как у воеводы забегали по сторонам глазки. Тот мгновенно уловил помрачение умов вокруг себя, и льстивая улыбка расползлась по его лицу. Вот только что готов был он сожрать его, топтал и собирался отдать палачу.
– Прости нас, глупых, государь! – как сквозь ватой забитые уши донеслось до него от воеводы: тот открывал рот, но звуки глохли в шуме, которым был наполнен двор.
– Не разглядели мы тебя, твои холопы! – вдруг взвился над толпой чей-то крик и затерялся под ветхой крышей Нефёдкиной избёнки. – Тебе служить мы верно будем!..
«Ах, негодяй, Меховецкий-то, оказался прав!» – мелькнула слабая улыбка на губах Матюшки. Страх стал медленно выходить из него. Но ещё настороженно взирал он на толпу, ту самую, плевавшую в него ещё минуту назад. И какая-то мысль, подспудная, стала проситься у него наружу. Вот, казалось, мелькнуло что-то важное, что только что открылось ему.
«Да что же это?» – старался он ухватить что-то, но не давалось то и ускользало… «А-а! Вон в чём дело!» – с облегчением ворохнул он плечами и вновь почувствовал, что опять двигается свободно, без ложного смущения.
– Ну что стоите?! Где мои хоромы?! – приказал он, придав повелительность своему голосу, всё ещё дрожащему, уже уверенный, что всё будет так, как он скажет, как захочет. – Не здесь же мне торчать! – мотнул он головой на жалкую избёнку Нефёдки.
– Государь, государь, и я с тобой! – послышался вскрик Гриньки, которого уже куда-то волокли стрельцы. Его лицо, беспомощное и жалкое, мелькнуло в толпе и навсегда исчезло для Матюшки.
А писарь? Того сняли с бревна, оттащили к амбару, положили там у стенки на дощаной пол. И тут же над ним захлопотали какие-то сердобольные бабы.
А толпа оттеснила от Матюшки воеводу, боярских детей и посланников, приехавших из Путивля. Она пронесла его из посада к городским воротам и там, в крепости, опустила на воеводский двор, где уже суетился и сам воевода, освобождая ему хоромную избу на высокой подклети. Откуда-то здесь появились уже и казаки, стрельцы стоят рядами, толпа ломает шапку перед ним, сам воевода робко ходит.
* * *
Прошёл месяц, как царь Димитрий, бывший Матюшка, а он уже стал привыкать к своему новому имени, поселился на дворе воеводы. Он оброс прислугой, холопов появилась уйма. Все услужить ему были готовы. Откуда-то и дьяки появились, и все смышлёные: приказы строят по образцу Москвы, указы, грамоты мелькают. Сидят подьячие и перьями гусиными скрипят по целым дням.
«Вот чёрт!» Не знал Матюшка, что государево дело построено так сложно… Да и имя своё он, Матвейка от рождения, уже начал забывать. Тем более что ни Гриньки, ни Алёшки после того дня уже ни разу не видел он, и ничто не напоминало ему больше о прошлых его днях, о прошлой жизни. Да было ли вообще прошлое у какого-то Матюшки?.. На самого себя, на того из прошлого, он сам смотрел со стороны и с удивлением, как на чужого.
«Димитрий, государь и царь!» – теперь во всякий день в ушах его звучало и звучало, к чему-то новому и необычному он привыкал.
Но прошлое не всё легко стиралось. По-прежнему язык его любил солёное и крепкое словцо. Парчовый кафтан, хрустящий от новизны, в плечах ему, казалось, стеснял, был узок. И он частенько надевал своё старьё, а стоптанные сапоги привычней были, не жали ноги. Всё было у него теперь: двор царский, хоромы, приказы, казна немалая скопилась уже, полк казаков, стрельцы. Детей боярских он видел на своём дворе, и воеводы из ближайших городов ударили поклонами на верность ему, великому князю Димитрию.
– Поклоны бьют, а вот с казной воруют! – ворчал по целым дням его дворцовый дьяк Пахомка, тот самый, которого он припоил уже давно к себе.
Но что-то, ему казалось, остановилось. Он это чувствовал. Однако в свои тайные книжки он больше не заглядывал, припрятал их подальше: боялся, а вдруг попадут кому-нибудь в руки.
Опять каббалистическое число подкралось неминуемо. До Сёмина дня, до срока, осталось ровно 33 дня. Вот завтра будет тот день… «И что-нибудь случится непременно!..» Настал тот день, тот срок. С утра стояла неважная погода. Она будто сулила какие-то ненастья ему: шёл мелкий нудный дождик, предвестник пока ещё не близких холодов и серого осеннего начала.
До полудня он принял в своих хоромах двух дьяков, стоявших во главе приказов. Их завели вот только что. Приказ Разрядный был у них, а другой – Большой казны. И с думой пока неважно выходило: ни одного боярина не было у него. А тех, кого он назвал своими боярами, в Москве бы не пустили и на порог к посадскому купцу.
Но к полудню ветер разогнал на небе тучи, и выглянуло солнце, дорогу подсушило. Опять запрыгали возле конюшни воробьи, клюют овёс, дерутся, суются всюду и шустрят.
Конюхи вывели лошадей из стойловых конюшен во двор царских хором. Царь Димитрий собрался прогуляться верхом за городские стены, развлечься на охоте в лесу, соседнем с городком. Там царские егеря заметили стадо кабанов. Да, да, у него появились уже и егеря. Их подарил тот недоверчивый воевода, вымаливая прощение с нижайшими поклонами.
Димитрий вышел из хором одетый в поношенный кафтан, удобный для выездок в поле. И тусклые сапожки сидели на нём ладно. Он был немного с утра, конечно же, под хмельком. Но пил он теперь не с ярыжками: с боярами, советниками ближними своими. Вот новая его среда, вот новые его приятели.
Никулка, его стременной, подвёл к нему тёмно-гнедого мерина с белой отметиной на лбу.
Матюшка, а иногда он вспоминал ещё, что он Матюшка, легко взлетел в парчовое седло и, обминаясь, слегка покачался в нём, чувствуя, как упруго держат ноги тело. С десятком всадников, а к ним ещё два егеря, он выехал из города и миновал посад. За деревянным острогом он собрался было наддать мерину в бока, разрысить его, к седлу привыкнуть самому, поскольку ездил раньше верхом не часто: всё больше жизнь гоняла его пешим ходом. Но тут его спутники заметили, что навстречу им пылят по уже высохшей дороге всадники. И были они тоже кучкой небольшой. На шляпах у них покачивались павлиньи пёрышки, на польский лад были раздвоены околышки.
– Ляхи! – крикнул стремянной, мгновенно узнав знакомые очертания всадников, здесь всем известных.
– Стой! – скомандовал Димитрий, потянул за повод и перевёл бег своего коня на шаг. И тот затанцевал, кокетливо пошёл вперёд и как-то боком, немного приседая.
Ещё издали, когда они только что увидели тот отряд, он сразу же приметил впереди той кучки всадников надоевшую ему фигуру: «Несёт же бес его!»
«Ах! Сегодня же тот день! Так это он явился на мой тот срок!» – вспомнил Матюшка ещё вчера донимавшее его каббалистическое число. О нём он помнил с самого утра, хотя с похмелья болела голова. А вот встретил пана Меховецкого, и всё тут же вылетело из неё… «Почто бы так?» – подумал он о странном состоянии. Оно появлялось у него всякий раз, когда с ним рядом оказывался кто-нибудь из ляхов. Тогда все чернокнижные мысли его вмиг исчезали из головы…
Меховецкий узнал его тоже, ещё издали, хотя одет он был уже совсем в иной наряд. На нём развевался нараспашку русский кафтан, была непокрытой голова, и чёрные кудри ложились большими завитками на лоб его покатый.
Меховецкий подскакал вплотную к ним и нахально уставился на него во все глаза. Затем он ухмыльнулся, вскинул руку к шляпе и слегка поклонился ему в седле.
– Великий князь Димитрий, тебе бьёт челом полковник Николай Меховецкий!
До него, до Меховецкого, одного из первых в Посполитой дошла молва о появлении в Стародубе царя Димитрия, царя долгожданного и своего. Тот перестал скрываться. И вот теперь он спешил сюда, уверенный, что это его Матюшка, его задумка, принял личину новую. Он здесь, перед «московским царём»… «Хм! Как всё удачно вышло! И этот учитель, любитель малолетних панночек, справился, и превосходно, с заданием своим!»
Он готов был расхохотаться.
– Пан Меховецкий, о тебе уже наслышан я! – ответил Димитрий на его поклон и милостиво кивнул головой ему. А сердце, его сердце, Матюшкино, помнило ещё вот этого пана. И эта память подталкивала его поклониться тому, кто вытащил его из тюрьмы, обогрел и накормил. К тому же и научил кое-чему: как стать царём Московии. А это многого ведь стоит… Да тот был паном, а он, Матюшка, всего лишь простой посадский мещанин…
Меховецкий приветливо улыбался ему, всё так же внимательно вглядываясь в него, как будто хотел уловить что-то за вот этой игрой. Да, они вели сейчас игру, для всех иных, в этот момент их окружающих. Всю подноготную не знают те. И уж точно не узнают никогда. Он отыскивал на его лице, фигуре, взгляде, за что бы уцепиться и кое-что понять… Кафтан на нём был слишком уж крестьянский. Да, въелся, сидит в нём скаредный прижимистый мужик. Не вытравить… Ну что ж – пускай живёт таким. Не забывал бы только роль свою, взятую на время. Осанка появилась у него, не царская, но не была похожа и на холопскую уже.
«Вот те на! Откуда что берётся!» – с нескрываемым восхищением смотрел он на Матюшку, как тот сидит в седле, небрежно отдаёт приказы. И даже как глядит он на него, полковника Меховецкого. Ведь это он вылепил его, вот этого, пока ещё новорождённого царя… Да что там царь – он «царик» всё ещё!.. «И не дай бог, если сядет в самом деле на трон!» – почему-то стало ему не по себе, хотя он сам готовил его на эту роль… Но почему же вот только сейчас у него закралось сомнение? А не тогда, когда его на это дело подбивал князь Адам… Ну, тот бражник, безумец, что с него возьмёшь. Князь Александр – хотя бы поумнее…
– Филька, лети назад и предупреди Пахомку, чтобы приготовил всё для встречи дорогих гостей! – приказал Димитрий холопу. – Дуй, малец, дуй! Чтобы в штанах крутился ветер! Ха-ха-ха! – расхохотался он, довольный приездом Меховецкого.
Он догадался, что тот приехал не просто взглянуть на него, а с каким-то делом, вестями. Ведь впереди, об этом он не забывал, был Сёмин день, проклятый день. Он изжевал его, и чем ближе подходил, тем чаще он напивался по вечерам.
Всадники всей массой повернули и двинулись обратно в город.
– Князь Адам передаёт привет твоей милости! – сказал Меховецкий, поехав рядом с Матюшкой, наклонил почтительно голову перед ним, великим князем.
«Да, он-то не оступится, играет хорошо, все тонкости придворных знает! – мелькнуло в голове у Матюшки. – И он не подведёт меня. А вот поможет крепче сесть в царское седло!.. И с чем-то приехал… С чем же? Не случайно ведь сегодня опять моё число!»
В хоромах, уже за столом, Меховецкий сообщил ему, что за ним дня через два придёт полусотня гусар[12], пока всего лишь полусотня. Но в Посполитой о нём уже наслышаны, и гусары собираются опять в поход за царя Димитрия.
– Через недели три к тебе придёт от князя Адама пан Валевский, – понизив голос, сказал он, чтобы не слышали «ближние» царя.
– Кто он такой? – спросил Матюшка. Он всё ещё чувствовал себя им, простым Матюшкой, вот перед ним, перед паном Меховецким. Тот, его наставник и поводырь, загнал его, как вбросил, в иной мир, ужасно сложный. Туда он угодил по прихоти его… «Вот и пускай, паршивец, спасает или помогает!..»
– Ну-у! – удивился тот. – Его ты, великий князь, ведь должен знать!
Насмешка прозвучала в голосе его, захмелевшего. Он был, конечно же, пьян, но ещё держался крепко мыслями, не позволял себе лишнего болтать.
– Гусары в Польше не у дел, – продолжил дальше Меховецкий, пряча хитрую усмешку в усах. – Соблазни их, царь, походом!
О-о! Как сказал он это слово – «ца-арь»! Как в тот момент смотрели его пьяные глаза на него, на Матюшку… Что было в них и в голове его? Как знать хотел он всё же это.
– Я с Шуйским за престол начну войну! – вдруг само собой истерично вырвалось из уст его, того самого Матюшки, на которого какой-то воеводишка нагнал страха ещё совсем недавно вот в этом Стародубе. Ах! Как не хотелось ему вспоминать об этом, травил он это в себе вином…
Меховецкий снова усмехнулся, но ничего не сказал. Он стал опять говорить всё о том же Валевском, что тот будет канцлером, как велел князь Адам. И он потряс указательным пальцем перед самым его лицом, как будто отчитывал какого-то мальчишку.
И он, Матюшка, проглотил всё это.
Но Меховецкий всё не унимался. Он был изрядно пьян, и его тянуло царить вот здесь, при его «питомце», при его Матюшке. И он стал поучать сидевших за столом «ближних» царя.
– В Литву и Польшу письма рассылайте! Пишите: царь Димитрий жив и набирает войско! И не забудьте указать – оклады выше королевских обещает! – поднял он вверх руку, как будто грозил кому-то за непослушание. – Кто ступит первым ногой на землю Московии – получит сверх за четверть золотой!.. Ха-ха! Вот так мы и заманим их!..
И не видел он, пьяный, потрёпанных лиц «ближних» царя. Наутро же, проспавшись, он покрутил больной головой: «Брр!.. И кто только пьёт эту гадость!..» Он опохмелился, оставил свою полусотню гусар Матюшке, сказал, что через месяц вернётся с войском из Посполитой, и уехал обратно за рубеж. Он поехал на Волынь, в замок Вишневец. Он вёз князю Адаму подробный отчёт о том, что сделал и как живёт их ставленник в земле Московской.
Но Валевский, как обещал Меховецкий, не появился в Стародубе. Зато в конце августа там объявился опять сам Меховецкий. Он был возбуждён, при встрече с ним всё время шутил и был весьма доволен чем-то. Но он уже не позволял себе такие штучки, какие ещё проскальзывали у него совсем недавно, при последнем его визите в царские хоромы.
– Ты не представляешь себе, какие дела разворачиваются в Польше! Рокош[13] Зебржидовского провалился! Жолкевский разбил под Гузовом рокошан! Об этом я тебе уже говорил в прошлый раз! Так вот: те разбегаются, ищут, к кому бы пристать! У всех рыцарей полно гусар! Но король не доверяет им, не берёт на службу. И они намерены искать в другой войне добычи, золото, оклады!.. И тут, к их радости, среди них разнёсся клич, что ты жив и собираешься в поход! Ха-ха! – потирая азартно руки, заходил он по горнице, и сабля постукивала и постукивала его тяжёлыми ножнами по слегка прихрамывающей ноге.
* * *
И вот наконец-то наступил тот самый Сёмин день. А перед тем у него, у Матюшки, была кошмарной ночь. Наутро же всё было по-прежнему: ночь новостей не принесла.
«Чёрт бы его побрал!» – уже не раз мысленно ругал Матюшка этот срок; он ждал его, отсчитывал мгновения со страхом.
День наступил, прошёл, закончился. И весь этот день Матюшка терзался, но не показывал ничего перед тем же Меховецким. А тот каждый день таскался к нему в хоромы и всё нудил про войско и что вот, мол, казна нужна большая.
– А где её взять?! – загорячился он как-то, не выдержав его нытья. – Города что за деньги-то шлют? Как будто там… лишь доят! И только отписками одними кормят! Вот, дескать, царём признаём, но серебришка взять негде! Кабацкую казну поразорили, и книги те, многие, куда-то затерялись! Мол, неизвестно с кого и сколько раньше брали!.. Пахомка пишет им: приноровясь по-старому! А они в ответ: десятую деньгу собрать не можем!..
Так мучился он весь этот день. К тому же его донимали дьяки какими-то мелкими делами. И он едва дождался конца дня, чтобы понять, что в этот день ничего не случилось… «Что? Наврали числа!.. Не может быть!..» Он в них, в эти числа, верил, как в Бога никто не верил до него… «Но почему же до сих пор сходилось всё? Обман, ошибка в счёте, загадка? А может, я зря учитывал те, дьявольские дни?.. Тогда, выходит, мне нужно ждать ещё три года! Да нет – даже четыре! А что будет через четыре? То я не просчитывал совсем!»
– Государь, тут есть девка, – вошёл к нему в горницу Пахомка и заикнулся о том, чем всегда готов был услужить ему, и сейчас почувствовал, что эта служба нужна. – У неё всё на месте, всё при ней…
Пахомка исполнял у него сразу две обязанности: ведал приказом Большого прихода и был его комнатным дьяком.
– Давай, – согласился Матюшка. Ему не нужна была вторая ночь кошмаров.
Пахомка вернулся в дворецкую и вызвал к себе девку Агашку. Та недавно завелась в хоромах и была в теле, мила лицом, а по глазам было заметно, что сконфузить её не так-то просто было. Он распорядился. И бабы помыли Агашку в баньке, расчесали ей волосы, надели на неё белоснежную рубашку и опять передали с рук на руки ему. Он ещё раз проверил всё придирчиво и поджал тонкие губы при виде сочной девки. Озорные мыслишки, ненужные сейчас, забегали в его голове и ломотой отдались в теле… Он крякнул для крепости, чтобы устоять перед соблазном дьявольским, и стал по-деловому наставлять её.
– Иди к царю! Сама знаешь, как утешить его!.. Хм! Вроде баба, а ведешь себя как девка! – заметил он её блестевшие смущением глаза…
Агашка робко вошла в царскую горницу и остановилась у порога.
– Как тебя зовут, а? – спросил Матюшка девку, стоявшую у двери не поднимая глаз, хотя было заметно, что она не стеснялась его.
– Агашка, – промолвила та.
Он провёл её в горницу, раздел и осмотрел… Все заботы и тревоги о каком-то дне, сейчас ненужном, свалились в иной мир, и он погрузился в бездумную муть…
– Иди, иди к себе! – прогнал он её, когда всё было кончено, а он почувствовал, что она не помогла, что угодил в похмелье совсем иное.
Она поднялась с постели, в тусклом свете ночника мелькнули большие белые формы, прошлёпала босыми ногами до лавки, надела рубашку и сарафан и бесшумно выскользнула из горницы.
Он остался один, и снова в его голове заползали всё те же мысли. Он встал, нашёл на столе кувшин с медовухой, который распорядился принести сюда Пахомка специально для них. Припав к нему, он глотнул, но лишку, и закашлялся… И тотчас же проснулся каморник, что спал подле его двери, охраняя, как верный пёс, его сон. Он напился, снова лёг в постель и ещё долго ворочался, глядел, как на поставце у двери блестит одиноко кувшин с медовым питием, к которому так и не притронулась Агашка… Заснул он уже под самое утро, даже не заметил, когда и заснул.
В полдень же на царском дворе поднялась суматоха и какой-то шум, вскрики…
Он выглянул в окно из терема и увидел, что во двор влетели на замордованных конях два его гонца. Они спрыгнули на землю, кинулись к крыльцу и стали торопливо подниматься вверх по лестнице.
«Да что же ещё случилось-то?!» – неприятной мыслью заскребло внутри у него; да он ждал одно, а вдруг там, эти числа, ему подсунули какую-нибудь пакость…
Через минуту в его комнату вошёл Пахомка с гонцами. Гонцы остановились у порога, а Пахомка прошёл вперёд к нему и почему-то заговорил тихо, как будто боялся, что кто-то подслушает его:
– Государь, сюда идёт полк гусар пана Будило, мозырского хорунжего[14]…
«Ах, эта манера разводить тайны там, где не нужно!» – чуть не вспылил он, хотя весть была радостной.
И тут же в горницу заскочил Меховецкий, лицо блестит, и громкий, во всё горло, вскрик чуть не оглушил Матюшку: «Будило Оська идёт! Я же говорил тебе, что он придёт и к сроку!»
«К какому ещё сроку?!» – мелькнуло удивлённо у Матюшки; он никогда не открывался перед Меховецким. Но всё это моментально вылетело у него из головы при одной только мысли, что подтвердилось последнее его предсказание… Да, те числа не обманули!..
– А-а! – протянул он равнодушно, совсем как «Немой» Алёшка, и так, что даже Меховецкий подозрительно глянул на него.
В тот день Осип Будило подошёл с полком к городу, расположился станом под ним и тотчас же явился в хоромы, чтобы представиться царю. У крыльца хором его встретил Меховецкий и проводил в горницу. Там на троне сидел царь, а подле него стояли рынды, в два ряда сидели бояре из ближней его думы.
Меховецкий ввёл в горницу хорунжего и объявил его: «Государь и великий князь Димитрий Иванович, тебе, государю, челом бьёт хорунжий войска польского, вольный человек Осип Будило!»
Будило поклонился Матюшке, подошёл к трону и коснулся губами его руки.
Матюшка посмотрел на Меховецкого, который уверенно торчал перед троном, и спросил взглядом его, мол, правильно ли я веду себя. Заметив одобрение на его лице, он подал знак ему, чтобы он сказал речь.
– Государь и царь Димитрий, – выступил вперёд и заговорил Меховецкий, обращаясь к хорунжему, – имеет великую радость от прибытия вольных гусар для помощи ему в деле освобождения его наследного трона от Шуйского, который воровством захватил его…
В тот день Матюшка задержал хорунжего у себя в хоромах. И за столом долго шла весёлая пирушка. Так что Будило уже никуда не уехал из хором, там же и уснул на лавке в горнице, куда его свели под руки царские холопы.
Два дня затем ушли на переговоры с Будило о жалованье его гусарам. И вот на третий день он опять приехал с утра в царские хоромы. В горнице у царя уже был Меховецкий и ещё какие-то русские. И там Будило снова завёл разговор об окладах. Пахомка же, когда всё это затянулось и все стали нервничать, приказал холопам подать к столу вино и медовуху. Все выпили и подобрели, беседа сразу оживилась.
В разгар застолья слегка скрипнула и приоткрылась дверь в горницу. И в щели сначала показался пробор, расчёсанный надвое и смазанный маслом. Затем показались круглые глаза, появилась вся голова подьячего. И, так застыв, она промямлила робким голосом: «Государь, из Тулы атаман пришёл… Отважный и красивый!.. Хм!» – поперхнулась она от собственной же смелости.
Будило громко хохотнул: «Хо-хо!» Взглянув же на царя, он вздохнул, повёл бровями: мол, что поделаешь, если у тебя такие трусливые холопы.
Димитрий подал знак подьячему: «Пусти! Узнаем, что принёс гонец!»
– Постой, государь! – поднялся с лавки Меховецкий. – Дай-ка я выйду к нему!
Ему почему-то стало беспокойно, с лица сползла улыбка. Не дожидаясь согласия Матюшки, он вышел из горницы, пробежал сенями, выскочил на теремное крыльцо и посмотрел вниз.
Во дворе царских хором на карауле прохаживались, как обычно, стародубские городовые стрельцы. У коновязей торчала большая группа жолнеров[15] и гусар. Они держали наготове лошадей так, что было ясно: царь принимает у себя знатных польских гостей. У самого же крыльца стояли два донских казака. По одежде и по выправке было заметно, что это не простые казаки.
«Атаманы!» – подумал Меховецкий и быстро спустился вниз. Приглядевшись к одному из них, он удивился.
– Атаман, я видел тебя где-то уже!.. А-а! Ты у Корелы ходил подручником! Так ли это? Заруцкий!
Да, это был Заруцкий, атаман донских казаков, ещё молодой, лет двадцати пяти, высокий ростом, статный и красивый, как говорил подьячий.
– Да, – ответил Заруцкий и вспомнил, что видел Меховецкого в свите Димитрия в Москве среди его польских сторонников. И он был весьма близок к царю, судя по тому, как часто мелькал подле него.
– А ну-ка, отойдём в сторонку, – оттащил Меховецкий его от крыльца, чтобы никто не слышал их. – Атаман, мы сейчас будем у царя. Так ты ничему не удивляйся. Корела говорил, малый ты сообразительный. Всё поймёшь сам.
Заруцкий молча пожал плечами: дескать, что заранее-то говорить, увидим, что к чему.
В хоромы казаки зашли вслед за Меховецким. Тот провёл их в горницу, где находилось несколько человек. Среди них Заруцкий сразу же узнал мозырского хорунжего пана Будило. Другой заметной личностью в горнице был среднего роста человек, мужиковатого вида, с мясистым носом. А на лавке, кривляясь в углу под образами, сидел горбатый человечек в пёстром шутовском наряде. Да ещё в горнице торчал невзрачного вида дьяк. Его Заруцкий видел, кажется, в Москве.
– Ваша светлость! – обратился Меховецкий к мужиковатому и почтительно наклонил голову. – От Болотникова – атаман!
Заруцкий шагнул вперёд и поклонился новому царю: «Государь, позволь передать грамоту от твоего большого воеводы Ивана Исаевича Болотникова!»
Димитрий подошёл к нему, сам взял у него грамоту и подтолкнул его к лавке: «Садись, атаман!»
Он небрежно сорвал печать и подал грамоту дьяку: «Читай!»
И Пахомка зачитал послание Болотникова: «…И молим мы, холопы твои, тебя, государь, о помощи войском наспех брату твоему, царевичу и великому князю Петру Ивановичу. А сидим в осаде уже два месяца, и голод и нужду терпим немалую во имя твоего царствования. И многие приступы врагов твоих, государь, отбивать силы на исходе…»
– Молодец, атаман! – сказал Димитрий, после того как зачитали грамоту и ещё выслушали самого Заруцкого. – На помощь Болотникову пойдём! Соберём полки и пойдём! А тебе бы поспешить на Дон. Приводить под мою руку вольных казаков: служить государю истинному, природному, за великие оклады!
* * *
Матюшка решил устроить схватку, размяться, от попоек отдохнуть, чтобы рука почувствовала вновь увесистую тяжесть клинка. Желал покрасоваться тоже он, недурно владея саблей, как он считал, и в чём его уверил Меховецкий. Тот натаскал его по этой части.
Потешный бой, для крепости руки, смутил весь царский двор. Закрыли на конюшне лошадей, иных повыводили со двора, убрали козлы, чурбаки какие-то и всякий хлам, что попадался под ноги. Телеги и повозки выкатили за ворота: расчистили площадку для сражения.
Сошлись пятеро на пятерых. Матюшка отобрал себе в напарники стрельцов, Заруцкий же своих, привычных к драке казаков.
И пошло, пошло!.. Матюшка сразу же насел на атамана: жёстко, тесно, вплотную к нему, впритык… Вот так, вот так его учил пан Меховецкий.
Тот и сейчас стоял поодаль с Будило и наблюдал, как его «выкормыш» прилаживается к клинку и ловко крутит им, разогревая руку.
«А вдруг! – тревожно стало полковнику с чего-то. – Да нет – не может быть!.. Ему ещё не время умирать! Ещё не всё исполнил он! Хм!» – ехидно ухмыльнулся он каким-то своим мыслям.
Раз, раз!.. Клинки мелькают, как злые змеи. День серым был, и небо хмурилось. Прохладный ветерок студил, не остужая, разгорячённые тела бойцов. Кругом работа мышц и напряжение, стихия, натиск… Крутил, крутил Матюшка свой клинок, чтоб сбить противника обычной неизвестностью. Он в этом, пуская тайны дымовой завесой, весьма уже поднаторел. А сам следил он, настороженно следил за каждым движением клинка Заруцкого.
А что же атаман? Казалось, тот и не сражался с ним. Клинок же сам собой играл в его руке. Она лишь подчинялась прихотям его. То тут ходил он, то исчезал куда-то с глаз. Вдруг появлялся вновь, и уже сбоку, откуда его не ожидал Матюшка, и нависал над ним, его башкой, мгновения отсчитывал… Не оставлял он ни малейшего сомнения, что было бы через мгновение. И снова он как будто робко удалялся. Он не грозил, но и не прятался он тоже.
«Раз, раз!.. Достать, достать!» – вновь запыхтел Матюшка… И обозлился он, стал мазать, от этого взбесился. Забыл он советы грубого, но преданного Меховецкого: что страсть – хреновый друг. Особенно же на бою, и, как гулящая, всегда продаст тому, кто больше даст… Промазал, ещё раз – промазал!.. «Ах! Этот, чёрт! Неуловимый, что ли!» Нос сизым стал, глаза налились кровью, и капли пота повисли на бровях… Мельком взглянул он на противника и встретил его холодный взгляд. Тот свеж был, как огурчик, как будто в бой ещё он не вступал… И кинулся он на него, и рубанул… Рубил, рубил!.. Но раз за разом рубил его клинок лишь пустоту… Вот вновь удар – клинок рассёк прозрачный воздух! Вернуться к прежнему, туда, где на него летел уже стремительно клинок, нет времени!.. Всё было б кончено, будь то в реальной драке!.. Ещё раз!.. Да нет, не может он неуязвимым быть, недосягаем!.. Не сатана же он, не дьявол, а всего-навсего какой-то атаман!.. А он, Димитрий, царь, великий князь!.. Как смеет он!..
Всё спуталось в его башке, мешало драться, и заходила рука всё чаще туда, куда не надо…
Но вот опять вопит рожок по царскому двору. И опускают противники свои клинки, расходятся усталые по сторонам, переводя дыхание. А нервы, нервы-то у всех напряжены… Гудели ноги, дрожали руки, пот застилал глаза. Кругом распаренные лица, пыхтение и вскрики. Явилась брань опять во двор, куда её вновь пригласили.
Матюшка бросил клинок в руки холопа, подошёл к Заруцкому и, хотя был здорово раздражён, дружелюбно похлопал по его плечу: «Дерёшься славно, атаман!..» Похлопал, но и почувствовал, как нерешительно всё это вышло у него, как будто он встретился с противником, не зная ничего о нём. Остался тот загадкой для него, от этого опасен был. И понял также он, что сейчас, здесь на дворе, его жизнь была в руках вот этого донского атамана. Но этого он не позволит больше никогда… Однако и не отпустит он его от себя. Всегда тот будет рядом, под рукой, ему нужны такие вот, умелые.
– Ты будешь моим ближним боярином! – твёрдо сказал он донскому атаману.
Заруцкий аккуратно оправил на себе парчовый, изысканно пошитый кафтан и поклонился ему: «Благодарю, государь, за эту милость! Рад буду служить тебе, великий князь!»
Матюшка отпустил его, кивнув небрежно головой: «Иди, атаман!»
И Заруцкий отошёл от него к своим казакам. Его приятель Бурба подал ему фляжку с квасом. Он приложился к ней, пропустил пару глотков и отдал её обратно. Подтерев усы, он через плечо глянул на Матюшку. И Матюшка непроизвольно подмигнул ему… О-о, если бы он знал, с каким бойцом полез он драться, то никогда бы не подмигнул ему игриво.
Его, Заруцкого, учил сражаться не полковник, хотя тот был неплохой боец.
5
Ерыга, ярыжка, ярыжник – пьяница, шатун, мошенник, беспутный.
6
Гамалейка – мешочек, сумка, кошелёк, обычно носимый на шее.
7
Повалуша – неотапливаемое помещение, холодная горница (на подклети) различного назначения; подклеть – нижний этаж жилой или хозяйственной постройки.
8
После смерти Лжедмитрия II в его вещах нашли Талмуд. По-видимому, он увлекался и чернокнижием.
9
Чернокнижие – знание приёмов магии, колдовства по книгам, содержащим в себе каббалистические знаки, формулы заклинаний, заговоров, магические рецепты и т. д.
10
Каббала – еврейское религиозно-мистическое учение, основанное на толковании Священного Писания – Ветхого Завета.
11
Боярский сын – представитель низшего разряда служилых «по отечеству», т. е. по происхождению, людей.
12
Польская конница была двух родов: гусарами назывались латники или позже их стали называть в России кирасирами, а легкая конница означалась под именем пятигорцев.
13
Рокош – восстание шляхты или дворянства против короля и сената. Польша была в то время так расстроена, что сами мятежи в некоторых случаях считались законными.
14
Хорунжий – знаменосец в войске.
15
Жолнер – наёмный солдат в польско-литовском войске.