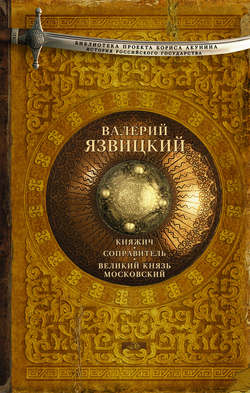Читать книгу Княжич. Соправитель. Великий князь Московский - Валерий Язвицкий - Страница 7
Книга первая
Княжич
Глава 5
Окуп
ОглавлениеГадают оба князя в плену татарском о судьбе своей, словно в лесу темном бродят. Нет им и от царевича Касима никакой помощи – сам он ничего не ведает. Вот и до Покрова уж всего пять дней осталось. Идет время, а дела к пользе их ни на черту, ни на йоту не двинулись.
Темно на душе, да и погодка хмурая. Время такое, что ни колеса, ни полоза не любит. Куда ни глянь, грязь кругом, и ступить негде. Беспутье, не дай бог какое, – только верхом и ездить, да и то трудно. Дожди то с крупой, то с мокрым снегом, мгла да туманы. От сырости да ветров кости в теле все ноют, а где там в шатрах согреешься – с дымом и тепло все из них выходит. Недовольны и татарские воины – трудно им здесь в Курмыше стоять, хотят к себе поскорей, в Казань, а царь все медлит, посла своего ждет. Бегича же нет как нет, и даже вестей о нем нет. Истомились князья, а Василий Васильевич пал духом совсем.
– Ошибся тогда Ачисан-то с делами татарскими. Старая-то голова, верно, крепче молодой шеи, – сказал он как-то Михаилу Андреевичу, – может, Шемяка-то не токмо с Бегичем, а и со всем своим войском сюда идет…
– Не дай господи, – всполошился Михаил Андреевич и с горечью добавил: – Выдаст царь-то, закует нас Шемяка в железы…
– Наказует нас Бог, – прошептал Василий Васильевич, – прогневили мы святых угодников, заступников наших.
Замолкли оба, кутаясь в бараньи тулупы от холодного ветра, который рвал дверную кошму, шумел и свистел в соседнем бору. Трещали, ломаясь, там сучья, с глухим стоном опрокидывались высокие ели и сосны на опушке, а вывороченные корни их торчали, как застывшие змеи.
С самой ночи и все утро бушевала непогода, а к полудню словно оборвался и сразу стих ветер, а сквозь темные тучи засияло солнышко, дрожа и играя на мокрых ветвях и в лужах. Повеселел вдруг день, и на сердце князей веселей стало, а когда нежданно приехал со своими нукерами царевич Касим и привез «селям» от самого царя Улу-Махмета, Василий Васильевич в радости обнял и поцеловал татарского царевича, а видя это, засмеялся и Михаил Андреевич.
– Отец, – говорил Касим по-татарски, – захотел тебя видеть. Он назвал тебя не братом, а сыном, но ты не принимай это за обиду. Такой мой совет тебе. Отец стар, зови его отцом не за старшинство по власти, а по возрасту.
– А зачем я царю? Ведь послал он Бегича к Шемяке…
– Сам знаешь, князь, – перебил царевич, – нет у нас вестей о Бегиче.
Слухи только разные, а хан Мангутек через карачиев,[47] детей Минь-Булата, свой слух до царя довел. Шемяка-де, узнав о плене твоем, бил челом в Золотой Орде брату отца, царю Кичиму, а в Литве Свидригайле, и что из Орды посол раньше Бегича в Галич приехал.
Василий Васильевич перекрестился и, обращаясь к Михаилу Андреевичу, не разумевшему по-татарски, воскликнул:
– Внял Господь Бог молитвам нашим, княже! Зовет Улу-Махмет меня. Милует Господь нас, грешных…
– Отец наш одряхлел. Недаром дядя из Орды его выгнал, – продолжал Касим по-татарски, – не может править он ни царством, ни войском, а к старости весьма жаден стал. Мангутек прельстил его твоим окупом, и сам царь теперь говорит, что убил Шемяка посла его в угоду ордынцам! Так вот, соглашайся на все, не пропусти случая. Может, Бегич и жив и скоро вернется…
Когда вышли они из шатра и садились на коней, Касим сказал великому князю вполголоса:
– Смотри не обмолвись, что про все ты знаешь. Говори только о союзе с Казанью против Золотой Орды да об окупе и кормленьях.
Вскочив на коней, поехали они по вязкой красной глине вдоль берега Курмышки, к ее устью у реки Суры, где град Курмыш стоит. Еще в досельные времена нижегородский князь из крепкого дуба сложил его здесь, меж двух рек, в защиту от набегов язычников из дикой мордвы и черемисы. Не только реки, но и болота, холмы да овраги обороняют тут крепость со всех сторон, а дальше, за лугами поемными да пашней, леса идут сплошные, дремучие. Ни прохода, ни проезда по ним нет. Жадно дышит Василий Васильевич влагой от реки и духом лесным. Осеннее солнышко хоть и не греет, а все кругом золотит и светлит, и сверху синь небесная ласково сквозь тучи проглядывает. С берез листья золотые роями летят, осинки стоят все багровые, дрожат их листья, словно кровью обрызганы, а в затихшем бору синицы кричат да сороки стрекочут.
Осень настоящая, а Василию Васильевичу словно соловьи поют. Улыбнулся он весело, сделал знак царевичу и придержал своего коня. Подъехал Касим, приветливо тоже глядит на великого князя.
– Слушай, – говорит Василий Васильевич по-татарски, – чую сердцем – буду опять на Москве. Тебя же, Касим, полюбил я и хочу к себе на службу! Братом меньшим моим ты будешь…
Засиял царевич и дрогнувшим голосом ответил:
– Помни клятву мою. Как позовешь, так и поеду. Весь я на воле твоей, и Якуб о том же челом тебе бьет…
Войдя в горницу, великий князь и царевич Касим поклонились царю до земли и сказали селям. Улу-Махмет, окруженный карачиями, биками и мурзами[48] в это время, полулежа на персидском ковре, играл в шахматы с биком Едигеем, начальником своих уланов. Он благосклонно приветствовал великого князя и, продолжая игру, знаком пригласил сесть.
– Подождем, князь, – сказал Касим по-татарски, посмотрев на шахматную доску, – они скоро кончат.
Василий Васильевич впервые видел шахматы и с любопытством разглядывал людей, колесницы, коней и слонов, белых и красных, вырезанных из кости.
– Это два войска, – пояснил ему игру царевич Касим, – с двумя царями. В игре их «шахами» зовут. Вон они оба сидят на столах своих в коронах. Один белый, другой красный, и того же цвету вои и воеводы их. Они бьются друг с другом.
Василий Васильевич увидел на доске одну белую колесницу и две красных. В каждой из них стояло по одному воину с копьем и щитом того же цвета, что и колесницы их.
– Это, – сказал Касим, – воевода в игре, они «рук»[49] называются. Всего четыре их, одного белого нет на доске, значит – убит он. Эти же конники – темники царей. Из них один красный убит.
– А это что за звери, – спросил Василий Васильевич, – горбатые, головастые, а ноги, как бревна? Вишь, клыки торчат какие, а нос кишкой повис?
– Слоны, – продолжал царевич, – боевые звери с кожей такой толстой, что ни стрелой, ни копьем не пробьешь, ни мечом не прорубишь. На спине у них башни привязаны, там стрелки сидят.
В это время Улу-Махмет передвинул свою красную колесницу и сказал громко:
– Шах!
– Это он нападенье на самого царя сделал, – пояснял Касим. – Теперь бик Едигей должен своего царя спасать. Вот он белого слона около него поставил, закрыл его от красного «рука». Только не поможет это – скоро его царю ступить будет некуда…
Улу-Махмет переставил через головы пеших воинов своего темника на красном коне и опять сказал:
– Шах!
Бик Едигей передвинул своего царя с белого четырехугольника на черный, но не отнимал руки и все думал: не лучше ли его в другое место поставить, – но, видимо, такого места не нашел и оставил там, куда передвинул. Улу-Махмет, засмеявшись и поставив своего пешего воина около белого царя, радостно воскликнул:
– Твой шах мата!
Василий Васильевич не понял его слов, и царевич наскоро шепнул ему в ухо:
– Это не татарская речь, а в игре это значит: «Твой царь погиб». Игра на этом кончается, отец обыграл бика Едигея, разбил его войско.
Великий князь слушает Касима, а сам зорко следит за Улу-Махметом, желая угадать, в каком царь духе и чего от него ждать – добра или худа. Видит он сбоку дряблые морщинистые щеки, дрожащие от смеха, и ждет, когда царь обратит к нему лицо. Вот застыло лицо Улу-Махмета и со сдвинутыми седыми бровями повернулось к московскому князю. Косые глаза его щурятся по-рысьи, как щурились и глаза сына его Мангутека при первом свиданье с Василием Васильевичем.
Помолчав, царь, сидевший на ковре, поднял руку над полом на уровень своей головы и сказал:
– Вот таким ты приходил ко мне в Золотую Орду, и я посадил тебя на московский стол еще малым ребенком. А теперь ты крепкий мужчина, моя же голова стала серебряной…
– Что ж, отец мой, – почтительно сказал по-татарски Василий Васильевич, – недаром сказано: «В серебряной голове золотые мысли…»
Улу-Махмет милостиво улыбнулся и ласково молвил:
– Люблю я слушать, когда хорошо говорят по-татарски…
Он сделал знак, и слуги стали приносить угощенья на серебряных блюдах и золоченые кувшины с кумысом и красным вином.
Получив от царя жирный кусок баранины и съев его, как требовала вежливость при такой чести, Василий Васильевич после здравицы за счастье царя и царевичей сказал:
– Отец мой, верю я, Бог поможет мне. Я дам тебе окуп, какой ты захочешь, а сыновьям твоим, моим братьям, уделы, и бикам твоим и мурзам – воеводства и кормленья…
– Сказано, – важно прервал его Улу-Махмет, – «Солнце течет к назначенному месту: таково повеление сильного, знающего». Думали мы раньше иначе, но Аллах все по воле Своей изменил. Ныне согласны мы на твой окуп.
– Буду тебе, отец, я верным пособником в борьбе с моим и твоим врагом в Золотой Орде. Не ищи себе многих друзей, ибо сказано: «Один верный спутник дороже тысячи неверных»…
– Пусть будет так, великий царь, – сказал седобородый сеид[50] в зеленой чалме и, коснувшись бороды своей, прочел из Корана на память: «Аллах поможет тому, кто полагает на Него упование; Аллах ведет Свои определения к доброму концу».
Понял тут Василий Васильевич, что у царя собрался весь его совет, что все уже о выкупе решено у татар, и стал ждать, что еще скажет хан Мангутек, соправитель отца своего. Молодой хан сидел молча, пока не сказали своего мнения все карачии.
– Царь наш, да живет он сто двадцать лет, и советники его, – начал хан, – решили все мудро и справедливо. Я только добавлю, что московский князь богат и силен, за него стоят все города московские и все духовенство Руси. С Москвой будет у нас ежегодный большой торг у Казани на речке Булаке. При князе Василии не пойдут московские товары к Золотой Орде. От других же князей нам не будет такой выгоды…
Мангутек оборвал свою речь, но все бики и мурзы заговорили разом, загудели снова со всех сторон, как пчелы в улье. Торговля – главная статья для Казани. Умеют торговать татары: русские меха, хлеб, скот, мед и воск скупают в великом количестве, а сами продают ковры, обувь, камни самоцветные, ткани персидские и китайские, перец, корицу, изюм и всякие сушеные и вяленые плоды.
Василий Васильевич радостно слушал поднявшийся шум и гомон. Понял он, что сговора у царя с Шемякой быть не может, и вздохнул всей грудью, благодаря Бога за милость. Вдруг все смолкли, и Улу-Махмет сказал громко и повелительно:
– Хан Мангутек, завтра с советниками моими будь здесь после зухра, и пусть будет поп христианский из города – в Курмыше церковь есть. Утвердим мы крестным целованием князя московского в том, что указанный ему окуп он даст, а царевичам даст вотчины, биков и мурз на службу возьмет, и мир у Москвы с Казанью будет крепкий…
Торопился князь с отъездом в Москву, все возвращенья Бегича боится, хотя и утвержден им договор крестным целованием, а царь дал ему клятву и ярлык со своей алой тамгой[51] и записи все составлены, где подробно все перечислено, что дает Василий Васильевич за свой выкуп.
– Медлят татары-то, – твердит постоянно в беспокойстве и Михаил Андреевич, – как бы что не передумали!
Но Василий Васильевич, хотя и сам терпенья не имеет, верит Касиму – обманывать татарам нет выгоды, да и глаза-то у биков на московское добро сильно разгорелись. Губа не дура у них.
– Раздразнил яз татар, – ободряет Василий Васильевич с довольной усмешкой князя Михаила Андреевича, – забыли мурзы и бики про Шемяку, одна Москва на уме, сами торопятся, да, видать, сговоры у них есть какие-то тайные и с Улу-Махметом и с Мангутеком. Медлит царь-то токмо на царство свое возвращаться. Говорил мне Касим, что боится Улу-Махмет Казани, своих же карачиев да биков боится, а пуще всего Мангутека…
– Что ж ты, государь, в окуп даешь неверным? – спросил Михаил Андреевич.
Великий князь запечалился и, помедлив, ответил:
– Много, княже, ох, много! Ну, да Бог не выдаст, свинья не съест. А может, и не дадим обещанного-то, коли у татар распря начнется…
Василий Васильевич замолчал, но Михаил Андреевич выжидательно глядел ему в глаза. Хотел знать он точно и подробно – на всех ведь выкуп этот падет. Удельным тоже на плечи ляжет.
– Какой же окуп царь-то берет?
Великий князь нахмурился и заговорил строго и сурово:
– Посулил яз на себя, и на тобя, и на прочих, в полон взятых, многая от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов. Полтриста тысяч рублев будет, а то и боле…
Михаил Андреевич побледнел и, заикаясь от горести, воскликнул:
– Да ведь татары-то нас на щипок подберут! Оставят от золотца токмо пуговку оловца!.. Семерых в один кафтан согонят!
Великий князь поморщился и крикнул:
– Не голоси бабой! А не хошь – у татар оставлю, сам торгуйся с ними!
Князь Михаил покорился и, опустив голову, печально промолвил:
– А что яз сам? Алтыном воюют, без алтына горюют. Справил бы однорядку с корольки,[52] да животики коротки…
– Так уж и молчи лучше, – сердито сказал Василий Васильевич, но потом добавил спокойнее: – Бики и мурзы с нами поедут, царевичей двое, а с ними пятьсот конников и слуги.
– Ох, зря ты без опасу столько татар на Москву ведешь. От поганых, опричь худого, ничего не жди.
– Ну, а мне боле зла от христианства, нежели от басурманства! – закричал Василий Васильевич. – Вкруг меня сколь переметчиков-то! И Шемяка, и брат твой Иван, и бояре Добрынские почти все, и Бунка, и Старковы, да из купцов и чернецов немало! А сколько их отъехало и к брату твоему в Можайск, и в Галич к Шемяке, а многие на Москве затаились: часу своего ждут, иуды! Из князей яз токмо шурину Василью Ярославичу да тобе верю, на родных сестрах вить с тобой мы оженены. Мыслей своих от тобя ни в чем не таю. И знай, не об одной своей пользе стараюсь, обо всем христианстве гребта моя…
– Бог нас простит, – тихо промолвил Михаил Андреевич, – верю тобе, брат мой. Скорей бы токмо домой вернуться привелось.
– А приведется, – подхватил горячо Василий Васильевич, – все обернем мы собе на пользу. Уразумей, княже, что и татары не столь Москву разорят, как свои вороги. Простят мне христиане мой окуп великий и все вины мои и тяготы, ибо Димитрий-то Шемяка горше татар им станет.
Склоняется солнце к закату, светлым янтарем полнеба покрыло, золотит обрывистые берега полноводной Суры и золотые дорожки стелет в потемневшем лесу, пробиваясь лучами сквозь бурелом и просеки. Непогоды как не было. Воздух не дрогнет, словно хрустальный. Ясно да тихо, хоть мак сей. Будто и не осень совсем. Если б не листья желтые, и не поверить, что нынче третий день после Покрова, а не бабье лето погожее. Едет шагом Василий Васильевич на коне своем вдоль берега в доспехах и с мечом у пояса. Весел и радостен – снова великий князь он московский! Шутит, смеется, громко перекликаясь то с Касимом-царевичем, то с князем верейским Михаилом Андреевичем, то с боярами своими и воеводами. Все они вместе с ним в полоне были. Тут же и бики и мурзы казанские едут с ним рядом, а стража у них общая – из татарских и русских конников.
Впереди их дозор рысит – по дороге к Новгороду Нижнему старому путь разведывает, а сзади – обозы скрипят. Тянутся там со всяким добром на арбах, а в шатрах и в кибитках семьи и слуги татарские. Следом за ними гонят рабы стадо баранов, а огромные мохнатые нары волокут телеги тяжелые с котлами медными, с мукой и просом для воинов и слуг. В самом же конце опять сторожевой отряд едет из русских и татарских конников.
– Слушай, Михайла Андреич, – радостно крикнул великий князь, – надо бы нам кого в Москву вестью отпустить, семейство мое да и твое обрадовать!..
– Что ж, государь, – весело отозвался князь Михаил, – отпусти молодого Плещеева Михайлу, сына боярина Андрея Михайлыча.
– И то, княже! Хитер и ловок Михайла-то. Дам ему двадцать конников добрых – они нас с обозами-то недели на две вперед обскачут. Мы же вот два дни от Курмыша едем, а до Волги еще и не доехали.
– Воевод и бояр своих верных упредишь, – заметил князь Михаил Андреевич, – чай, Шемяка ныне там наветы да смуты сеет…
– Верно, – подхватил Василий Васильевич, – а Плещеев-то нам все его лжи и ласкательства борзо порушит!
Василий Васильевич нахмурился, но, опять повеселев, повелел позвать к себе из передового отряда молодого Плещеева. Князь Михаил Андреевич, приблизясь к страже, послал конника. Тот, лихо гикнув, помчался вперед.
– Что, государь, случилось? – подъехав к великому князю, тревожно спросил по-татарски царевич Касим. – Может, мордва или черемиса в засаде сидит? Прикажи, я поскачу вперед со своими нукерами…
Василий Васильевич весело рассмеялся.
– Нет, царевич, никакого зла в лесу я не чаю, – сказал он с ласковой шуткой, – опричь того, что завтра там беситься леший почнет…
Касим с недоуменьем глянул на великого князя, а тот рассмеялся еще веселей и добавил:
– Завтра, в четвертый день октября, святого Ерофея у нас празднуют, а наши православные весь этот день в лес не ходят, говорят – леший бесится, со злости и вред причинить может…
– А зачем от тебя конник к яртаулу поскакал?
– Хочу молодого Плещеева с сеунчем в Москву послать. А насчет мордвы да черемисы ты верно сказал. Надо ухо востро держать…
Они поехали рядом, дружно беседуя, а вскоре и Плещеев примчал. Станом и лицом красивый, Михаил на всем скаку ловко сделал крутой поворот к великому князю.
– Изволил звать меня, государь? – спросил он, осаживая коня.
Царевичу Касиму понравилась ездовая выправка Плещеева, и, причмокнув губами, сказал он Василию Васильевичу:
– Якши! Бик якши![53]
Великий князь ответил ему улыбкой, но, обратившись к Михаилу, сказал строго:
– Отбери собе двадцать лучших конников, каких сам знаешь. Возьми что надо в дорогу. Поедешь в Москву с вестью о нашем освобождении. Разумей то, что нам козни Шемякины порушить надо.
– Разумею, государь. Оповещу все христианство.
– Первую весть моему семейству, княгиням моим и сыновьям, потом всем прочим, как установлено. Завтра выезжай на рассвете. Да благословит тобя Господь Бог и помогут святые угодники…
Ближе к Новгороду Нижнему к старому, где Ока шире становится, бежит гребная ладейка о две пары весел и под парусом. Спешит из Мурома, ходко идет вниз по течению к матушке-Волге, да и ветер попутный. Над ладьей же у кормы – навесец тесовый, и сидят там на кошме Бегич да Федор Александрович Дубенский, едят снеди дорожные, а рядом в кошелке куры кудахчут, своего череду ждут. На шеях у них камешки разноцветные нитками привязаны – «куриные боги», от падежа они сохраняют.
Смеется Бегич и говорит в шутку:
– От падежа их боги спасают – для ножа берегут!
Но Федор Александрович хмурится. Думы у него о князе Оболенском.
Хитер воевода Василий Иванович и великому князю предан. Разбросал он везде заставы, и конники его по всем дорогам рыскают. Беспокоится Федор Александрович и зорко по берегам смотрит, где дороги проезжие, а за ними стенами стоят на обрывах крутых огромные сосны, ели, дубы и березы.
– Скорей бы Дудин монастырь проехать, – говорит он Бегичу, – там и до Нижнего недалеко.
– Должны быть к вечеру.
Впереди на закрае реки лодка показалась. Когда поровнялись, подняли весла, Федор Александрович крикнул:
– Далеко ль до Дудина?
– В монастырь к ночи будете, на жилых еще приплывете. А чьи вы?
– Княжие. А у вас что тут деется? – сурово спросил Дубенский.
– Что наяву деется, – со смехом ответили с лодки, берясь за весла, – то и во сне грезится…
Федор Александрович осерчал.
– Ты им к делу, а они про козу белу! – крикнул он, но лодки уж далеко разминулись.
Не понравилась такая встреча Дубенскому.
– Лукавы люди, вельми увертливы, – сказал он Бегичу, – может, и лазутчики воеводы Оболенского.
Более часа они проплыли молча, когда вдруг Федор Александрович увидел, как конники с лошадьми на поводу, праздными и со вьюками, к самой реке подскакали, руками им машут и в голос кричат.
– Фе-о-до-ор Ли-икса-андрыч! – услышал он голос Плишки Образцова, что с их конями берегом ехал. – Сто-ой! Ве-есте-ей до-обыли!..
Переглянулся Дубенский с Бегичем, без слов друг друга поняли, и велел Федор скорей выгребать к берегу и парус свернуть. Вышел с татарским послом он на каменистый пологий берег, а ноги и руки у него от тревоги словно размякли.
– Какие вести? – глухо спросил Федор Александрович, а сам глядит, как у Плишки губы подрагивают.
– Худые вести! – громко и торопливо заговорил Образцов. – Седни о полудни встрел нас боярин Михайла Плещеев с конниками и в доспехах. Было то противу Иванова, села Киселева. На Покров, говорит, пожаловали князя великого царь Улу-Махмет и сын его Мангутек и, взявши окуп, отпустили на великое княжение со всем полоном, а в подмогу, говорит, против Шемяки свои полки дали с Касимом-царевичем…
– Врешь ты! – крикнул Бегич. – Не может то быти…
– Михайла Плещеев с сеунчем отпущен ко княгиням, – добавил Образцов, – я Плещеева-то давно знаю. В Москве, когда с нашим князем были, видал я там Плещеевых-то, и старого и молодого.
– Верно, – сказал Бегичу Дубенский, – ведомо и нам и тобе, что Плещеевы в полоне были вместе с великим князем.
– Сказывал он, – продолжал Плишка Образцов, – что князь Василий-то с царевичем в Нижнем Новегороде теперь, а то, может, и вдоль Оки уж идут…
Молчит татарин, позеленел от злости, и щеки ему дергает. Посмотрел на него Федор Александрович и сам ему с досадой молвил:
– А тобе что бояться? Царевич Касим тобя примет, не даст в обиду…
– Царевич Касим! – вырвалось у Бегича. – Хуже Мангутека он. Тот против отца, а Касим против всех и татар на русских сменить может!..
– Ты – не знаю как, – мрачно перебил его Федор Александрович, – а яз назад в Муром, потом в Галич побегу через Суждаль или Кострому, как уж Бог приведет.
– Мне деваться некуда, – тихо сказал Бегич, – с тобой поеду. Мне токмо от Костромы путь будет: Волгой я прямо в Казань спущусь…
Пошли, побежали по всем городам и селам слухи: великий князь московский из плена отпущен, с войском идет в свою вотчину и дедину. Покатилась весть о том и вверх по Волге, дошла и до Костромы и до Галича.
Испугался Шемяка, побежал в Углич, ближе к великому князю тверскому Борису Александровичу. Людям же Московской земли от того радость из радостей. Со звоном церковным встречают везде Василия Васильевича, молебны поют, а бояре, воеводы и дети боярские с воинами своими и слугами отовсюду спешат к войску княжому присоединиться.
В Муром, будучи в разъезде окружном, как раз в ту пору для владычного суда прибыл Иона, владыка рязанский и муромский. Встретил он князя московского крестным ходом ото всех церквей, и Василий Васильевич остался дня на два в граде этом. Вспомнил он слова отца Иоиля и захотел с владыкой беседу иметь, благословенье принять от него. К тому же устал великий князь и решил отдохнуть от дороги у купца Шубина, у Сергея Петровича, да отца Ферапонта послушать – хорошо дьякон стихиры из псалмов Давыдовых с запевом поет.
Мог бы великий князь у своего наместника муромского остановиться, да расположения у него не было к этому, отдохнуть хотел от ратных и государевых дел.
– У наместника-то, – сказал он Михаилу Андреевичу, – дел не миновать, а у купца от всякой гребты схорониться можно.
Шубин встретил князей с великой честью и радостью и тотчас, чтобы князю угодное сотворить, послал холопа своего за отцом Иоилем и отцом Ферапонтом, а про гонца и забыл среди хлопот, да дворецкий в ухо шепнул ему вовремя.
– Княже и господине мой, прости, что запамятовал, – сказал, кланяясь низко, Сергей Петрович, – с утра еще ждет у меня конник от воеводы твоего князя Оболенского, Василья Иваныча. Князь-то под Муромом тут стан свой раскинул. Повидать тобя хочет, когда ты укажешь…
Поморщился Василий Васильевич, но, вспомнив услуги своего знатного и искуснейшего воеводы, живо сказал:
– Проси на обед его сегодня же, а стол надо роскошен и обилен нарядить. Позвать надо и владыку. Пусть отец Иоиль поедет звать его, и ты, Михайла Андреич, поезжай с попиком-то. Почет оказать надо владыке. Ты же, Петрович, узнай от отца Иоиля, что вкушает святитель, дабы в огрешку и срам нам не впасть. Для воеводы ж фряжеского вина добудь – любит старик духовитое вино от гроздей виноградных…
К великому князю маленький попик явился один и, благословив князя и поздравив с освобождением, поспешил тут же объяснить ему, почему нету с ним отца Ферапонта.
– Не сетуй, княже, – говорил он ласково, – негоже нам, не подобает на сей раз за твоим столом беседу вести, а отец-то диакон и совсем не к месту, может и не умное что молвить. Тобе ж, княже, со владыкой и воеводой совет доржать…
Василий Васильевич приветливо улыбнулся, и светлые глаза его засияли теплом и добротой. Нравился ему маленький попик, и хотелось говорить с ним не о больших делах земных, а о малых, но душевных.
– А какова семья твоя, отец Иоиль? – спросил великий князь.
Попик потупил свою белую пушистую головку и грустно молвил:
– Един аз, княже, яко перст. Ни детей, ни родни нету. Да и жену свою лет десять, как схоронил…
Василий Васильевич помолчал немного. Хотел он от сердца сказать что-нибудь отцу Иоилю, но спросил совсем другое.
– Как же ты, вдовой и сана иноческого не приявший, – спросил он тихо, – служение и требы совершать можешь?
Попик печально улыбнулся, посмотрел на князя и так же, как тот, тихо ответил:
– Епитрахильну грамоту[54] на то получил от владыки рязанского, дозволение его рукописное.
Но вот враз отряхнул с себя печаль отец Иоиль и заговорил с умилением об освобождении Василия Васильевича от полона:
– Вымолили мы тя у Господа! От Плещеева мы слышали – Улу-Махмет мысли свои переменил для всех нечаянно, а в тот день, когда он отпустил тобя, в Москве было трясение земли. Божье в том произволение. Бог за тобя заступился, а крамолу в Москве кующим в тот же день знамение дал в предупрежденье…
Высокий и дородный князь Василий Оболенский сидел за столом, попивая по глоточку любимое заморское вино, глядел на великого князя веселыми, смеющимися глазами и беседовал с ним зычным густым голосом, поглаживая длинную и пышную, словно бобровую, бороду с проседью. Смелое и открытое лицо его было некрасиво, но весьма привлекательно, хотя черты его изобличали суровость и властность.
– Государь мой, – говорил воевода, – еще до того, как Плещеев пригнал, стража моя схватила Бегича. Был с ним дьяк Федор Дубенский, да ушел. Бегича одного оставил. Оковал яз татарина ране того в железы, узнал от него о всех умыслах Шемякиных. Отпустил он Бегича к царю со всем лихом на тобя.
– Ведомо сие мне, – заметил Василий Васильевич, – не чаял яз тогда, что Господь молитвы наши услышит.
– Вот, – продолжал Оболенский, – яз и доржал в мыслях: Плещеева не в Переяславль посылать с вестью, а в Москву, ко княгиням же послал своих конников, ждать им тобя указал в Переяславле, дабы из Ростова они ране времени навстречу тобе не отъехали…
– Добре, добре, княже, – согласился Василий Васильевич, – туда яз с малым войском пойду и сам в Москву привезу семейство…
– Поставлены мной, государь, заставы и дозоры в Волоке Ламском и Димитрове, чтобы Москву от Твери закрыть, а еще боле того воев, пеших и конных, собрал яз против Углича. Переяславль надобно от Шемяки оградить, дабы нечаянно зла от него какого не было…
Встал Василий Васильевич, обнял и облобызал воеводу.
– Спаси тобя Бог, Василь Иваныч, – сказал он, – спас ты нас от царевича Мустафы у речки Листани, спасешь и от Шемяки!..
Взглянув в окно, великий князь подошел ближе и увидел уличку небольшую, всю, как ковром, застланную желтыми и багрянами листьями ближних садов. Народ у заборов по краям улички стоит без шапок. Вгляделся великий князь, прикрывшись ладонью от солнышка, и видит: въезжает в уличку на санях[55] своих по листьям цветным, словно в вербное воскресенье, сам владыка Иона. Впереди саней идет кологрив у лошади, а перед лошадью служка несет посох святительский. Владыка, сидя в санях, благословляет народ на обе стороны. За санями попик, отец Иоиль, а за ним на коне и в доспехах князь Михаил Андреевич.
– Владыка едет, – сказал Василий Васильевич и вместе с воеводой и хозяином пошел встречать почетного гостя.
Выйдя из саней, под руки с отцом Иоилем и Шубиным, владыка поднялся на красное крыльцо и благословил здесь ставших на колени великого князя и князя Оболенского. Потом, оборотясь, еще раз благословил весь народ.
В конце трапезы великий князь сделал знак, чтобы оставили его одного с владыкой Ионой. Когда все вышли, Василий Васильевич сказал:
– Благоволи, отец мой духовный, совет свой мне дать. Как быть мне среди зол, смуты и безрядья? Окуп яз дал тяжкий, татар привел много…
Князь посмотрел на владыку, но величавый, седовласый старик молчал, сдвинув густые черные брови, и остро смотрел в лицо князя.
– Может, и яз виноват в чем, – начал Василий Васильевич, – да на то воля Божия; сказано: «Ни един волос не спадет с главы без воли Божией…»
– В ересь латыньскую впадаешь, – сурово прервал его владыка. – Верно, все от Бога, все по воле Его деется, но уразуметь надо волю Божью и самому творить жизнь свою по ней, и будет тобе счастье на земле и в жизни будущей блаженство вечное…
– Яз не о душе своей говорю, владыко, а о государствовании и ратях…
– Наипаче того, – возвысил голос владыка, – в разумении государствования нужно творить дела по смыслу, ибо Бог наш есть разум и смысл мира, а нам подобает жить по воле Божией и творить дела вольно, по смыслу, воле Божией согласно. Смотри, как трудно было отцу твоему Василию Димитричу, а, поняв волю Божию о том, что нужно быти князю московскому единодержавным, он боле всех преуспел. И благословил Бог труды его и дал ему и Муром, и Мещеру, и Новгород Нижний, и Городец, и Тарусу, и Боровск, и Вологду. Тоже и матерь твоя, княгиня Софья Витовтовна, деяла. То же деет тобе теперь и матерь твоя духовная, Церковь православная…
Владыка смолк, а Василий Васильевич, потупив лицо, думал о словах его, но не все в глубине их постигал.
– Ну а как с Шемякой мне быть? – спросил он. – Измены много он деял и зло на меня мыслит.
Владыка сурово нахмурился.
– Шемяку хоть убей, а приведи в полную покорность. Не должно быть на Руси государя, кроме князя единодержавного московского. Сорные травы дергают и в огонь бросают. – Владыка помолчал и добавил: – Благо вы сотворили два лета назад – избрали меня митрополитом московским, да патриарх не уразумел воли Божией, утвердил Герасима, еже по воле Господа сожжен Свидригайлом литовским.
Василий Васильевич не знал, что сказать. Долго молчал и владыка, что-то обдумывая. Потом встал Иона, посмотрел ласково на князя и молвил:
– Скажу тобе, княже, проще и ясней. Единодержавным надлежит тобе быть. В том воля Божья, как открыл мне Господь. Сему следуй, сокрушай врагов своих беспощадно, а Церковь православная – твой покров, аз же – советник твой и доброхот. Матерь свою слушай – она к государствованию Богом сподоблена, да помни, что отец твой деял. По отцу, по путям его следуй… – Он благословил князя, ставшего на колени, и, подымая его, поцеловал в лоб. – И в окупе Церковь тобе поможет, а наиглавно Строгановы, гости богатые, – вел аз с ними беседу. Церковь же и Шемяку, как главу змия, сотрет, а татар ты не бойся. Божию милостию они сами ся сокрушат.
Радостно поднялся с колен великий князь и воскликнул:
– Как укреплюсь на Москве, добью челом у патриарха, дабы утвердил тобя, нареченника нашего, митрополитом всея Руси!
Провожая владыку к саням, Василий Васильевич выбрал время и, склонясь к нему, попросил виновато, как малый ребенок:
– Прости, отец мой, слабость мою: переведи ко мне на Москву диакона Ферапонта, велигласен вельми…
Владыка улыбнулся и сказал весело:
– Ужо благословлю к тобе диакона-то.
47
Карачии – самые знатные и влиятельные из татарских князей Казанского царства.
48
Бики – князья, мурзы – знатные сановники и богачи-купцы.
49
Рук – шахматная фигура, изображала воина на боевой колеснице, теперь называется турой.
50
Сеиды считаются потомками Пророка, во всех мусульманских странах принадлежат к высшей духовной знати и пользуются большим почетом.
51
Тамга – знак, печать, клеймо.
52
Однорядка – мужская верхняя одежда, однобортная; корольки – бусы или пуговицы из кораллов, самоцветов или из золотых и серебряных шариков.
53
Хорошо! Очень хорошо!
54
Епитрахильная грамота – письменное дозволенье вдовому священнику служить и совершать требы.
55
Высшее духовенство круглый год ездило на санях. (Примеч. авт.)