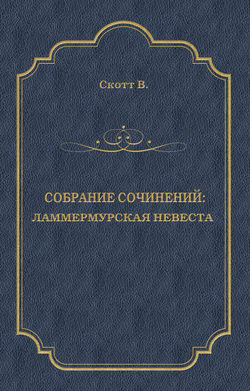Читать книгу Ламмермурская невеста - Вальтер Скотт - Страница 8
Глава VII
ОглавлениеНу, Билли Бьюик, нам, пожалуй,
Добром не разойтись;
И коль ты вправду храбрый малый,
Со мной сейчас сразись.
Старинная баллада
Увидав, в каком состоянии находится его запасная лошадь, Рэвенсвуд сел на иноходца, на котором приехал, и, чтобы не загнать его окончательно, пустил шагом по направлению к старой башне «Волчья скала». Внезапно он услышал за собой конский топот и, оглянувшись, увидел, что за ним гонится Бакло, немного замешкавшийся при выезде из трактира, ибо слишком велико было искушение подробно объяснить конюху, как лечить хромую лошадь; однако он наверстал потерянное время, пустив коня вскачь, и настиг Рэвенсвуда в том самом месте, где дорога проходила по вересковой пустоши.
– Остановитесь, сэр! – крикнул Бакло. – Я не какой-нибудь политический агент вроде капитана Крайгенгельта, который так дорожит своей жизнью, что боится рисковать ею ради чести. Я Фрэнк Хейстон из Бакло. Всякий, кто нанесет мне оскорбление действием или словом, жестом или взглядом, должен дать мне удовлетворение.
– Отлично, мистер Хейстон из Бакло, – ответил Рэвенсвуд очень спокойным и равнодушным тоном, – но я не имел с вами ссоры и не желаю ее иметь… Наши дороги, не только теперь, но и вообще, лежат в разных направлениях, и я не вижу причин для столкновений.
– Не видите? – запальчиво воскликнул Бакло. – Зато я вижу, черт возьми: вы назвали нас интриганами и авантюристами.
– Выражайтесь точнее, мистер Бакло: эти слова относились только к вашему собутыльнику, и согласитесь, что он их заслуживает.
– Ну и что же, сэр? Он находился в моем обществе, а никто не смеет – прав он или не прав – оскорблять моего приятеля при мне.
– В таком случае, мистер Хейстон, – возразил Рэвенсвуд с прежним хладнокровием, – вам следует быть строже в выборе приятелей; боюсь, что в роли их заступника вы не оберетесь хлопот. Послушайтесь доброго совета: поезжайте-ка домой да выспитесь хорошенько. Завтра вы посмотрите на это дело спокойнее.
– Ну нет, сэр, вы не за того меня принимаете. От меня вы не отделаетесь вашим надменным тоном и мудрыми советами. Ко всему прочему, вы назвали меня шалым сорванцом и, если хотите кончить дело миром, извольте взять свои слова назад.
– Говоря по чести, вряд ли я это сделаю, если вы не измените своего поведения и не покажете мне, что я ошибался.
– Ах так, сэр! – вскипел Бакло. – Весьма сожалею, но, при всем моем уважении к вам, я требую, чтобы вы либо немедленно извинились передо мной за ваши дерзости и взяли их назад, либо назначайте время и место.
– В этом нет необходимости, – ответил Рэвенсвуд. – Я сделал все от меня зависящее, чтобы избежать ссоры, но если вы настаиваете, то это поле не хуже любого другого.
– Так долой с лошади и обнажайте шпагу! – воскликнул Бакло, первый подавая тому пример. – Я всегда думал и говорил, что вы молодец, и мне не хотелось бы менять свое мнение.
– Я не собираюсь давать вам повод к этому, сэр, – ответил Рэвенсвуд, соскакивая с лошади и принимая оборонительное положение.
Шпаги тотчас скрестились, и поединок начался. Бакло, заядлый дуэлянт, владевший шпагой с удивительной ловкостью и проворством, повел бой с большим жаром. Но на этот раз его искусство ему не помогло: раздраженный холодным и презрительным обращением Рэвенсвуда, в особенности тем, что тот не сразу принял его вызов, он, не умея сдержать нетерпение, бросился на противника с неосмотрительной горячностью. Рэвенсвуд, не менее искусно владевший шпагой, но обладавший большей выдержкой, только защищался и даже не пожелал воспользоваться несколькими промахами не в меру горячившегося врага. Наконец Бакло сделал отчаянный выпад, но, вместо того чтобы поразить Рэвенсвуда, поскользнулся и упал на траву.
– Дарю вам жизнь, сэр, – сказал Рэвенсвуд, – постарайтесь исправиться.
– Боюсь, ничего путного из меня уже не получится, – ответил Бакло, медленно поднимаясь и беря шпагу: он был гораздо меньше расстроен исходом поединка, чем можно было бы ожидать при неуравновешенности его нрава. – Благодарю вас за великодушие. Вот вам моя рука: я нисколько не сержусь на вас за свою неудачу и ваше искусство.
Рэвенсвуд пристально посмотрел на него и, протянув руку, сказал:
– Вы благородный человек, Бакло. Я виноват перед вами и чистосердечно прошу прощения за необдуманные и обидные слова; сознаюсь, они несправедливы.
– Правда? – обрадовался Бакло, и лицо его тотчас приняло свойственное ему беспечно-нагловатое выражение. – Вот уж чего я меньше всего ожидал! Говорят, вы неохотно отказываетесь от своих слов и убеждений.
– Я никогда не отказываюсь от своих слов, если говорю обдуманно.
– Значит, вы благоразумнее меня: я всегда сначала дерусь, а потом уже объясняюсь. Если противник убит, то все счеты кончены; если же нет, то мир всего легче заключить после войны. Но что надо этому крикуну? – прибавил Бакло, указывая на мальчика верхом на осле. – Жаль, что он не прибыл сюда несколькими минутами раньше. Впрочем, мы бы все равно кончили так или иначе; и, право, я вполне доволен исходом дела.
Тем временем мальчик, ударами палки заставлявший осла нестись во всю прыть, приблизился к ним и, подобно одному из героев Оссиана{51}, принялся возглашать новости еще издали.
– Джентльмены, джентльмены! – кричал он. – Спасайтесь! Хозяйка послала сказать вам, что в гостинице солдаты. Они схватили капитана Крайгенгельта и ищут мистера Бакло. Уезжайте отсюда, да поскорее!
– Клянусь честью, ты прав, дружище, – сказал Бакло. – Вот тебе шестипенсовик за предупреждение. Я дал бы вдвое тому, кто указал бы, куда мне ехать.
– Пожалуйста, Бакло, – отозвался Рэвенсвуд, – поедем ко мне в «Волчью скалу»; в моей старой башне найдутся такие уголки, где вас не отыщет и тысяча солдат.
– Это может навлечь на вас беду, Рэвенсвуд. Если вы еще не спутались с якобитами, то не к чему мне втягивать вас в такое дело.
– Пустое, мне нечего бояться.
– В таком случае я с радостью поеду с вами; по правде говоря, я не знаю, куда Крайгенгельт собирался отвести нас, а если его схватили, он не преминет рассказать властям всю правду обо мне да сочинит тысячу небылиц о вас, лишь бы самому спастись от петли.
Молодые люди тотчас сели на коней и, свернув с проезжей дороги, поскакали пустынным вересковым полем, выбирая уединенные тропинки, которые им, как охотникам, были хорошо известны, но совершенно неведомы другим. Они долго ехали молча, двигаясь со всей быстротой, на какую был способен усталый иноходец Рэвенсвуда; наконец совершенно стемнело, и они пустили лошадей шагом, отчасти потому, что с трудом различали дорогу, отчасти же потому, что считали себя уже вне опасности.
– Ну, кажется, можно чуть отпустить поводья, – сказал Бакло, – и, если позволите, я бы хотел задать вам один вопрос.
– Сделайте одолжение, – ответил Рэвенсвуд. – Но прошу не обижаться, если я не сочту нужным на него ответить.
– Пожалуйста, – возразил его недавний противник. – Просто я хотел спросить, какого дьявола вы, человек с такой хорошей репутацией, решили связаться с таким мошенником, как Крайгенгельт, и с таким сорвиголовой, каким слывет Бакло.
– Очень просто: я был в отчаянном положении и искал себе в товарищи отчаянных людей.
– Так почему же вы вдруг ни с того ни с сего порвали с нами? – продолжал Бакло.
– Потому что изменил свои планы, – ответил Рэвенсвуд, – и отказался, во всяком случае на время, от того, что задумал. Вы видите, я честно и откровенно отвечаю на ваши вопросы. Ответьте же теперь на мой: что заставляет вас водить дружбу с Крайгенгельтом, человеком настолько ниже вас как по рождению, так и по своим понятиям?
– По правде говоря, только то, что я дурак и промотал свое состояние. Моя двоюродная бабка, леди Гернингтон, решила, по-видимому, жить второй век. Единственная моя надежда – это перемена правительства. С Крайги я познакомился за картами. Он сразу же смекнул, в каком я положении, – дьявол, он всегда тут как тут, – наговорил с три короба о своих полномочиях из Версаля и о связях в Сен-Жермене, пообещал выхлопотать мне капитанский чин в Париже, а я, такой олух, попался на удочку. Уверен, что теперь он уже успел понасказать обо мне властям немало хорошеньких историй. Вот до чего довели меня вино, карты, женщины, петушиные бои, борзые и лошади.
– Да, Бакло, – ответил Рэвенсвуд, – вы вскормили на своей груди множество гадюк, которые теперь вас же терзают.
– Что правда, то правда; но, не во гнев вам будь сказано, вы тоже пригрели на своей груди огромного гада, который пожрал всех прочих; он наверняка проглотит и вас, не хуже чем мои шесть гадюк прикончат все, что еще осталось у бедного Бакло, хотя мой конь да я сам – вот все, что у меня есть.
– Я не могу быть на вас в обиде за ваши слова – я первый подал вам пример, – ответил Рэвенсвуд, – но, говоря без метафор, в какой чудовищной страсти вы меня обвиняете?
– В жажде мести, сэр, в жажде мести. А эта страсть, которая не менее к лицу джентльмену, чем страсть к вину, веселым пирушкам и всему такому прочему, тоже недостойна христианина, но не в пример кровавее. Куда лучше сломать ограду, выслеживая лань или девчонку, чем застрелить старика.
– Неправда! – воскликнул Рэвенсвуд. – У меня никогда не было подобного намерения, клянусь честью! Я хотел только, прежде чем покинуть отчизну, встретиться наедине с гонителем моего рода, чтобы бросить ему в лицо обвинение в произволе и беззаконии. Я нарисовал бы ему такую картину несправедливости, что его душа содрогнулась бы от ужаса.
– Возможно, – согласился Бакло. – Но старик тут же взял бы вас за шиворот и позвал бы на помощь слуг, и тогда, надо полагать, вы в свою очередь взяли бы и вытрясли из него эту самую душу. Да одного вашего вида вполне достаточно, чтобы запугать его до смерти.
– Не забывайте о тяжести его вины! Не забывайте, что его жестокосердие принесло нам гибель и смерть: он разорил наш древний род, он убил моего отца. В старину в Шотландии человек, который молча снес бы такие кровные обиды, считался бы не только недостойным руки друга, но даже шпаги врага.
– Признаюсь, Рэвенсвуд, приятно видеть, что черт умеет опутать других людей не хуже, чем тебя. Всякий раз, когда я собираюсь сделать какую-нибудь глупость, он неизменно уверяет меня, что в целом свете не найти поступка благороднее, разумнее и полезнее: я только тогда замечаю, куда я влез, когда уж по пояс увяз в трясине. Вот вы тоже могли бы сделаться убийцей, лишив человека жизни исключительно из уважения к памяти своего отца.
– Вы рассуждаете куда разумнее, чем, судя по вашему поведению, можно от вас ожидать. Вы правы: пороки прокрадываются к нам в душу в образах внешне столь же привлекательных, как те, которые, по мнению суеверных людей, принимает дьявол, желая овладеть человеком, и мы только тогда замечаем их, когда уже слишком поздно.
– Но в нашей власти отделаться от них, – возразил Бакло, – и я это обязательно сделаю, как только умрет леди Гернингтон.
– Вам известно выражение английского богослова{52}: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями»? – заметил Рэвенсвуд. – Или другими словами: мы чаще обещаем, чем выполняем?
– Ладно, – ответил Бакло, – я начну с сегодняшнего вечера. Клянусь не пить зараз больше кварты, ну разве что ваше бордо окажется особенно вкусным.
– В «Волчьей скале» у вас вряд ли будет много искушений, – заверил его Рэвенсвуд. – Боюсь, что я могу предложить вам только кров. Все наше вино и съестные припасы уничтожены во время поминального пиршества.
– Дай бог, чтобы по такому поводу они вам подольше не понадобились вновь, – заметил Бакло. – Но зачем же было выпивать все до капли: это, говорят, приносит несчастье.
– Мне все приносит несчастье, – сказал Рэвенсвуд. – А вот и «Волчья скала». Все, что еще осталось в замке, – к вашим услугам.
Шум моря уже давно возвестил путникам, что они приближаются к утесу, на вершине которого предок Рэвенсвуда, словно горный орел, свил себе гнездо. Бледная луна, долго состязавшаяся с легкими облачками, теперь выглянула из-за них и осветила башню, одиноко возвышавшуюся на крутой скале, нависшей над Северным морем. С трех сторон скала была почти отвесная, четвертую, обращенную к материку, некогда защищал искусственный ров с подъемным мостом, но мост сломался и разрушился, а ров почти совсем завалило, и теперь ничто не мешало всаднику проникнуть на узкий двор, застроенный с двух сторон службами и конюшнями, наполовину уже развалившимися; спереди, со стороны материка, двор заканчивался зубчатой стеной; с противоположной стороны высилась сама башня – высокая и узкая, с серыми каменными стенами, она при тусклом лунном свете казалась призраком в прозрачном одеянии. Трудно было представить себе жилище печальнее и уединеннее. Где-то далеко внизу слышался зловещий, тяжелый гул беспрестанно разбивавшихся о скалы волн, и этот звук, как и вся открывавшаяся взору картина, казался символом неизбывной тоски и ужаса.
Хотя сумерки только что сгустились, ничто в этом одиноком жилище не обнаруживало присутствия живого существа; только в одном из узких зарешеченных окон, прорубленных на разной высоте и на неравных расстояниях друг от друга, мерцал огонек.
– Это комната единственного слуги, который еще остался в нашем доме, – сказал Рэвенсвуд. – Счастье, что он здесь. Не будь его, мы не нашли бы ни огня, ни света. Поезжайте за мной следом; дорога узка, и можно проехать только по одному.
В самом деле, тропинка шла теперь по узкой полоске земли, соединявшей материк со скалой, на дальнем конце которой стояла башня. Выбор места и стиль постройки говорили о том, что шотландские бароны больше заботились о неприступности жилья, чем о его удобствах.
Осторожно продвигаясь вперед, путники благополучно въехали во двор. Но прошло еще много времени, прежде чем усилия Рэвенсвуда, громко стучавшего в низкую входную дверь, увенчались успехом, хотя он не переставал звать Калеба, приказывая ему отпереть калитку и впустить их.
– Старик, должно быть, уехал, или с ним приключился обморок, – сказал наконец владелец этого мрачного жилища. – Даже семь эфесских отроков проснулись бы от такого грохота{53}.
Наконец послышался робкий, дрожащий голос:
– Мастер Рэвенсвуд, мастер Рэвенсвуд, это вы?
– Я, Калеб, я, отворите же поскорее.
– Вы ли это или дух ваш? Уж лучше бы мне явилось полсотни дьяволов, чем призрак моего господина или даже бессмертная его душа. Прочь! Прочь! Будь вы стократ мой господин, я не пущу вас, если вы не человек из плоти и крови.
– Да я же это, я, глупый старик, – возразил Рэвенсвуд. – Из плоти и крови, живой, хотя и полумертвый от холода.
Свет в верхнем окне исчез и, постепенно снижаясь, замелькал то в одной, то в другой бойнице – очевидно, Калеб, несший лампу, спускался по винтовой лестнице, устроенной в одной из угольных башенок старого замка. Он шел очень медленно, и это вызвало несколько нетерпеливых восклицаний Рэвенсвуда и немало проклятий у его менее терпеливого и более пылкого спутника. Но прежде чем отодвинуть засов, слуга снова заколебался и еще раз спросил, действительно ли люди, а не бесплотные духи просят пустить их в замок в столь поздний час.
– Если бы я мог до тебя добраться, старый дурак, – воскликнул Бакло, – я бы тебе показал, какой я бесплотный дух.
– Отворяйте, Калеб, – приказал Рэвенсвуд более мягким тоном: во-первых, он привык уважать верного старого слугу, а во-вторых, возможно, понимал всю бесполезность угроз, пока между ними и Калебом находилась крепкая дубовая дверь, окованная железом.
Наконец, приподняв дрожащей рукой железный засов, Калеб отворил тяжелую дверь и предстал перед путниками. Это был худой, белый как лунь старик с большой лысиной и крупными чертами лица, особенно четко выступавшими при свете мерцавшей лампы, которую он держал в правой руке, тогда как левой заслонял пламя от ветра. Испуганно-почтительные взгляды, которые он бросал вокруг себя, резкий контраст между ярко освещенным лицом и закрытыми тенью сединами могли бы послужить сюжетом для превосходной картины; но наши путешественники горели нетерпением укрыться от надвигавшейся бури, а потому не стали предаваться созерцанию его живописной внешности.
– Вы ли это, мой дорогой господин, вы ли это? – воскликнул старый слуга. – Горе мне! Заставить вас дожидаться у ворот вашего собственного замка; но кто бы мог подумать, что вы возвратитесь так скоро, а с вами незнакомый джентльмен… – Тут Калеб прервал свою речь и заметил, так сказать, в сторону, обращаясь к кому-то внутри замка и явно не предназначая своих слов для тех, кто ждал во дворе: «Эй, Мизи, Мизи, пошевеливайся, ради бога! Скорее разведи огонь! Возьми старый трехногий стул, возьми что угодно, лишь бы горело». – Боюсь, у нас мало припасов: мы ждали вас не раньше чем через несколько месяцев. Уж тогда бы постарались принять вас, как подобает вашему высокому званию и рождению. Но что поделаешь…
– Что поделаешь, Калеб, – прервал его Рэвенсвуд. – Наши лошади нуждаются в отдыхе, да и мы тоже. Надеюсь, вы не огорчены тем, что я возвратился раньше, чем собирался?
– Огорчен, милорд!.. Для всех честных людей вы всегда останетесь милордом, как ваши предки все эти триста лет, которые были лордами, не спрашивая на это соизволения какого-нибудь вига…{54} Сожалеть о возвращении лорда Рэвенсвуда в один из его родовых замков! – Тут он снова зашептал в сторону, обращаясь к своей невидимой помощнице, находившейся где-то за сценой: «Мизи, зарежь сейчас же курицу, что сидит на яйцах. И без разговоров! Не твоя забота!» – Это не лучший из наших замков, – продолжал он, поворачиваясь к Бакло. – Просто крепость, в которой лорд Рэвенсвуд скрывается, – то есть… я хотел сказать, не скрывается, а уединяется в смутное время, вот как сейчас, когда ему нельзя удалиться в глубь страны, в одно из главных своих поместий; к слову сказать, стены башни очень древние и, говорят, заслуживают внимания.
– Поэтому вы решили дать нам время полюбоваться ими, – сказал Рэвенсвуд, забавляясь уловками, которые изобретал старик, стараясь подольше продержать путников перед закрытой дверью, в то время как верная его сообщница Мизи делала все необходимые приготовления в замке.
– О! Меня мало заботит, как выглядят стены снаружи, любезнейший, – заметил Бакло. – Покажите-ка лучше, что у вас там внутри, да отведите лошадей на конюшню, вот и все.
– Да, сэр, слушаю, сэр… Милорд и его высокочтимый друг…
– Наши лошади, старина, наши лошади… – перебил его Бакло. – После такой утомительной и долгой дороги они охромеют, стоя тут на холоде, а мой конь слишком хорош, чтобы его портить. Так вот, займитесь-ка лошадьми!
– Ах да, лошади… Сейчас крикну конюхов, – засуетился Калеб и громовым голосом, разнесшимся по всему двору, заорал: – Эй, Джон! Уильям! Сондерс!.. Мошенники… Они или спят, или ушли куда-нибудь, – прибавил он, подождав несколько минут ответа, которого, он знал, ему не от кого было ждать. – Когда хозяин в отъезде, все в доме не так. Я сам позабочусь о лошадях.
– И отлично сделаете, – сказал Рэвенсвуд, – а то как бы бедные животные не остались и вовсе без ухода.
– Тише, милорд, ради бога тише, – шепнул Калеб на ухо Рэвенсвуду умоляющим тоном. – Если вы не дорожите своей честью, то пощадите мою: и без того будет трудно хоть сколько-нибудь прилично устроить вас на ночь, как бы я тут ни старался.
– Ничего, ничего, – успокоил его Рэвенсвуд. – Отведите лошадей на конюшню. Надеюсь, сено и овес у нас найдутся.
– О, сена и овса вдоволь, – решительно и громко объявил Калеб и тут же прибавил вполголоса: – После похорон осталось несколько мер овса и немного сена.
– Хорошо, – сказал Рэвенсвуд, взяв лампу из рук слуги, который, казалось, неохотно ее уступил. – Я сам посвечу гостю.
– Как можно, милорд! Ни в коем случае! Если б вы только потерпели несколько минут, ну самое большее четверть часа, и полюбовались Басом{55} и Норт-Бериком{56} при лунном свете, пока я займусь лошадьми, я бы проводил вас в замок со всеми подобающими вашей светлости и вашему высокочтимому гостю почестями. К тому же серебряные канделябры убраны, а разве лампа достойна…
– Она вполне нас удовлетворит, – сказал Рэвенсвуд. – Вам же в конюшне огонь ни к чему: насколько мне помнится, ветром снесло с нее полкрыши.
– Точно так, милорд, – ответил верный слуга и сразу нашелся, добавив: – Какое ленивое отродье эти кровельщики! Все еще не явились чинить крышу, милорд!
– Если бы у меня хватало духу смеяться над невзгодами моего семейства, – сказал Рэвенсвуд, провожая гостя наверх, – бедный старик дал бы мне немало поводов для смеха. Он помешан на том, чтобы представить наше жалкое хозяйство не таким, каково оно на самом деле, а каким, по его мнению, оно должно быть, и, по правде говоря, хитрости, на которые пускается мой бедный дворецкий, пытаясь добыть то необходимое, без чего, по его понятиям, невозможно поддержать честь семьи, и его пространные извинения, когда, несмотря на всю свою изобретательность, он не может раздобыть замену недостающим предметам, – все это уже не раз забавляло меня. Однако хотя башня и невелика, но без него мне будет трудно отыскать комнату, где затоплен камин.
С этими словами Рэвенсвуд отворил дверь.
– Ну, здесь по крайней мере, – сказал он, – не видно ни огня, ни постели.
И точно, глазам путников представилась картина печального запустения. Большой зал с резными сводами, напоминавшими своды Вестминстер-холла{57}, оставался почти в том же состоянии, в каком гости покинули его после поминок. На большом дубовом столе грудой лежали опрокинутые кувшины, мехи, оловянные стопы и баклаги; пол был усеян осколками бокалов, этих хрупких сосудов веселья, принесенных в жертву восторженными гостями. Что же касается серебряной посуды, которой ради такого случая друзья и родственники снабдили Рэвенсвуда, то они же и унесли ее тотчас после буйной попойки, столь же ненужной, сколь и несвоевременной. Словом, в этом зале не было и намека на благоденствие, напротив, все говорило о недавней расточительности и нынешнем запустении. Черное сукно, заменившее во время похоронного пира изъеденные молью ткани, было наполовину сорвано и свисало со стен лохмотьями, обнаруживая голые, даже не оштукатуренные камни. Вид перевернутых, брошенных где попало стульев довершал общую картину, давая понять, какой беспорядок царил в этих стенах под конец поминальной оргии.
– Этот зал, мистер Бакло, был местом разгула, а не скорби, – сказал Рэвенсвуд, приподымая лампу. – Что ж, вполне справедливо, если он имеет столь скорбный вид теперь, когда мог бы выглядеть радостно.
Путники покинули это печальное место и двинулись дальше; отворив понапрасну еще несколько дверей, они вошли наконец в небольшую комнату, пол которой был устлан циновками, а в камине, к великому их удовольствию, пылало пламя, – очевидно, следуя указаниям Калеба, Мизи ухитрилась наскрести немного пищи для огня. Радуясь в душе, что в замке нашелся уютный уголок, на что, казалось, было трудно рассчитывать, Бакло подошел к камину и, удовлетворенно потирая руки, добродушно выслушал извинения Рэвенсвуда.
– К сожалению, я не могу предложить вам никаких удобств, – сказал он. – Я сам их не имею. В этих стенах давно уже не знают, что такое комфорт, а может быть, никогда и не ведали; но приют и безопасность, пожалуй, я могу вам обещать.
– И прекрасно, – ответил Бакло, – мне больше ничего и не надо. А если к этому прибавить добрый ростбиф да глоток вина, я буду вполне удовлетворен.
– Боюсь, что вас действительно ждет очень скудный ужин, – сказал Рэвенсвуд, – я слышу, как совещаются Калеб и Мизи. При всех его достоинствах, бедняга Болдерстон, к несчастью, глуховат, и его секреты слышны всем, в особенности тем, от кого он больше всего стремится скрыть свои проделки… Тише!
Хозяин и гость прислушались; из соседней комнаты до них донесся голос Калеба. Старый слуга наставлял Мизи.
– Выше голову, Мизи, выше голову! – поучал он. – Под хорошим соусом все можно подать.
– Но курица старая, она будет жестка, как подошва.
– Скажешь, что ошиблась. Не ту взяла, – увещевал верный Калеб, стараясь говорить вполголоса. – Возьми все на себя; только бы не пострадала честь дома.
– Но курица… – возразила Мизи. – Она сидит на яйцах где-то под троном в зале. Я боюсь идти туда в темноте: там привидения, и потом мне все равно ее не найти. Там темно, как в пропасти, а в доме нет другой лампы, кроме той, что у господ. А если я даже и поймаю курицу, ведь надо же ее ощипать, выпотрошить, изжарить. А как же все это сделать, когда они сидят у единственного в доме огня!
– Ну, будет, будет, – проворчал старый слуга, – подожди здесь минуту. Сейчас я постараюсь взять у них лампу.
И Калеб Болдерстон вошел в комнату, нисколько не подозревая, что там слышали всю предшествующую интермедию.
– Ну что ж, старина, есть ли надежда на ужин? – спросил Рэвенсвуд.
– Надежда на ужин, милорд? – повторил Калеб, делая вид, что он глубоко оскорблен сомнением, прозвучавшим в голосе хозяина. – Как вы можете спрашивать? Разве мы не в доме вашей светлости? Надежда на ужин! Тоже скажете. Но ведь говядину вы есть не станете! У нас пропасть жирной птицы, так и просится на вертел или на рашпер. Зажарь каплуна, Мизи! – закричал он с такой уверенностью, словно в доме и впрямь водились каплуны.
– Не надо мне каплуна, – остановил его Бакло, считая долгом вежливости облегчить бедному дворецкому его тяжелые обязанности. – У вас найдется немного холодного мяса или просто кусок хлеба?
– Сейчас принесу отличных овсяных лепешек! – воскликнул Калеб, у которого словно гора свалилась с плеч. – А что до холодного мяса, так холодного у нас в доме, слава богу, предостаточно. Правда, после похорон все остатки мяса и пирогов, как полагается, роздали бедным, однако ж…
– Будет, Калеб, – прервал его Рэвенсвуд, – пора кончать. Мой гость, молодой лэрд Бакло, скрывается от преследования, и потому…
– Он не будет взыскательнее вашей милости, – понимающе кивнул Калеб, сразу повеселев. – Очень сожалею, что у джентльмена неприятности, но от души рад, что он не станет бранить наше хозяйство, раз у него самого дела не лучше наших… Не скажу, чтоб наши дела были плохи, слава богу, нет, – прибавил он, тотчас отрекаясь от вырвавшегося у него в порыве радости признания, – но разве сравнишь с тем, что было, или с тем, что должно быть! Ну а что касается ужина… Что за беда, если и приврешь немного? У нас есть баранья лопатка, ее подавали на стол всего три раза, а, как вашим милостям известно, чем ближе к кости, тем мясо слаще; потом есть немного овечьего сыра, кусочек превосходного масла и… и… Но этого, вероятно, будет достаточно.
Калеб с готовностью извлек скромные припасы и со всей подобающей случаю торжественностью разместил их на круглом столике перед молодыми людьми, которые, нимало не смущаясь скудостью и незатейливостью трапезы, тут же за нее принялись. Калеб подавал тарелки с особой предупредительностью, словно надеялся почтительным обхождением заменить отсутствующих слуг.
Но, увы! Когда имеешь дело с голодным гостем, даже самое тщательное, самое точное соблюдение церемониала не может возместить существенной части обеда. Уничтожив значительную часть уже и без того порядком обглоданной баранины, Бакло потребовал эля.
– Не смею предложить вам нашего эля, – ответил Калеб, – нехорошо вышло сусло, да и гроза была; но, сэр, такой воды, как в нашем колодце, клянусь, вы никогда не пили!
– Ну, если эль прокис, дайте вина, – сказал Бакло, морщась при одном упоминании о чистой влаге, так горячо рекомендуемой Калебом.
– Вина? Слава богу, вина у нас предостаточно, – храбро соврал Калеб. – Всего два дня тому назад… не дай бог никому пить по такому поводу… в этом доме выпили столько вина, что хватило бы для спуска шлюпки. Уж в чем в чем, а в вине у лорда Рэвенсвуда никогда не было недостатка.
– Так перестаньте угощать нас разговорами и подайте вина! – отозвался хозяин дома, и Калеб пустился в путь.
Спустившись в погреб, он опрокинул все бочонки, уже пустые, и стал трясти их в отчаянной надежде нацедить со дна хоть немного бордо, надеясь наполнить принесенную им с собою кружку. Увы, они были уже старательно осушены, и, даже пустив в ход весь свой опыт, всю свою смекалку, старый дворецкий не набрал и кварты мало-мальски пригодного вина.
Однако Калеб был слишком искусным стратегом, чтобы покинуть поле битвы без всякой попытки прикрыть свое отступление. Не теряя присутствия духа, он бросил на пол пустую кружку, делая вид, что поскользнулся на пороге, крикнул Мизи, чтобы та подтерла вино, которое вовсе не проливал, и, поставив на стол другую кружку, выразил надежду, что для их милостей осталось еще довольно. Действительно, вина оказалось вполне достаточно, ибо даже Бакло, верный друг виноградной лозы, не нашел в себе сил возобновить атаку на винные погреба «Волчьей скалы» и согласился, хотя и неохотно, удовольствоваться стаканом воды. Теперь предстояло устроить гостя на ночлег, и так как ему предназначалась потайная комната, то перед Калебом открылись первоклассные возможности правдоподобнейшим образом объяснить убожество ее убранства, нехватку постельного белья и прочее.
– Кому бы пришло в голову, – говорил он, – что понадобится наш тайник. Он пустует со дня заговора Гаури{58}, и не мог же я пустить сюда женщину; вы, ваша милость, сами понимаете, что после этого убежище недолго оставалось бы потайным.