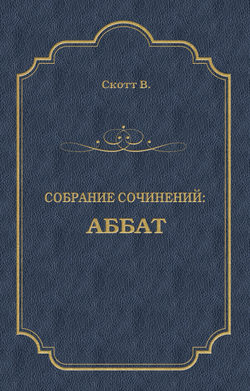Читать книгу Аббат - Вальтер Скотт - Страница 8
Глава V
ОглавлениеКогда бушует буря,
Моряк срубает мачту, а купец
Швыряет в волны все свои товары,
Теперь уже утратившие цену.
Так короли, когда восстал народ,
Бросают на погибель фаворитов.
Старинная пьеса{51}
Роланд Грейм явился не сразу. Исполнительница поручения леди Эвенел (это была давнишняя доброжелательница Роланда – Лилиас) сначала попыталась открыть дверь его комнатки с бескорыстной целью насладиться смущением преступника и посмотреть, как он будет себя вести. Но дверь была заперта изнутри длинным железным брусом, употреблявшимся в качестве засова; это обстоятельство воспрепятствовало благим намерениям Лилиас. Она постучала и, с небольшими перерывами, позвала несколько раз:
– Роланд, Роланд Грейм, мейстер Роланд (на слове «мейстер» было сделано особое ударение), соблаговолите отворить дверь. Что с вами? Уж не молитесь ли вы там в одиночестве, чтобы выполнить до конца обряд, который вы не закончили на людях? Наверно, мы должны огородить ширмой ваше место в часовне, чтобы вашей светлости не приходилось быть на виду у простых смертных. – В ответ по-прежнему не раздалось ни звука. – Ладно, мейстер Роланд, – сказала камеристка, – мне придется доложить миледи, что если она хочет получить ответ, то должна прийти сама или же послать к вам людей, которые смогут выломать дверь.
– Что вам велела передать миледи? – отозвался из-за запертой двери паж.
– Да отоприте же вы наконец, тогда и услышите, – ответила камеристка. – Я полагаю, что слова леди подобает передавать, глядя человеку в лицо, и я не стану ради вашего удовольствия пищать в замочную скважину.
– Ваше счастье, что вы можете прикрыться именем своей госпожи, – сказал паж, отворяя дверь, – а то вы не посмели бы так дерзить. Что вам велела передать миледи?
– Что вас просят немедленно явиться к ней; она ожидает вас в гостиной. По-видимому, она намерена дать вам на будущее некоторые указания относительно приличий, которые должно соблюдать, выходя из часовни.
– Скажите миледи, что я сейчас приду, – ответил паж и, захлопнув дверь, задвинул засов перед самым носом камеристки.
– Удивительная любезность! – пробормотала Лилиас.
Вернувшись, она сообщила своей госпоже, что Роланд Грейм явится к ней, когда ему это будет угодно.
– Что такое? Он сам произнес эту последнюю фразу или ее сочинили вы? – холодно спросила леди Эвенел.
– У него, миледи, – сказала прислужница, уклоняясь от прямого ответа, – был такой вид, что, если бы я только пожелала его слушать, он наговорил бы еще и не таких дерзостей. Но вот он сам сейчас вам ответит.
В комнату с высокомерным видом вошел Роланд Грейм. Румянец на его лице был ярче обычного; он держался несколько скованно, но явно не испытывал ни страха, ни раскаяния.
– Молодой человек, – сказала леди Эвенел, – пожалуйста, объясните: что я должна думать о вашем сегодняшнем поведении?
– Если оно оскорбило вас, миледи, я об этом глубоко сожалею, – ответил юноша.
– Будь им оскорблена только я, это было бы еще полбеды. Но ты виновен в поступках, чрезвычайно оскорбительных для твоего господина, – в вооруженном нападении на твоих сотоварищей слуг и в неуважении к Господу Богу в лице Его посланца.
– Позвольте мне еще раз ответить вам, миледи, – сказал паж, – что если я оскорбил вас, мою госпожу и благодетельницу, мою единственную заступницу, то этим я, безусловно, совершил преступление и должен понести заслуженное наказание. Но сэр Хэлберт Глендининг не считает меня своим слугой, а я не считаю его своим господином; он не вправе бранить меня за то, что я как следует проучил наглого слугу. Не боюсь я и Божьего гнева за то, что выразил презрение к непрошеным поучениям какого-то проповедника, сующего нос не в свои дела.
Леди Эвенел и прежде видела у своего любимца проявления мальчишеской обидчивости и нетерпимости ко всякого рода неодобрению или упреку. Но сейчас он держал себя серьезнее и решительнее, чем обычно, и на мгновение она растерялась, не зная, как ей обращаться с юношей, который вдруг стал мужчиной, и притом – мужчиной смелым и решительным. Она помолчала с минуту, а затем, собрав все присущее ей достоинство, сказала:
– Как ты разговариваешь со мной, Роланд! Ты, наверно, хочешь, чтобы я раскаялась в моем расположении к тебе, и потому заявляешь о своей независимости от обоих твоих повелителей – земного и небесного. Ты, видно, забыл, кем ты был когда-то и во что обратишься вскоре, если утратишь мое покровительство.
– Миледи, – сказал паж, – я ничего не забыл. Я слишком много помню. Я знаю, что если б не вы, я бы погиб в этих синих волнах (тут он показал на волнуемое западным ветром озеро, на которое открывался вид из окна комнаты). Ваша доброта простерлась и дальше, миледи: вы защитили меня от злобы окружающих и от моего собственного безрассудства. Вы вправе, если того пожелаете, покинуть воспитанного вами сироту. Вы сделали для него все от вас зависящее, и ему не на что жаловаться. И все же не думайте, миледи, что я не был вам благодарен: мне пришлось вытерпеть нечто такое, чего я не снес бы ни ради кого другого, кроме моей благодетельницы.
– А ради меня сносил! – воскликнула леди Эвенел. – Но что же такое тебе пришлось терпеть из-за меня, о чем ты мог бы вспоминать не с благодарностью и признательностью, а с каким-то иным чувством?
– Вы настолько справедливы, миледи, что не станете требовать от меня благодарности за то холодное пренебрежение, которое я неизменно встречал со стороны вашего супруга, пренебрежение, за которым стояло непреодолимое отвращение. Вы настолько справедливы, что не станете требовать от меня признательности за то презрение и недоброжелательство, которые я на каждом шагу встречал со стороны всех остальных в доме, равно как и за проповеди вроде той, которой сегодня ваш преподобный капеллан угостил за мой счет всю собравшуюся челядь.
– Слыхано ли что-либо подобное! – воскликнула камеристка, воздевая руки к небу и закатывая глаза. – Он говорит так, словно он – графский сын или свет очей благородного рыцаря.
Паж смерил ее взглядом, выражавшим глубочайшее презрение, и не удостоил ее никаким другим ответом. Леди Эвенел, чувствуя себя уже не на шутку. оскорбленной, но еще сожалея о безрассудстве юноши, сказала, не меняя тона:
– В самом деле, Роланд, ты забываешься настолько, что я должна буду принять серьезные меры, дабы убавить твою самоуверенность, а именно – вернуть тебя на подобающее твоему происхождению место в обществе.
– Это очень просто сделать, – добавила Лилиас, – достаточно выставить его за ворота таким же оборванцем, отродьем нищенки, каким он был, когда ваша милость взяли его сюда.
– Лилиас говорит чересчур резко, – продолжала леди Эвенел, – но она сказала правду, молодой человек; и я не думаю, чтобы мне следовало щадить твою гордость, совсем вскружившую тебе голову. Тебя наряжали в дорогие одежды и обращались с тобой как с сыном дворянина, пока ты не забыл, что ты выходец из простонародья.
– Прошу смиренно вашего прощения, высокочтимая леди, но в словах Лилиас нет ни капли правды, да и вы, ваша милость, не знаете ровно ничего о моем происхождении и не имеете никаких оснований столь презрительно говорить о нем. Я не отродье нищенки: моя бабушка ни у кого не просила милостыни – ни здесь, ни где-либо еще; она скорее умерла бы в чистом поле. Нас разорили и выгнали из нашего дома – а такие события не раз происходили и в других местах, с другими людьми. И замок Эвенелов, несмотря на окружающее его озеро и на его башни, не всегда был для своих обитателей надежной защитой от нужды и горя.
– Подумать только, какая наглость! – воскликнула Лилиас. – Он осмеливается напоминать миледи о несчастьях ее семьи!{52}
– Этого предмета, конечно, лучше было не касаться, – холодно сказала леди Эвенел, тем не менее весьма задетая намеком Роланда.
– Это было необходимо, миледи, для моего оправдания, – сказал паж. – Иначе я не произнес бы ни слова, зная, что могу этим огорчить вас. Но поверьте мне, высокочтимая леди, я не выходец из простонародья. Родителей своих я не знаю; но моя единственная родственница сказала мне, – и сердце мое отозвалось на ее слова, подтвердив их правоту, – что в моих жилах течет благородная кровь и что со мной должно обращаться как с дворянином.
– И вот эта уверенность, имеющая столь шаткое основание, – сказала леди Эвенел, – позволяет тебе рассчитывать на почести и привилегии, полагающиеся по праву людям высокого звания и благородного происхождения, и ты намерен претендовать на особые права, закрепленные только за дворянами? Опомнись, голубчик, или же дворецкий проучит тебя плеткой, как дерзкого мальчишку. Ты еще не познакомился как следует с наказаниями, соответствующими твоему возрасту и положению.
– Дворецкий познакомится с моим кинжалом прежде, чем я с его взысканиями, – сказал паж с внезапной запальчивостью. – Леди, я слишком долго был вассалом дамской туфли и рабом серебряного свистка. Теперь вам придется найти кого-нибудь другого, кто будет откликаться на ваш зов; желаю, чтобы этот человек был достаточно низок родом и душой и спокойно сносил презрение вашей челяди, называя монастырского вассала своим господином.
– Я заслужила это оскорбление, – сказала леди Эвенел, покраснев до корней волос, – ибо чересчур долго терпела и поощряла твою дерзость. Уходи, Роланд Грейм. Покинь замок сегодня же вечером. Я буду давать тебе средства к существованию, пока ты не научишься каким-нибудь честным способом зарабатывать себе на жизнь, хотя боюсь, что из-за своей мании величия ты будешь считать недостойными тебя любые занятия, кроме грабежа и насилия. Уходи и не показывайся мне больше на глаза.
Паж упал к ее ногам, охваченный невыразимым горем.
– Моя дорогая, уважаемая госпожа… – вымолвил он, но был не в силах добавить к этому ни слова.
– Встань, Роланд Грейм, – сказала леди, – не держись за край моего платья. Лицемерием нельзя прикрыть неблагодарность.
– Я не способен ни на то ни на другое, миледи! – воскликнул паж, вскочив на ноги в мгновенном страстном порыве, столь естественном для его стремительной, пылкой натуры. – Не думайте, что я хотел просить у вас позволения остаться: я давно уже принял решение покинуть замок Эвенелов и никогда не прощу себе, что позволил вам произнести слово «уходи» раньше, чем сказал сам – «Я ухожу от вас». Я стал перед вами на колени, чтобы попросить у вас прощения за необдуманные слова: они вырвались у меня в минуту сильного раздражения, но в разговоре с вами мои уста не смели произносить их. Никакой другой милости я не прошу у вас – вы и так много сделали для меня, – но я повторяю: вам лучше известно то, что делали для меня вы сами, чем то, что мне приходилось терпеть от других.
– Роланд, – сказала леди Эвенел, несколько успокоившись и уже мягче относясь к своему любимцу, – ты должен был обращаться ко мне, когда тебя кто-нибудь обижал. Ты не обязан был терпеть несправедливость, но тебе вовсе не следовало самому восставать против нее, пока ты находился под моим покровительством.
– А что мне оставалось делать, – сказал юноша, – если эта несправедливость исходила от людей, которых вы любили и осыпали милостями? Должен ли был я нарушать ваш покой докучными нашептываниями и вечными жалобами? Нет, миледи, я молча нес свое бремя, не ропща, ибо не хотел тревожить вас; уважение к вам, в отсутствии которого вы меня упрекаете, было единственной причиной, по которой я не просил вашей защиты и не мстил сам куда более решительным образом. И все же – хорошо, что мы расстаемся. Я не рожден для того, чтобы играть роль нахлебника, пользующегося милостями своей госпожи до тех пор, пока клевета окружающих не погубит его. Да ниспошлет вам Господь Свое благословение, высокочтимая леди, и, во имя вас, всем тем, кто вам дорог.
Сказав это, он направился к выходу, но леди Эвенел окликнула его. Он остановился и внимательно выслушал те слова, с которыми она напоследок обратилась к нему:
– В мои намерения не входило, и было бы несправедливо, несмотря на мое крайнее недовольство вами, оставить вас без всякой поддержки: возьмите этот кошелек; в нем золото.
– Простите меня, миледи, и позвольте мне уйти с сознанием, что я не опустился так низко, чтобы принимать подаяние. Если моя смиренная служба может возместить вам хотя бы часть расходов на мое содержание и одежду, то и в этом случае я на всю жизнь останусь вашим должником; уж это одно – такой долг, который я никогда не смогу оплатить сполна. Возьмите же обратно кошелек и скажите только, что расстаетесь со мной без гнева.
– Да, без гнева, – повторила леди Эвенел, – скорее с печалью, и лишь из-за вашего своеволия; но все же возьмите золото, оно вам пригодится.
– Благослови вас Бог за вашу доброту, миледи! Но золота я взять не могу. Я здоров и силен, и нельзя сказать, что у меня совсем нет друзей, как вы, наверно, полагаете. Может настать время, когда мне удастся доказать свою благодарность не только словами.
Он упал на колени, поцеловал руку леди Эвенел, которую та не отдернула, и быстро вышел из комнаты.
Лилиас несколько минут внимательно следила за своей госпожой, которая была так бледна, что, казалось, вот-вот упадет в обморок; но леди Эвенел вскоре пришла в себя и, отклонив помощь, предложенную ей камеристкой, проследовала в свои покои.