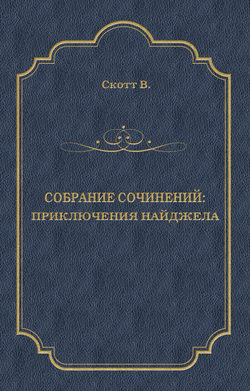Читать книгу Приключения Найджела - Вальтер Скотт - Страница 2
Введение к «Приключениям Найджела»
ОглавлениеЗачем слагать о лордах столько од?
Воспой, о муза, северный народ!
Поп[1]
{1}
После того как в романе «Эдинбургская темница» мне в какой-то мере удалось пробудить интерес читателя к судьбе женщины, лишенной достоинств, на которые может претендовать едва ли не всякая героиня, я поддался искушению и избрал героем своего последующего романа лицо столь же малообещающее. И так как мне нужно было наделить честностью, сердечной добротой и высокой нравственностью того, кто не мог претендовать на знатность рода, романтическую чувствительность или на какое-либо другое достоинство, присущее тем, кто гордо шагает по страницам подобных сочинений, я позволил себе воспользоваться именем лица, оставившего в столице Шотландии столь красноречивые памятники своей щедрой благотворительности.
Шотландскому читателю достаточно сказать, что вышеупомянутое лицо не кто иной, как Джордж Гериот{2}. Но для живущих к югу от Твида{3} нелишним, пожалуй, будет добавить, что человек, носивший это имя, был богатым эдинбургским горожанином, золотых дел мастером при дворе короля, последовавшим за Иаковом{4} в английскую столицу, где он столь преуспел в своем ремесле, что после его смерти в 1624 году осталось весьма изрядное по тем временам состояние. У него не было детей, и, полностью удовлетворив всех своих родственников, которые могли бы претендовать на его наследство, всю остальную сумму он завещал на учреждение приюта, в котором сыновья эдинбургских горожан теперь безвозмездно воспитываются и получают образование, позволяющее им вступить на самостоятельный жизненный путь и занять приличное положение, соответствующее их талантам. Приют сей расположен в четырехугольном здании благородного готического стиля и служит украшением города, а забота, которой окружены питомцы этого учреждения, и образование, которое они там получают, делают его столь же полезным для горожан. К чести тех, кто ведает этим заведением (членов магистрата и духовенства Эдинбурга), следует заметить, что благодаря их попечению средства приюта настолько возросли, что теперь в нем находят кров и пропитание и воспитываются сто тридцать юношей ежегодно, многие из которых впоследствии честно служат своей родине на самых различных постах.
Можно с уверенностью предположить, что основатель такого благотворительного заведения прошел свой жизненный путь твердой поступью, внимательно ко всему приглядываясь, и не упускал случая помочь тем, кто, не обладая достаточным опытом, мог сбиться с дороги. Я полагал, что если вымыслом своим направлю его усилия на пользу некоего молодого дворянина, совращенного с пути истины аристократическим высокомерием того времени и эгоистической роскошью, более свойственными нашим дням, а также соблазнами наслаждений, до которых падки люди во все времена, то можно будет извлечь удовольствие и даже некую пользу, если я расскажу о помощи, оказанной этим горожанином-наставником своему питомцу. Признаться, я не очень-то верю в нравственное воздействие романов. Однако если вообще вовремя сказанное слово может принести пользу юноше, то слово это должно призывать его скорее внять голосу рассудка и самоотречения, нежели голосу безудержной страсти. В самом деле, я не мог бы надеяться представить моего благоразумного и благожелательного друга в таком выгодном свете, как крестьянскую девушку, которая благородно пожертвовала семейными привязанностями ради сохранения своей нравственной чистоты. Тем не менее я все же надеялся сделать хоть что-нибудь достойное славной памяти, которую оставил по себе Джордж Гериот, оказав своей родине незабываемые благодеяния.
Мне казалось, что из этого нехитрого сюжета можно сплести весьма занимательную повесть, ибо царствование Иакова I, когда преуспевал Джордж Гериот, открывало неограниченный простор фантазии романиста и в то же время давало возможность ввести в роман гораздо больше самых разнообразных характеров, что было бы затруднительно при соблюдении исторической правды, если бы описываемые нами события были перенесены на сто лет назад. Леди Мэри Уортли Монтэгю{5} столь же справедливо, сколь тонко заметила, что наиболее романтичная часть страны – это та, где горы сочетаются с долинами и равнинами. Точно так же можно было бы сказать, что наиболее ярким периодом в истории является тот, когда древние грубые и дикие нравы варварской эпохи озаряются первыми лучами просвещения и вновь возрождающихся наук, а также учением обновленной Реформацией религии. Резкий контраст, вызванный сопротивлением старых нравов новым, постепенно подчиняющим их себе, порождает свет и тени, столь необходимые для создания яркого романа. И в то время как такой период дает автору право вводить в свое сочинение удивительные и неправдоподобные эпизоды, происходящие от необузданности и жестокости, свойственной старым привычкам к насилию, все еще оказывающим влияние на нравы людей, столь недавно вышедших из состояния варварства, с другой стороны, характер и чувства многих героев можно обрисовать с величайшим правдоподобием, с самыми разнообразными оттенками, самыми тонкими штрихами, что свойственно новой, более утонченной эпохе, лишь недавно озарившей мир.
Для царствования английского короля Иакова I эти преимущества были особенно характерны. Последние лучи рыцарства, хотя светило это давно уже закатилось, все еще озаряли и золотили горизонт, и хотя едва ли кто-нибудь действовал строго в соответствии с донкихотскими заветами, мужчины и женщины все еще говорили рыцарским языком «Аркадии» сэра Филиппа Сиднея{6} и все еще на аренах происходили турниры, хотя теперь они процветают только на площади Карусели.
То тут, то там какой-нибудь пылкий кавалер ордена Бани{7} (о чем свидетельствует чересчур добросовестный лорд Херберт Чербери{8}), верный данному им обету, считал своим долгом острием шпаги заставить другого кавалера того же ордена или сквайра вернуть бант, украденный им у прекрасной дамы[2]; но все же, в то время как мужчины лишали друг друга жизни из-за таких щепетильных вопросов чести, уже пробил тот час, когда Бэкон{9} стал учить человечество, что оно не должно больше делать заключения, идя от авторитета к факту, а должно устанавливать истину, продвигаясь от факта к факту, до тех пор пока оно не создаст неоспоримый авторитет – не на основании гипотезы, а на основании опыта.
В царствование Иакова I жизнь была весьма неспокойной и распущенность некоторой части общества вызывала постоянные кровопролития и насилия. Наемный убийца елизаветинской эпохи, так много разновидностей которого дал нам Шекспир, как, например, Бардольф, Ним, Пистоль, Пето и другие собутыльники Фальстафа{10}, люди, отличающиеся своими причудами и особым видом сумасбродства, после начала войны с Нидерландами уступил место рубакам, пользующимся рапирой и кинжалом вместо далеко не столь опасного меча и щита, и, как сообщает один из историков, «часто возникали ссоры, в особенности между шотландцами и англичанами, и на каждой улице происходили дуэли; различные корпорации со странными названиями не привлекали к себе внимания и оставались безнаказанными, как, например, корпорации “буянов”, “бонавенторов”, “бравадоров”, “куартероров” и тому подобных. Будучи людьми расточительными, они влезали в долги и вынуждены были объединяться в шайки, чтобы защищаться от карающей длани правосудия. Они получали поддержку от некоторых аристократов и от горожан, похотливость которых съедала все их состояние, и неудивительно, что число этих головорезов скорее увеличивалось, нежели уменьшалось, и они пускались на самые отчаянные предприятия, так что после девяти часов вечера редко кто отваживался показываться на улице»[3].
Тот же авторитетный источник уверяет нас далее, что «престарелые джентльмены, оставившие своим сыновьям в наследство все имущество, как движимое, так и недвижимое, в хорошем состоянии (что позволяло им жить на широкую ногу), еще при жизни были свидетелями того, как наследники их проматывали большую часть состояния в кутежах, что давало мало надежды на сохранение остальной его части. Священные узы брака превратились во всеобщее посмешище, что вызвало распад многих семейств; публичные дома усердно посещались, и даже высокопоставленные лица впадали в разврат и расточали свое состояние, предаваясь сладострастным утехам. Кавалеры и джентльмены разного рода, промотавшие свое состояние то ли из-за гордости, то ли из-за расточительности, переезжали в города и, ведя там распущенную жизнь, губили также свою добродетель. Нередко их супруги и дочери, чтобы сохранить образ жизни, достойный их высокого положения, отдавали свое тело на поругание самым бесстыдным образом. По всей стране в изобилии появились пивные, притоны для игры в кости и другие непотребные заведения».
Не только на страницах пуританского, да притом еще, быть может, сатирического, писателя находим мы такую потрясающую, отвратительную картину грубых нравов в начале семнадцатого столетия. Также и во всех комедиях того времени главным героем был весельчак и остряк, молодой наследник, совершенно изменивший порядки в унаследованном от отца имении и, говоря словами старой поговорки, подобный фонтану, который в праздной расточительности расплескивает богатство, заботливо собранное его родителями в скрытых от глаз хранилищах.
И все же, в то время как этот дух всеобщей расточительности, казалось, царил во всем королевстве, постепенно нарождалась совсем другая порода людей, степенных, с решительным характером, которые впоследствии проявили себя во время гражданских войн{11} и оказывали столь мощное влияние на характер всей английской нации, пока, кидаясь из одной крайности в другую, они не утопили в мрачном фанатизме блистательные ростки возрождающихся изящных искусств.
После приведенных мной цитат эгоистическое и отталкивающее поведение лорда Дэлгарно, пожалуй, не покажется преувеличением и едва ли кто-нибудь может обвинить нас в сгущении красок при описании сцен в Уайтфрайерсе и тому подобных злачных местах. Действительно, такие предположения весьма далеки от истины. Именно в царствование Иакова I порок, казалось, впервые коснулся высших классов во всей его неприкрытой грязной развращенности. Увеселениям и забавам елизаветинской эпохи свойственна была благопристойная сдержанность, как это подобало двору королевы-девственницы, и в этот, более ранний период, говоря словами Берка{12}, порок утратил половину своего зла, будучи лишен всякой вульгарности. Напротив, в царствование Иакова все открыто предавались самым необузданным и непристойным утехам, ибо, как говорит сэр Джон Хэррингтон{13}, люди погрязли в скотских наслаждениях. И даже знатные дамы забывали о своих изысканных манерах, охваченные всеобщим опьянением. После забавного описания маскарада, на котором все актеры напились и вели себя соответствующим образом, он прибавляет: «Меня очень удивляют эти странные пышные зрелища, они приводят мне на память подобные же увеселения в дни нашей королевы, в которых я сам иной раз участвовал и играл роль помощника; но никогда я не видел такого бесчинства и пьянства, как теперь. Страх перед пороховыми бочками покинул наши души, и мы ведем себя так, как будто каждый человек по наущению дьявола задумал взорвать себя, предаваясь дикому разгулу, излишествам, праздности и неумеренным возлияниям. Знатные дамы искусно маскируются, и поистине единственное проявление их скромности заключается в сокрытии их лица. Но, увы, их странное поведение встречает такую поддержку, что я уже ничему на свете не удивляюсь»[4].
Таковы были нравы, царившие при дворе, и грубая чувственность вместе со своим неизменным спутником – неприкрытым жестоким эгоизмом – оказывала пагубное влияние как на человеколюбие, так и на хорошие манеры, каковые, каждая в своей сфере, зависят от уважения, с которым любой человек относится к интересам и чувствам других. Именно в такие времена бессердечные и бесстыдные люди, обладающие богатством и властью, подобно вымышленному лорду Дэлгарно, могут нагло выставлять напоказ свои подлости, доставляющие им наслаждения и выгоду, и торжествовать победу.
В другом месте я даю объяснение слову «Эльзас». Так назывался на воровском жаргоне Уайтфрайерс, обладавший определенными привилегиями убежища и ставший благодаря этому приютом для лихих людей, не ладивших с законом.
Привилегии эти обязаны были своим происхождением монастырю монахов кармелитского ордена{14}, или «белых братьев» («уайтфрайерс»), основанному, как свидетельствует Стоу в своем описании Лондона, сэром Ричардом Греем в 1241 году. Эдуард I дал им участок земли на Флит-стрит для постройки церкви. Воздвигнутое в то время здание было перестроено Кортни, графом Девонширским, в царствование Эдуарда{15}. В эпоху Реформации{16} это место сохранило свои привилегии убежища, и Иаков I закрепил и расширил их в особой хартии в 1608 году. Шедуэл{17} был первым автором, использовавшим в литературе Уайтфрайерс в своей пьесе «Эльзасский сквайр», опирающейся на сюжет «Братьев» Теренция{18}.
В этой старой пьесе два богатых человека, братья, воспитывают двух юношей (сыновей одного и племянников другого), каждый по своей собственной системе, основанной одна – на строгости, другая – на снисходительности. Старший из подвергнутых этому эксперименту, воспитанный в очень суровых условиях, немедленно предается всем порокам большого города, и его совращают мошенники и буяны Уайтфрайерса, – словом, он становится эльзасским сквайром. В примечании читатель найдет описание действующих лиц пьесы, с которыми поэт знакомит нас как с исконными обитателями этого места[5].
Успех этой пьесы, как мы узнали из посвящения графу Дорсетскому и Мидлсекскому, превзошел все ожидания автора. «Уже в течение многих лет ни одна комедия не делала таких полных сборов. И я был весьма польщен, – продолжает Шедуэл, – что у меня оказалось так много друзей, ибо театр со дня его основания никогда еще не был так полон, как на третий день после премьеры, и множество людей ушли домой ни с чем, так как не могли получить билетов»[6]. Из «Эльзасского сквайра» автор извлек кое-какие полезные сведения об отношениях между головорезами и ворами из Уайтфрайерса и их соседями, пылкими юными студентами из Темпла{19}, о которых вскользь упоминается в этой комедии.
Таковы источники, которым автор обязан сочинением «Приключений Найджела», произведения, быть может принадлежащего к числу тех романов, которые кажутся более занимательными, когда их перечитываешь во второй раз, нежели когда их читаешь впервые ради самой фабулы, не богатой увлекательными происшествиями.
Вступительное послание написано, говоря словами Луцио{20}, «с целью мистификации» и никогда не увидело бы света, если бы автор собирался открыть свое имя. Так как маска, или инкогнито, пользуется привилегией говорить не своим голосом под вымышленным именем, автор, скрывшись под псевдонимом, позволил себе подобные вольности; и хотя он продолжает оправдываться различными обстоятельствами, изложенными в предисловии, настоящее признание должно служить извинением высокомерной игриво-развязной манеры, которую, открыв свое настоящее имя, автор счел бы несовместимой с правилами вежливости и хорошим вкусом.
Эбботсфорд, 1 июля 1831 года