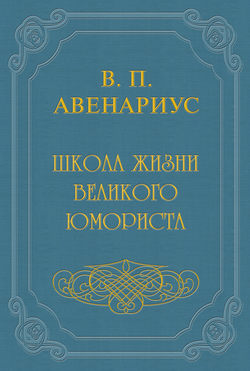Читать книгу Школа жизни великого юмориста - Василий Авенариус - Страница 4
Глава четвертая
Козырнул
ОглавлениеПоутру Яким, заглянув в обычное время в комнату барина, был немало удивлен, что тот еще спит. Кажись, напился чаю, лег вовремя, а вишь ты!..
Когда он, спустя час, снова просунул туда голову, то застал Гоголя уже вставшим, но молящимся в углу перед образом с неугасимой лампадой. Доброе дело! Как-никак, а маменька-то благочестию с малых лет приучила.
Яким осторожно притворил опять дверь; но когда он, несколько погодя, растворил ее в третий раз, в полной уже уверенности, что теперь-то, конечно, не помешает, то, к большему еще изумлению своему, увидел барина все там же на коленях кладущим земные поклоны. Э-э! Что-то неспроста!
А тут, когда, наконец, барин крикнул его, чтобы подал самовар, то так заторопил, что на-поди, точно на пожар:
– Живо, живо, друже милый! Поворачивайся! Экой тюлень, право!
– Да что у вас на уме, панычу? – не утерпел спросить Яким, подавая барину плащ. – Молились сегодня что-то дуже усердно. Мабуть, затеваете що важное? Занюхали ковбасу в борщи?
– Занюхал, – был ответ. – Хочу козырнуть.
– Козырнуть?
– Да, и от этого козыря для меня все зависит: либо пан, либо пропал! Молись, брат, и ты за меня.
С разинутым ртом глядел Яким вслед: «От вырвався, як заяц с конопель!» – стоял сам еще как пригвожденный на том же месте, когда паныч его сидел уже на дрожках-«гитаре» и погонял возницу, чтобы ехал скорее. Об адресе лучшего типографа Плюшара Гоголь узнал еще месяц назад. Коли печататься, то, понятно, в первоклассной типографии: товар лицом!
Самого Плюшара не оказалось дома: принял Гоголя фактор.
– «Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова. Писано в 1827 году», – вполголоса прочел он на заглавной странице поданной ему тетрадки, перевернул страницу, заглянул и в конец. – Да ведь рукопись ваша не была еще в цензуре?
– Нет.
– А без цензорской пометки, простите, мы не вправе приступить к печатанию.
– Цензор-то наверняка пропустит: содержание ничуть не вольнодумное.
– Почем знать, что усмотрит цензор: вон Красовский – так тот «вольный дух» даже из поваренной книги изгнал! Впрочем, условиться можно и до цензуры. Каким шрифтом будете печатать?
– А право, еще не знаю… Мне нравится самый мелкий шрифт…
– А я советовал бы вам взять шрифт покрупнее да формат поменьше: иначе книжечка ваша выйдет чересчур уж жидковата.
Перед молодым писателем развернулся огромный фолиант с образцами всевозможных шрифтов. У него и глаза разбежались. Как тут, ей-Богу, выбрать? После долгих колебаний выбор его остановился все-таки на излюбленном его шрифте – самом бисерном петите, формат же он принял предложенный фактором – в двенадцатую долю листа.
– Останетесь довольны, – уверил фактор. – Покупатель только взглянет – не утерпит: «Экая ведь прелесть! Надо уж взять». И будет разбираться экземпляр за экземпляром, как свежие калачи, нарасхват. Не успеете оглянуться, как все уже разобраны, приступайте к новому изданию. А вы, господин Алов, сколько располагаете на первый раз печатать: целый завод или ползавода?
Гоголь был как в чаду. С ним трактовали самым деловым образом, как с заправским писателем, предрекали уже второе издание… Только что такое «завод»? Черт его знает!
– Все будет зависеть от того, во что обойдется издание, – уклонился он от прямого ответа. – Не можете ли вы сделать мне приблизительный расчет?
– Извольте. Бумага ваша или от нас?
– Положим, что от вас.
– В какую цену?
– Да так, видите ли, чтобы была не чересчур дорога и чтобы все-таки вид был.
– И такая найдется; хоть и не веленевая, а вроде как бы.
Карандаш фактора быстро вывел ряд цифр.
– Рублей этак в триста вам станет, если пустить ползавода в шестьсот экземпляров. Но я на вашем месте печатал бы полный завод. Весь расчет в бумаге.
– А уступки не будет? Фактор пожал плечами:
– У нас прификс!
– Но я печатаю в первый раз, и средства мои…
– Переговорите в самим господином Плюшаром; но и он вряд ли вам что уступит. Наша фирма не роняет своих цен. Однако ж печатать-то мы можем во всяком случае не ранее разрешения цензуры. Угодно, мы отошлем рукопись от себя; но тогда она, чего доброго, залежится до осени.
– До осени!
– Да-с, время ведь летнее; цензоры тоже по дачам…
– Так что же, Боже мой, делать?
– А сами попытайтесь снести к цензору на квартиру. Оно хоть и не в порядке, но цензор Срединович, например, авось, не откажется прочесть вне очереди до переезда на дачу.
– Срединович? – переспросил Гоголь. – Но мне, кажется, говорили, что это старый ворчун…
– Ворчун-то ворчун, но вы не очень пугайтесь: не всякая собака кусает, которая дает.
Предупреждение фактора было не лишне. Один внешний вид цензора, который сам открыл дверь Гоголю, мог хоть кого запугать.
«Ай да голова! – сказал себе Гоголь, увидев перед собою голову с ввалившимися глазами и щеками и всю опутанную не столько густым, сколько запущенным бором волос. – Точно ведь дворовые ребята играли ею в мяч, пока не забросили на чердак, и пролежала она там в самом дальнем углу Бог весть сколько лет и зим в пыли, с разным старым хламом, и крысы ее кругом обглодали…»
– Ну-с? – сухо спросил владелец этой головы, окидывая молодого посетителя исподлобья враждебно-подозрительным взглядом и не пропуская его далее прихожей.
– Я имею честь говорить с господином цензором Срединовичем?
– Имеете честь! Верно, опять с рукописью?
– Да, но с самою маленькою…
– С маленькою или большою – не в этом дело. Извольте обратиться по принадлежности в цензурный комитет.
– Но в типографии меня обнадежили, что вы будете столь милостивы…
– В типографии! В какой типографии? Уж не Плюшара ли?
– Именно Плюшара.
– Так я и знал! Вечно та же история! Они меня изведут… Надо положить этому предел!
– Но мне, господин цензор, уверяю вас, ужасно к спеху, и потому только я осмелился…
– Всем господам авторам одинаково к спеху!
– Но иному, согласитесь, все же может быть спешнее? Ваше превосходительство! У вас, верно, есть тоже матушка?
Цензор с недоумением уставился на вопрошающего.
– Что-о-о?
– Матушка у вас ведь есть?
– Странный вопрос! У кого же ее нет?
– Но жива еще, надеюсь? Живет даже, может быть, с вами?
– Хоть бы и так; однако…
– Дай Бог ей долгого веку! Вы ее, конечно, любите, почитаете тоже, как подобает примерному сыну?
– Но, милостивый государь! – нетерпеливо перебил цензор. – Я решительно не понимаю…
– Сейчас поймете, ваше превосходительство, сию минуту! Поймете святые чувства, одушевляющие такого же сына. У меня тоже есть мать, отца – увы – я лишился еще четыре года назад, и я у нее одна надежда и опора. До сих пор, до окончания мною учебного курса, она имела от меня одни заботы; теперь я оперился и хотел бы представить ей в том наглядное доказательство, хотел бы показать, что могу обратить на себя внимание тысячи образованных людей, подобно… не говорю Пушкину, а все же…
Мрачные черты цензора осветились, как мимолетным лучом, снисходительной усмешкой.
– Лавры Мильтиада не дают спать Фемистоклу! – проговорил он. – Вы еще нигде не печатались?
– Как же: в журналах… но пока без подписи.
– Зачем же без подписи? Одни искусственные цветы дождя боятся. Верно, стишки?
– Да. И это вот у меня тоже стихотворная поэма.
– Так, так. Нет, кажется, на свете грамотного юноши, который не садился бы раз на Пегаса. Но из сотни этаких всадников один разве усидит в седле. Впрочем, если журналы действительно не отказывались вас печатать, то кое-какие задатки у вас, пожалуй, есть. Так и быть, сделаю для вас исключение. Рукопись с вами?
Гоголь подал рукопись и рассыпался в благодарностях.
– Хорошо, хорошо. А адрес ваш здесь показан?
– Да… то есть на обороте вот показано, у кого обо мне можно навести справку.
Цензор прочел написанное на обороте: «Об авторе справиться у Николая Васильевича Гоголя, по Столярному переулку, близ Большой Мещанской, в доме Иохима».
– Но нам нужен ваш собственный адрес. Вас зовут, я вижу, Аловым?
Гоголь покраснел и замялся.
– Н-нет… это псевдоним.
– Что ж, свое имя вам слишком дорого для этих стихов, или стихи эти слишком хороши для вашего имени? Я надеюсь, что вы не скрываетесь от полиции?
Гоголь принужденно рассмеялся.
– О нет! Я готов назваться вам, если без того нельзя, но только вам одним. Меня зовут… Гоголем.
– Николаем Васильевичем?
– Николаем Васильевичем. Цензор опять улыбнулся.
– У вас же, значит, о вас и справиться? Улыбнулся и Гоголь.
– У меня: чего уж вернее? Так когда разрешите зайти?
– Зайдите в конце той недели.
– Ой, как долго! Ведь тетрадочка совсем, посмотрите, тоненькая, да еще стихами… нельзя ли завтра или хоть послезавтра?
– Так скоро не обещаюсь…
– Ну, так дня через три? Будьте великодушны! Вам даже прямой расчет: скорее развяжетесь с надоедливым человеком.
– Хорошо; но вперед говорю: не отвечаю.
– И за то несказанно благодарен! Но у меня к вашему превосходительству еще одна просьбица, маленькая, малюсенькая, ничуть для вас не обременительная.
– Что еще там? – с прежнею резкостью проворчал цензор, снова нахмурясь.
– Будьте добры передать вашей досточтимой матушке заочный поклон от неизвестного ей юноши, который имеет вдали, в глухой провинции, столь же любимую матушку, денно и нощно воссылающую также молитвы к Всевышнему о здоровье своего первенца.
Цензор зорко заглянул в глаза молодого провинциала: что он, издевается, что ли? Но выражение лица юноши было так простосердечно, что складки на лбу цензора сгладились, и он протянул наивному провинциалу руку.
– Передам, извольте. Вы, верно, малоросс?
– Малоросс.
– По всему видно. Сюжет у вас тоже из малороссийского быта?
– Нет, из немецкого.
– Что такое? Вы, может быть, побывали уже в Германии?
– Нет еще, но собирался…
– И изучили немцев по книгам? Этого мало, слишком мало. Удивляюсь я вам, право! Когда у вас под рукой такой богатый, нетронутый источник, как Малороссия с ее своеобразными обычаями, поверьями; только бы черпать… Впрочем, навязывать автору сюжеты не следует; пишите о том, что вам Бог на душу положит. До свиданья.
Что значит иной раз случайно брошенная, но плодотворная мысль! На доброй почве она, как семя, может взойти пышным колосом, а там, год-другой, глядь, засеется от него и целая нива. Брошенная цензором мысль пала на такую добрую почву.
«И в самом деле ведь, – рассуждал про себя по пути домой Гоголь, – чем немцы взяли перед хохлами? Клецками, что ли, и пивом? А где у них наши бесподобные „вареныки-побиденыки“, где малороссийское сало, которое во рту так и тает, что помадная конфетка, но в котором они, дурни, даже вкуса не смыслят? А наливки вишневые, черносмородинные, сливовые, персиковые и черт знает еще какие? А парубки и дивчины с их звонкими песнями и раскатистым смехом, с их играми и колядками? А казацкая старина и всякая народная чертовщина? А степь раздольная, неоглядная, украинская лунная ночь, дивно-серебристая, теплая и мягкая, сказочно-волшебная?..»
Спавшие где-то в глубине памяти юноши чувства, свежие впечатления детства внезапно проснулись, оживились, и в тот же день неотосланное еще письмо к матери дополнилось следующими строками:
«Теперь вы, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажете сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как все это называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов: я думаю, Анна Матвеевна или Агафья Матвеевна[8] много знают кое-чего из давних лет. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей. Об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут? прозвание не помню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, по-видимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале и о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами… Все это будет для меня чрезвычайно занимательно… Еще прошу вас выслать мне две папенькины малороссийские комедии: „Овца-собака“ и „Роман и Параска“»…
Просить ли также о деньгах на печатание «Ганца»? Всего два дня назад ведь пришел от нее денежный пакет, да с жалобой, что едва-едва собрала столько. Нет, зачем огорчать ее, бедную, преждевременно, без крайней нужды? Обождем до последней минуты; ну, а там, если не будет уже другого исхода… Посмотрим сперва, что скажет цензор.
Цензор разрешил зайти за рукописью через три дня: ровно через три дня в тот же час Гоголь был опять у его двери. Отворила ему на этот раз горничная.
– Вам барина? Они на службе в комитете.
– Но не оставил ли он для меня рукописи?
– А ваша фамилия? Гоголь назвался.
– Кажись, есть что-то. Сейчас вызову старую барыню.
Барыня оказалась не только старою, но археологическою древностью. Шаркая по полу нога за ногу, она с видимым усилием приплелась до прихожей; дряхлая голова ее в чепце фасона времен Директории колыхалась на плечах, – того гляди, отвалится; но, благодаря чепцу, ее скомканный до безличия облик все-таки не пугал, подобно «чердачному» облику ее сына. Когда же на вопрос ее, не от него ли, Гоголя, был передан ей сыном намедни поклон он дал утвердительный ответ, поблекшие до цвета пергамента черты старушки озарились даже как будто розовым отблеском.
«Руина при закате солнца», – сказал себе Гоголь и спросил вслух, не для него ли сверток, который был у нее в руках?
– Для вас, голубчик мой, для вас, – прошамкала беззубым ртом старушка. – Господь благослови вас!
Странно, но это вполне, очевидно, чистосердечное благословение отходящего из мира существа тронуло Гоголя, и он как-то невольно, безотчетно приложился губами к сморщенной ручке, подававшей ему сверток.
– А не велел ли сын ваш передать мне что-нибудь на словах?
– Велел, родимый: чтобы вы взяли хорошего корректора. Непременно возьмите! Не всякому же далась грамота.
Кровь поднялась в щеки Гоголя.
– И больше ничего?
– Говорил-то он еще… Да нет, зачем, зачем! Ступайте с Богом!
– Нет, сударыня, теперь я убедительно прощу вас сказать все.
– Ох, ох! Коли вы сами того желаете… Он находит, что лучше бы вам вовсе не писать стихов, а коли все ж таки не можете устоять, то и впредь не подписывали бы под ними своего настоящего имени… Нет, не сердитесь, миленький, не сердитесь на него! – всполошилась добрая старушка, увидев, как все лицо молодого стихотворца перекосило. – Может, он на этот раз и ошибается. Уповайте на милосердие Божие…
Она продолжала еще что-то, но Гоголь без слов откланялся и был уже на лестнице.
И дернуло же умного человека давать дурацкие советы! Ну что смыслит он в поэзии, этакий книжный крот?
Печной горшок ему дороже:
Он пищу в нем себе варит.
Вот будет напечатано, так посмотрим, что скажут истинные ценители! А теперь к Плюшару.
На этот раз Плюшар оказался на месте. Чернявый, вертлявый француз принял Гоголя как старинного заказчика. Однако на требование что-нибудь сбавить он отвечал вежливым, но решительным отказом.
– Monsieur напрасно жалеет своих денег, – убедительно говорил он, без запинки мешая русскую речь с французского. – Во всем Петербурге, а стало быть, и во всей России никто вам так не напечатает. А хорошо отпечатанная книга – что хорошо поданное блюдо: благодаря уже своей вкусной сервировке возбудит хоть у кого аппетит.
– А как насчет уплаты? Я ожидаю еще денег из деревни…
– О! На этот счет monsieur может не беспокоиться. Печатание и брошюровка возьмут все-таки месяц времени: тогда и рассчитаемся. А корректуру держать будет сам monsieur?
– Корректуру?.. – повторил Гоголь и невольно поморщился: ему припомнился совет «книжного крота». – Корректор у вас ведь, вероятно, надежный?
– Чего лучше: студент-словесник.
– В таком случае присылайте мне одну только последнюю корректуру – так, знаете, для очистки совести.
– Как прикажет monsieur. Значит, рукопись можно сдать и в набор?
– Да, попрошу вас.
Так рукопись стала набираться, и только третья корректура каждого листа присылалась автору «для очистки совести». Но так же совесть не давала ему еще писать матери о высылке необходимых для расплаты с типографией трехсот рублей. Наконец, однако, скрепя сердце пришлось взяться за перо.
«Я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более. Дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь; тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь 300 рублей».
Сознавай он в самом деле, как огорчат его мать эти строки, каких хлопот и лишений будет стоить ей добыть для него требуемую сумму, – как знать, не отказался ли бы он от самого издания книжки? Но узнал он о том только из ее ответного письма, к которому были уже приложены просимые триста рублей. Ужели же тотчас отослать их обратно? Книжка ведь уже отпечатана: рассчитаться с мосье Плюшаром, так ли, сяк ли, надо. Но скоро, скоро маменька будет утешена, вознаграждена за все сторицей…
И он рассчитался с Плюшаром до копейки, поручив ему развезти книжки по книжным магазинам; несколько экземпляров только он взял домой для рассылки от себя по редакциям журналов и самым известным литераторам, адреса которых он узнал в магазине Смирдина. К немалой его досаде, Пушкин был в отлучке в действующей армии на Кавказе. Благо хоть Жуковский и Плетнев, эти два покровителя начинающих талантов, были еще в Петербурге.
– А пани, чи то барыне в Васильевку, сколько штук мы отправим? – спросил Яким, помогавший барину при упаковке.
– Пока ни одной.
– Как ни одной!
– Есть, знаешь, поговорка: «сиди под кустом, позакрывшись листом», и другая: «жди у моря погодки».
– Да чего ждать-то?
– Погодки.
Яким головой покачал: чудит, ей-Богу, барин! Но вскоре барин с своей книжкой так зачудил, что окончательно сбил его с толку.
8
Родные тетки М. И. Гоголь.