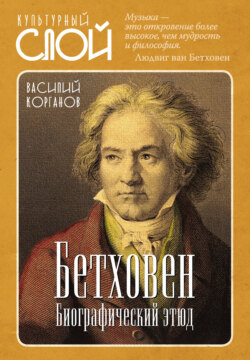Читать книгу Бетховен. Биографический этюд - Василий Давидович Корганов, В. Д. Корганов, Василий Корганов - Страница 5
Глава III
1796–1802
ОглавлениеВнешность и нрав. – Бетховен как виртуоз и импровизатор. – Отношение к меценатам. – Лихновский, Разумовский, Лобкович, Кинский, Тун. – Создание первых квартетов. – Друзья и приятели. – Барон Цмескаль. – Глухота. – Джульетта Гвичиарди. – Хеилигенштадтское завещание.
Немало существует портретов Бетховена; большинство их – плод фантазии художников, снабжавших внешность композитора чертами и красками, более соответствовавшими звукам 5 или 9 симфонии, квартета ор. 132 или сонаты ор. 57, нежели реальной действительности.
Подлинными, т. е. списанными с натуры, можно считать следующие изображения:
1) силуэт, относящийся к 1786 году, работы Низена;
2) портрет работы Штейнхаузера, гравированный Недлем около 1801 года;
3) портрет работы Хорнемана в 1802 году;
4) портрет, принадлежащий кисти неизвестного художника и находящийся в галерее графов Брунсвик;
5) полупоэт, полумузыкант, полухудожник Мелер изобразил композитора в 1804 году сидящим под сенью дерева; он держит левой рукой лиру, выступающую темным пятном на фоне серого плаща; пальцы правой руки странно растопырены в воздухе. Перед окончанием работы художника композитор писал ему:
1804 г.
Любезный Мелер.
Очень прошу возвратить мой портрет, как только он не будет нужен более вам, если же имеете еще надобность в нем, то прошу, по крайней мере, поспешить, я обещал его одной приезжей даме, которая видела его у меня, на время ее пребывания здесь в течение нескольких недель поместить в ее комнате. Кто может противостоять таким очаровательным требованиям, и часть милостей, которые благодаря этому перепадут мне, конечно, разделю с вами.
Весь ваш Бтхвн.
Этот портрет – единственная бетховенская реликвия в доме Габриеллы Хеймлер, дочери Карла Бетховена (племянника композитора), с которым познакомимся ниже;
6) молодой художник Людвиг Шнор фон Карольсфельд изобразил в 1808 году Бетховена карандашом в альбоме Терезы Мальфати, причем портрет композитора напоминает обычный тип того времени: с туго затянутым галстуком, сильно накрахмаленным воротником и модными тогда бакенбардами;
7) в 1812 году скульптор Клейн, по просьбе фортепианного фабриканта Андрея Штрейхера, не без труда склонил Бетховена снять с него маску, ныне весьма популярную, а затем изготовил бюст для коллекции Штрейхера;
8) французский художник Летрон, отец известного археолога, в 1814 г. написал портрет, гравированный Хефелем;
9) в 1815 году Мелер вновь пишет портрет, еще менее удачный и проданный лишь по смерти художника (1860 г.) профессору Караяну в Вене;
10) в том же 1815 году Хеккель прескверно изобразил Бетховена масляными красками;
11) через три года, в 1818 году, появился более удачный портрет работы Клебера, которому с таким же трудом довелось иметь несколько сеансов, как и всем другим художникам;
12) в 1810 году, по настоянию Шиндлера, художник Шимон стал посещать композитора с целью изобразить на холсте его львиную голову; Бетховена, увлеченного в это время сочинением Messa Solemnis, эти сеансы, конечно, раздражали, и он вскоре отказался позировать; тогда художник стал приходить и работать незаметно для композитора; последний не отрывал глаз от нотной бумаги, а Шимон молча входил, располагался за холстом и продолжал живопись, стараясь уловить взор композитора в те минуты, когда в нем вспыхивало пламя вдохновения. Так же молча, без приветствия, без прощания, уходил Шимон и возвращался к Бетховену, постепенно создавая наиболее удачный и распространенный ныне портрет, оригинал которого хранится в Бонне;
13) больше терпения проявил Бетховен в 1820 году, когда Штилер писал с него портрет, выдающийся художественными достоинствами, но не сходством.
14) портрет работы Дитриха (1821 г.);
15) гипсовый медальон работы Бема (1823 г.), послуживший моделью для парижской медали работы Гатто, выбитой в 1829 г.;
16) Вальдмюллер в 1823 году успел только сделать набросок с натуры, после чего получил отказ позировать, и принужден был на память окончить заказанный ему портрет;
17) к тому же времени относится несколько набросков пером, сделанных Лизером;
18) портрет тушью работы Тейчека;
19) два эскиза Бема (1825 г.);
20) портрет работы Деккера (1826 г.);
21) маска, снятая Данхаузером с умершего композитора 28 марта 1827 года.
Судя по рассказам современников и по переписке композитора, существовало, кроме перечисленных, еще немало других изображений, а потому можно надеяться на благоприятные результаты деятельности исследователей, открывших в последнее время несколько новых портретов Бетховена и все еще продолжающих свои поиски.
Кому не знакома эта львиная голова с мягким, мясистым, широким и несколько плоским носом, с крепко сжатыми губами, с большим круглым лбом под длинными черными волосами, выглядывающая из миллионов рам во всех концах цивилизованного мира? Кто не знает этого грубо выкроенного и крепко сколоченного корпуса на массивных ногах, этих коротких четырехугольных в конце, как бы обрубленных, одинаковой длины пальцев рук; этого небрежного наряда, темно-зеленого или голубого цвета с большими медными пуговицами и широким белым галстуком? На светлом жилете близорукого композитора извивалась черная тесьма лорнета; войлочная шляпа, сдвигаемая постоянно на затылок, терлась о высокий воротник сюртука; из карманов выглядывали слуховая тpyбa, огромный карандаш, свертки нотной бумаги, под мышкой он часто носил палку или тетрадь, либо узелок вещей, совершенно чуждых музыке. Таким встречали Бетховена жители Вены сто лет тому назад, таким же мы видим его на рисунках.
Необыкновенные черты внешности композитора естественно гармонировали со странными выходками и эксцентричностью его натуры, проявлявшимися уже в первые годы пребывания в Вене.
Чтобы понять психологию Бетховена, множество противоречий и странностей в отношениях его к окружающим, достаточно вспомнить известный труд Цезаря Ломброзо («Гениальность и помешательство». СПб. 1895 г. Изд. Павленкова. – Это исследование богато фактами и смелыми выводами, хотя не лишено грубых промахов.), не только проводящего параллель между великими людьми и помешанными, но указывающего причины экстравагантности, мизантропии, мистицизма, хандры, постоянной неудовлетворенности большинства гениальных натур. Легко перечесть знаменитых писателей, артистов и художников, избежавших психического расстройства, ибо таковых было немного, «сумасшедшими» же, не без основания, можно считать почти всех великанов мысли, всех гениев, всех людей, щедро одаренных природой и тем возвышенных ей над толпой, над массой, нищей духом. Бетховена считали многие современники помешанным; такие же отзывы о нем можно встретить в наши дни, но не надо слепо поклоняться всем творениям его пера, чтобы протестовать против таких отзывов, ничуть, впрочем, не умаляющих бесподобных красот 5 или 6 симфонии, квартетов ор. 59 и увертюры «Эгмонт». Психическая ненормальность гораздо ярче выражалась в Ж. Ж. Руссо, Ньютоне, Шопенгауэре, Шумане, О. Конте, Т. Тассо, даже в Гете, нежели в Бетховене, до последних лет своей жизни проявлявшем лишь невинные, отчасти напускные, искусственные причуды в сношениях с окружающими; бутады же 9-й симфонии и последних квартетов едва ли можно объяснить исключительно ослаблением дарования и умственных способностей, так как в обыденной жизни композитора за последние шесть лет не было ничего более экстравагантного, нежели в молодости, а звуковые причуды вполне понятны в глухом музыканте-новаторе.
С личностью Бетховена, с его характером нас достаточно знакомят сотни его писем, приведенных в этой книге. Здесь мы видим перед собой поразительное сочетание великого и пошлого, легкомысленности и подозрительности, небрежности и щепетильности, полет в заоблачную сферу чистого искусства и пресмыкание среди жалких мелочей обыденной жизни, роковой союз – музы с кухаркой!.. Проводя детство среди нежных ласк матери и пинков пьяного отца, юноша переносится в Вену, где его окружают восторги высшей аристократии, где он пользуется вниманием знатных красавиц, на что отвечает непринужденностью, не стесняя себя ни в одеянии, ни в обращении; где сходится с приятелями так же быстро и легко, так же охотно признается им в дружбе и любви, как мечет громы и проклинает их спустя несколько лет и даже месяцев. Фактам, которые мы встретим ниже, и которые иллюстрируют личность нашего героя, предпошлем здесь несколько штрихов и эпизодов, отчасти анекдотического свойства, сообщенных современниками.
Часто переселяясь с одной квартиры на другую, Бетховен иногда возвращался в дом Пасквалати, находившийся против нынешнего университета, где из окон 3-го или 4-го этажа открывался чудный вид на окрестные холмы и пригороды, на Леопольдштат, на вершину Каленберга, на часть Пратера и берегов Дуная; чтобы расширить кругозор в этом последнем направлении, композитору пришла идея пробить отверстие в стене; кстати, соседний дом был только двухэтажный.
Не задумываясь над правами жильца, он призвал мастера, и раздались удары лома по кирпичам. Управляющий домом, услышав стукотню, явился остановить разрушение.
– Вы стесняете меня, – кричал взволнованный Бетховен, – я не могу располагать помещением, за которое плачу. Это интрига. Получите плату, я сегодня покидаю квартиру.
Лето 1800 года Бетховен провел в предместье Деблинг, он занимал здесь помещение из двух или трех комнат, имевшее общий коридор с соседней квартирой, где жила жена известного венского адвоката Грильпарцера с детьми, из коих один был впоследствии знаменитым поэтом. Бетховен тогда еще поддерживал свою виртуозную технику постоянной игрой; г-жа Грильпарцер подолгу простаивала за дверью артиста, наслаждаясь его исполнением, он, видимо, подозревал это и однажды, прервав игру, бросился к двери. Напрасны были извинения любопытной соседки; она уверяла, что это не повторится, что дверь ее в коридор будет заколочена, что вся семья будет ходить со двора и т. п., но «Великий могол» (как называл его Гайдн) остался непреклонен и перестал играть.
В 1803 году он жил в доме кн. Эстергази, где помещался также его старый друг Стефан Брейнинг, получивший должность «придворного секретаря»; чтобы сократить свои расходы, композитор вздумал однажды перебраться в комнату Брейнинга, не сообщив домохозяину об этом; при первом же требовании наемной платы наш неудачный финансист стал упрекать друга в том, что он не предупредил этого недоразумения и тем не избавил композитора от платежа за покинутую комнату. Напрасно оправдывался Брейнинг; композитор отказался жить под одной кровлей с предателем, немедленно забрал свои пожитки и переехал в Баден, кстати, дело было летом, поручив Рису нанять новое помещение в городе. Финансовые операции композитора, стремившегося к экономии, привели к тому, что летом этого года он занимал одновременно несколько квартир: одна была ему отведена в здании театра, как автору готовившейся к постановке оперы «Фиделио», другая – в доме Эстергази, третья – в Бадене, и четвертая была нанята для него Рисом. Но не всегда он покидал нанятое помещение добровольно; встречались хозяева, сами предлагавшие ему съехать с квартиры, причем главной причиной бывало наводнение, случавшееся часто в комнате композитора. Долгая напряженная работа вызывала в нем прилив крови к голове; мускулы лица вздувались, лихорадочно блестевшие глаза выступали из орбит, он сбрасывал с себя одежду, белье и обливался холодной водой, струившейся с него по всем углам комнаты и проникавшей неожиданным душем к обитателям следующего нижнего этажа.
Склонный к правильному и скромному образу жизни, Бетховен порой, в особенности в годы глубоких сердечных увлечений и посещения великосветских салонов, бывало, проводил ночи за композицией; в счетах, относящихся к этим периодам ночных занятий и усиленных омовений, встречаются значительные расходы на мыло и на сальные свечи.
Постоянно озабоченный поисками новой квартиры, с восторгом вступавший в каждое нанятое помещение, он быстро разочаровывался в его удобствах, жаловался на недостаток воздуха и света, на скверный вид из окон; только дом Пасквалати удовлетворял его и часто он возвращался сюда, но все же не мог поселиться здесь надолго.
Скитание по квартирам или одновременное содержание нескольких было, конечно, в ущерб его кошельку, а жизнь в Вене, в период наполеоновских войн, с каждым годом становилась дороже, и вследствие пошатнувшихся финансов Австрии за гульден ассигнацией давали не 100, а лишь 60 крейцеров звонкой монетой. Денежные средства Людвига были всегда ограничены, и относился он к ним либо расточительно, либо скаредно; если кошелек был легок, то владелец его обращался в мелочного, противного скрягу, когда же туда попадали флорины от издателей или с концерта, то выдавались щедрые пособия братьям и удовлетворялись ничтожные прихоти владельца и его приятелей. Не раз высказывал он отвращение к установившемуся обычаю продажи произведений искусства издателям; этот процесс естественно ставит жреца муз в положение торгаша, что, конечно, было противно нашему композитору.
«Я желал бы, – говорил он, – никогда не торговаться с издателем относительно моих произведений; клянусь, я не заставил бы просить себя о работе, если бы нашелся человек, относящийся ко мне с доверием и обеспечивший мое существование, за что располагал бы решительно всеми моими композициями. Не таковы ли были отношения Гете к Котта. Кажется, Гендель заключил такой же договор со своим английским издателем…»
За первые произведения Бетховена издатели платили ему довольно щедро, гонорар соответствовал степени популярности и славы молодого артиста, хотя критика нередко осуждала его композиции, например: фирма Брейткопф и Хертель, сама же издававшая лейпцигскую Allg. Music-Zeitung, платила Бетховену гонорары, далеко не соответствовавшие отзывам «лейпцигских быков» ее газеты: 20 дукатов, полученные Бетховеном за фортепианную сонату ор. 22, представляют по тем временам большую сумму; ведь это составляет около 60 рублей и, если принять во внимание, что жизнь в Вене ныне почти в 10 раз дороже, чем была сто лет тому назад, до нашествия Наполеона, то такой гонорар мог бы вполне удовлетворить самого требовательного автора. Тогда можно было получить в ресторане завтрак с обильным количеством пива за 12 копеек, а одинокому артисту достаточно было 20 рублей жалованья в месяц. Впоследствии гонорар стал еще выше: за сонату он получал около 100 руб., за квартет – около 150 руб., за симфонию – 200 руб., за романсы – по 10–20 руб., за оперу и мессу предлагали ему по 1000 руб., за четырехручную сонату – 250 руб. и т. п. Не мог Бетховен пожаловаться и на сборы с концертов, которые устраивал почти ежегодно, например: с концерта 5 апреля 1803 года он получил чистого сбора 1800 гульденов, но много вредила плотности кошелька рассеянность композитора. Гуляя по полям и лесам, он не раз забывал там шляпу или сюртук, а однажды, растянувшись на гласисе бастиона, он подложил под голову свое пальто и вернулся домой, оставив за городскими воротами, в кармане пальто, весь сбор с последнего своего концерта. В другой раз, бродя по окрестностям Бадена, Бетховен забрел поздно вечером в Нейштат и стал обращаться к встречным с просьбой указать ему путь к Бадену; вид невзрачного и назойливого прохожего с растрепанными волосами и без шляпы, забытой, вероятно, в какой-нибудь роще, обратил на себя внимание полиции, забравшей на ночь неизвестного бродягу на казенную квартиру. Бетховен, конечно, шумел, кричал, требовал пристава, но последний предпочел ужин с приятелями в ресторане, а с заключенным решил объясниться на следующее утро.
Поздно ночью вспомнил Бетховен о музик-директоре Херцоге, проживавшем в Нейштате. Стража уступила требованиям композитора и отправилась будить его коллегу, очень польщенного представившимся случаем освободить знаменитого «Великого могола» из плена.
В ресторан он являлся со своей записной книжкой и, пока другие посетители беседовали за чашкой кофе или кружкой пива, он углублялся в свою работу; уходил он лишь тогда, когда зал пустел, причем случалось, что звал слугу для расплаты, хотя ничего не требовал.
Часть лета 1821 года он провел в Бадене, против гостиницы «Орел», на Ратхаусгассе, в доме под № 94. Прежде чем нанять эту квартиру, композитор позавтракал в гостинице, когда же явился к хозяйке и, сговорившись с ней, хотел вручить задаток, то был задержан городовым и слугой из гостиницы, заявившим, что господин сей не уплатил по счету завтрака и почему-то оставил в ресторане свою шляпу. В участке выяснилось недоразумение, бывшее последствием рассеянности композитора, но этим не кончились его приключения: придя опять к хозяйке, он стал уверять, что уже выдал задаток; она готова была избавиться от незнакомца, явившегося сначала без шляпы, а потом взводившего на нее поклеп, но композитор заглянул в кошелек, нашел ассигнацию в 10 фл., предназначенную для задатка, вручил ее и таким образом обеспечил себе квартиру. Спустя несколько дней, переселившись сюда, герой наш заперся в отхожем месте и, увлеченный набрасыванием эскизов на стенах будки, просидел там до тех пор, пока нетерпеливая соседка не стала стучать в дверь.
– Ну, ну, иду! – ответил он, прекратив композицию.
Рассеянность Бетховена распространялась также на его произведения; написав первую часть (Kyrie, 1818 г.) своей «Торжественной Мессы» (ор. 123), он сунул ее между кипами печатных и рукописных нот, разбросанных в поэтическом беспорядке, несмотря на все заботы Ф. Риса. В поисках этой пьесы, перерыв все в комнате, он, наконец, отправляется в кухню, где находит ее старательно постланной кухаркой под свежим сливочным маслом.
В другой раз рукописи случайно остаются у приятелей или, вместе с ненужными бумагами, летят в пламя печки; то он роняет их и теряет во время прогулки, чему способствуют его неуклюжесть и неловкость; то ставит свою чернильницу на край рояля и к концу работы находит ее на струнах; то, сочиняя балетную музыку, в порыве увлечения, вскакивает, чтобы проделать какое-нибудь па, но неповоротливому композитору не удается сделать двух шагов в такт, то, не дождавшись парикмахера, нетерпеливый артист берется сам за бритву и кромсает себе щеки; однажды его застает за такой работой Ф. Рис, возвратившийся из дальней поездки; обрадованный его приездом, Бетховен роняет зеркало, бритву, стул и с намыленным лицом бросается целовать своего ученика…
Небрежность и неряшливость проявлялись также в отношениях к издателям; добившись, после продолжительной переписки или переговоров, определенного срока доставки рукописи и выпуска издания из печати, Бетховен нередко опаздывал, откладывал отсылку рукописи, вызывая тем заслуженные упреки и недоверие издателей, а затем рассыпался перед ними в отговорках и оправданиях своей неисправности, обращаясь с извинениями в таком унизительном и заискивающем тоне, какой только могли вызвать в нем сознание своей вины и материальная нужда.
Вставал он обыкновенно с рассветом и тотчас садился за письменный стол; до 2 или 3 часов дня он работал с 2–3 перерывами по одному часу, когда выходил, несмотря на погоду, пройтись по городу; затем отправлялся в ближайший ресторан; прежде чем заказать себе обед, выпивал стакан местного вина, справлялся об излюбленных им рыбных блюдах и супах, пробуя иногда последние к великой досаде ресторатора. К обеду он постоянно старался зазвать в ресторан нескольких приятелей, так как после 8–9 часов, проведенных в одиночестве, испытывал потребность в развлечении за обеденным столом. После обеда композитор охотно гулял, а свободные от концертов и приглашений вечера проводил у себя за чтением книг; композицией в это время он редко занимался и старался не позже 10 часов вечера быть уже в постели.
Избегая обедов у знатных меценатов, куда следовало являться в парадном виде, он не всегда был доволен также ресторанной едой и предпочитал собственный домашний стол; однако требования его к кухарке бывали настолько странны и назойливы, что борьба с ней была непрерывна в продолжение долгих лет. Как-то, пригласив к себе приятелей на новоселье, он завел обычную ссору на кухне, после чего кухарка бросила в него свой передник и ушла из дома. Бетховен ничуть не смутился: заварил суп, нарезал жаркое и поднес все это гостям в таком виде, что те принуждены были уклониться от угощения.
– Не взыщите, – шутил хозяин, – легче импровизировать вариации, нежели блюда.
Любимым кушаньем Бетховена была изобретенная им похлебка с сырыми яйцами; он сам разбивал, обнюхивал и выливал в суп каждое яйцо; ежели яйцо оказывалось несвежим, то летело в голову многострадальной кухарки, не всегда остававшейся в долгу и отвечавшей либо бранью, либо иными метательными снарядами домашнего обихода.
Вообще первому блюду, т. е. супу, Бетховен отдавал предпочтение перед прочими: «кто не умеет сварить хорошего супа, – говаривал он, – тот не заслуживает доверия». В одной из разговорных тетрадей, с помощью которых оглохший композитор в 1823 году вел беседу с окружающими, племянник Карл обращается не раз к нему с такими выражениями:
– Слишком много воды.
– Слишком много воды, больше ничего.
– Слишком слаб.
– Пожалуйста, дай твоему доктору Штауденхейму попробовать суп; о, прошу тебя!
– Так не сердись, если я иного мнения, или не спрашивай.
– Я тоже думаю, что он лучше.
– Воды много в нем, но на вкус недурен.
– Если она хочет этого, то пусть идет.
– Я не нуждаюсь в г-же ф. Штрейхер.
– Я ничего не вижу плохого в супе, но много воды.
– Так ты никогда не спрашивай моего мнения.
– Пожалуйста, докажи… и т. п.
Макароны, обильно посыпанные сыром (пармезаном), и рыбное блюдо, в особенности дунайская шиль, были также излюбленными яствами нашего композитора. Чистую ключевую воду и кофе он предпочитал всем другим напиткам; кофе он варил сам, причем отсчитывал на каждую чашку по 60 зерен и делал это не торопясь, если даже у него сидели гости в ожидании угощения. Порок отца и бабушки миновал его, он избегал спиртных напитков. Иногда вечерком заходил он в ресторан, с трубкой в зубах и за кружкой пива или стаканом вина читал «Аугсбургскую газету», беседовал о новостях дня, о политике, о будущности Европы, взбаламученной героем его 3-й симфонии; такое времяпровождение нередко сменялось здесь же набрасыванием точек и линий в записной книжке.
Не предаваясь серьезным размышлениям о государственном устройстве, о разновидностях правлений, Бетховен представлял себе республиканский строй наиболее совершенным; его восхищали герои французской революции и юных еще Соединенных Штатов Северной Америки; он зачитывался биографиями великих римлян в изложении Плутарха; бюст Брута, избавившего страну от деспотизма Цезаря, красовался на его письменном столе; он идеализировал этих героев, боготворил их, приходил в экстаз при воспоминании о них и в увлечении всем возвышенным, благородным готов был заключить в свои объятия «весь мир, друзей и братьев, и всю природу».
Любвеобильное сердце Бетховена было постоянно в плену у женщин; он не пропускал ни одного миловидного личика, лорнировал каждую девицу, на улице или в театре, но к замужним относился только с почтением, брак был для него актом священным, а приятелей, нарушивших священный союз, он бранил беспощадно и единственную свою оперу написал на тему супружеской любви, верности и самопожертвования, на тему наказанного порока и торжествующей добродетели; его целомудрие в этом отношении доходило до того, что он не раз выражал удивление относительно боготворимого им Моцарта, создавшего оперу на столь безнравственный сюжет, как «Дон-Жуан». В связи с таким пуританизмом находится философский деизм, заменивший Бетховену религиозность католика; последняя не удовлетворяла великого романтика и индивидуалиста; библию ему заменяла книга Христиана Штурма (1740–1786 г.) «Размышления о делах Божьих в природе» (1775 г.); это был пантеист, не лишенный склонности к мистицизму. Случайно встретив один из трудов знаменитого египтолога Шампольона (1790–1836 г.), заключавших в себе надписи, найденные в одном из древних храмов Египта, Бетховен выписал несколько изречений, вставил в раму, под стекло, и повесил над своим письменным столом, до последнего дня жизни повторяя их:
«Я есмь сущее. Я есмь все настоящее, прошлое и будущее; рука смертного не подымала моей завесы. Оно предвечно, и ему обязано все своим бытием».
В Вене молодому Бетховену, конечно, тягостнее, чем в Бонне, было сознание недостаточного образования, и он принимает меры пополнить его; незнакомство с теорией словесности затрудняет ему чтение стихов и композицию вокальных произведений, поэтому он создает себе целый ряд упражнении, списывает множество стихотворений, расставляет знаки просодии, но, видно, стыдясь посторонних указаний, старается достичь успеха самоучкой. В записной книжке его за 1792 г. значатся названия книг: «Элементарный учебник бухгалтерии» Шульца и «Приготовительные упражнения для конторщика», которые Людвиг, вероятно, хотел приобрести, с целью облегчить себе счетоводство, затруднявшее его вследствие плохого знания четырех правил арифметики. Насколько мало помогли Бетховену названные руководства, можно судить по его позднейшим приемам умножения: чтобы умножить 22 на 44, он писал 22 в столбец 44 раза и складывал эти числа; такими выкладками бывали испещрены листы бумаги, памятные книжки, столы, подоконники и ставни его квартиры. Приятели знали, что умножение для Бетховена представляется занятием весьма затруднительным, а потому, в случае назойливых вопросов его о каком-нибудь расчете, выкладке или вычислении удачно парализовали любознательность его двумя словами: Per multiplication.
Литературой, в особенности классической, он увлекался всегда, но иностранных авторов читал в переводе, так как свободно владел только своим родным языком, впоследствии кое-как объяснялся по-французски, а по-итальянски и по-английски знал лишь несколько общеизвестных выражений; в составлении иностранных писем и в иных работах, связанных с непонятным для Людвига языком, ему обычно помогали приятели (Хаслингер, Цмескаль и др.).
В литературе первым его увлечением была «Мессиада» Клопштока, потом «Фауст» и другие произведения Гете. – «После поездки в Карлсбад, – говорил Бетховен известному музикологу Рохлицу, – я ежедневно читаю Гете. Он убил во мне Клопштока. Вас удивляет? Вы смеетесь? Неужели? Вы же читали Клопштока? Конечно!.. Долгие годы я носил его с собой на прогулки. Не стану утверждать, что я всегда понимал его. Он иногда делает неожиданные отступления и вообще подходит ко всему издалека. Всегда maestoso, всегда в Des-moll. Впрочем, он велик, его стих возвышает душу. Когда я не понимал, то угадывал его. Неприятно только, что он постоянно ищет смерти. Но ведь, Боже мой, смерть сама является всегда слишком рано!..»
Зачитываясь также произведениями Шиллера, Маттесона, Грильпарцера и других знаменитых современных ему немецких поэтов, Бетховен, однако, предпочитал им трех гениев: Гомера, Плутарха и Шекспира. Спокойное настроение и великолепие «Одиссеи» нравились ему более, чем однообразные эффекты «Илиады»; в «Биографии великих людей» Плутарха его занимали герои-освободители народа от деспотизма тиранов, т. е. сторона не эпическая, а социальная. Полное собрание сочинений Шекспира в переводе Эшенбурга было найдено среди немногочисленных книг нашего композитора, по его смерти, в истрепанном виде и со множеством отметок. Так недостаток подготовки образования не помешал ему чутьем найти то, что есть высшего в области поэзии: драмы Шекспира и поэмы Гомера. Тем не менее постоянное чтение не помогло ему в отношении связности изложения своих мыслей и правильной орфографии. Тяжелая семейная обстановка в отчем доме, а затем неудачи и не менее тягостные условия последующей жизни развили в Людвиге упрямство, ожесточенность, скрытность, замкнутость; он очень редко и неохотно выражал устно и даже в многочисленных письмах свои сокровенные думы, намерения, вкусы, взгляды; все это бессознательно, невольно выливалось или отражалось в его гармониях и мелодиях, но почти никогда не укладывалось в связную речь. Не сомневаясь в том, что многие из его писем станут достоянием всего цивилизованного мира, он тем не менее никогда не задумывался над отделкой их в грамматическом или стилистическом отношении, также непринужденно обращался он иногда письменно к некоторым лицам на французском языке, хотя владел им прескверно.
Музыкальные симпатии Бетховена отчасти соответствовали литературным: из богатейшей итальянской музыки он знал, кажется, только несколько произведений Палестрины, Витториа и Нанини, изданных в 1824 году у Артариа (на средства барона Тухера) и найденных среди нот нашего композитора; там же нашлись некоторые сонаты и отрывок из «Дон-Жуана» Моцарта, фортепианных вещей которого он вообще недолюбливал. На закате своих дней он получил в подарок полное собрание сочинений Генделя, величественный стиль которого приводил его всегда в восхищение.
– Гендель, – говорил он, – неподражаем, это гений из гениев. У него следует учиться искусству создавать потрясающие эффекты самыми скромными средствами.
Из произведений Баха он предпочитал «Темперированный клавесин», да несколько инвенций и токкату в d-moll, часто исполнявшиеся им у барона Свитена. Из своих современников он ставил выше всех Керубини, модного тогда парижского композитора, не удостоившего даже ответом письмо Бетховена, полное восторга и благоговения.
Кто окружает себя Генделем, Моцартом, Шекспиром и Гомером, тот, конечно, предъявляет к искусству весьма строгие требования; вместе с тем, вполне естественно встретить в таком человеке строгого судью в отношении к своей собственной деятельности; едва ли кто-либо превзошел Бетховена в заботливости о корректуре своих произведений, в многолетнем обдумывании их, в переработке и отделке, оправдывающих его тщеславие, столь противное в иных музыкантах; «человек – самое тщеславное из животных, а поэты – самые тщеславные из людей», – писал Г. Гейне, а А. Рубинштейн сказал как-то: самая выгодная биржевая игра заключается в операциях с валютой артистов: покупайте их по их действительной стоимости и продавайте по той цене, которую они назначают себе.
Как большинство артистов, как большинство смертных, Людвиг был одержим самомнением, не допускал критики своей деятельности и мог бы с успехом занять место в серии имен для выгодной биржевой спекуляции, если бы с именем его не была связана высокая гениальность, исключающая всякое уподобление другим артистам.
Увлеченный творческой деятельностью, вложивший в нее свою душу, всю жизнь, всего себя, Бетховен сознавал в себе упадок некогда прославленного виртуозного искусства и чувствовал недостаток сноровки для управления оркестром. С тридцатилетнего возраста он все реже выступает при публике, избегает даже играть в тесном кругу меценатов, предоставляет Рису и другим пианистам исполнять фортепианные партии в его произведениях, а сам садится за клавиши только в случае постановки еще не изданных пьес своих, не настаивает он также на дирижировании своей оперы или симфонии и лишь в области композиции, в творчестве стремится поднять курс своего вдохновения, глубоко убежденный в том, что ни один знаток, ни один истинный любитель искусства ни за что не решится обесценить его в этой сфере.
«Ни один царь, ни один король, – писала Беттина Брентано (Арним) своему другу Гете, – не сознает так своего могущества, не чувствует, что вся могучая сила кроется в нем самом, как этот Бетховен!»
О фортепианной игре Бетховена сохранилось много восторженных отзывов. Единственным его соперником считался Вельфль, бывший всегда в дружеских отношениях с Бетховеном и долгие годы живший в Варшаве; там он имел связи с польской знатью и не раз предлагал Бетховену посетить Польшу. Сравнение игры этих двух пианистов приведено рецензентом в лейпцигской Allgemeine Musik-Zeitung.
«Мнения о превосходстве Бетховена и Вельфля разделяются, но большинство, видимо, на стороне последнего. Постараюсь беспристрастно охарактеризовать преимущества того и другого. Игра Бетховена чрезвычайно блестяща, но не отличается мягкостью и не всегда чиста. Он поражает более всего своими импровизациями. С удивительной легкостью, тонкостью, последовательностью идей он развивает каждую заданную тему, а не варьирует только фигуры, как большинство виртуозов. После смерти Моцарта, выше которого я никого не знаю, только Бетховен может доставить высшее наслаждение импровизациями. В этом Вельфль ему уступает. Преимущества же последнего заключаются в том, что он, при основательном музыкальном образовании и несомненных достоинствах композиций, исполняет, казалось бы, совсем неисполнимые по трудности вещи с такой легкостью, точностью и ясностью, что приводит в изумление; этому способствуют его очень большие руки. Игра его, особенно в Adagio, так приятна и мягка, что вызывает не только изумление, но истинное наслаждение. Он теперь совершает концертную поездку. Своим простым, любезным обращением он, конечно, вызывает больше симпатии, чем высокомерный Бетховен. Прекрасным пианистом является также Хуммель, уже много путешествовавший и приобретший громкую славу. Он теперь редко играет при публике, весь отдался композиции; игра его блестящая и необыкновенно чистая. В городе насчитывается свыше 300 пианистов, но среди них нет серьезных соперников трем вышеупомянутым».
Немало модных блестящих пианистов появлялось в Вене из разных городов Европы; не довольствуясь успехом в отношении виртуозности, некоторые из этих концертантов задавались целью при случае задеть Бетховена, в звуках отомстить ему за пренебрежение традициями искусства, третировать плоды вдохновения новатора, импровизируя на темы его композиций. Таким замыслом задался Штейбельт, прибывший из Парижа в апогее своей славы; у графа Фриса на музыкальном вечере исполнялось трио B-dur (op. 11) Бетховена, не блещущее виртуозными эффектами; Штейбельт снисходительно похвалил игру и композиции Бетховена, затем сел сам за рояль и вызвал шумные аплодисменты исполнением модного tremolo, звукового эффекта, многим еще незнакомого и охотно применявшегося в новейших салонных пьесах того времени. На следующем музыкальном вечере Штейбельт играл фортепианную партию одного из своих квинтетов, а потом стал импровизировать на тему 3-й части трио ор. 11 Бетховена; импровизация была, видимо, не плодом минутного вдохновения, а предварительной домашней подготовки. Вызов был брошен, самолюбивый Бетховен был оскорблен. Лишь только Штейбельт встал, наш «Великий могол» направляется к роялю, берет партию виолончели только что исполненного квинтета Штейбельта, ставит ее перед собой в перевернутом виде, наигрывает несколько тактов, составивших в таком виде дикую мелодию, безобразный набор звуков, и строит на ней ряд вариаций, каждая из которых вызывает нескрываемый восторг слушателей. Импровизация была настолько вдохновенна, что Штейбельт не выдержал и скрылся раньше, чем Бетховен кончил играть.
«Прогресс фортепианной игры, – говорит известный пианист и современник Бетховена М. Клементи, – заключается в стремлении возможно лучше подражать оркестру. Бетховен сделал гигантские шаги в отношении развития выразительности фортепианной игры, доведя разнообразие и мощь фортепианной звучности до оркестровых красок».
Другой не менее известный пианист и ученик Бетховена, Карл Черни, говорит в своих «Письмах»:
«Сочинения Хуммеля требуют игры весьма беглой, свободной и притом отчетливой, чего, как вам известно из школы моей, можно достигнуть легким, отрывистым ударением по клавишам. В творениях же Бетховена этот род игры был бы редко у места; для них необходима характеристическая сила, глубокое чувство и фантастическая прелесть, и частью связная, частью резко обозначенная игра».
Еще раньше, чем виртуозное поприще, покинул Бетховен противную ему педагогическую деятельность, посвящая время на уроки только своему земляку и другу, Фердинанду Рису, да самому преданному ему покровителю, эрцгерцогу Рудольфу.
«Когда Бетховен давал мне урок, – рассказывает Рис, – он был чрезвычайно терпелив, что ему давалось с трудом. Я объяснял такое обращение со мною и почти всегда дружеское отношение ко мне любовью его и привязанностью к отцу моему. Он иногда заставлял меня повторять одну пьесу десять раз и даже больше. Играя вариации F-dur, посвященные княгине Одескальки (ор. 34), я должен был повторить последнюю из них 17 раз; он все еще не был доволен той экспрессией, которую я вкладывал в короткую каденцу, хотя мне казалось, что я играю ее так же, как он сам; в этот день я занимался с ним почти целых два часа. Если я плохо исполнял пассаж или брал неверно ноту, которую следовало выделить, то он не делал замечаний; если же я не соблюдал crescendo или других оттенков, если играл без должного выражения, то он сердился и повторял: первые ошибки – случайные, а вторые обнаруживают недостаток понимания, чувства и внимания!» Иногда учитель заставлял его переписывать свои рукописи или держать корректуру своих печатающихся произведений; это служило Рису упражнением в теории и отплатой учителю за его труд. С годами пианист, посвящавший все свое время композиции, утратил беглость пальцев и не вызывал своей игрой того энтузиазма, как в первые годы жизни в Вене. Он позволял себе вольности, отступления; в crescendo часто замедлял темп (вместо общепринятого ускорения), что порой производило сильное впечатление. Однажды у графа Броуна просили Риса сыграть сонату a-moll, ор. 23, но так как ученик не проходил этой пьесы с учителем-автором, то предложил указать какую-либо другую сонату, исполнением которой он мог удовлетворить присутствовавшего автора.
– Во всяком случае, – заметил Бетховен, – вы не сыграете ее так скверно, чтобы я не мог дослушать ее до конца.
Рис покорился и сел за рояль; Бетховен, по обыкновению, перелистывал страницы во время его игры. При всякой ошибке пианиста учитель давал ему легкие щелчки по голове.
– Отлично, – похвалил он Риса после игры, – вам не надо даже проходить ее со мною; а щелчками я хотел только показать, что слушаю игру внимательно.
В тот же вечер Бетховен играл свою новейшую сонату d-moll, op. 31. Рис переворачивал страницы, а одна из гостей, княгиня Л., слушала, стоя за спиной автора. Пассаж правой руки в тактах 53 и 54 первой части сонаты Бетховен смазал, за что был так же наказан княгиней.
– Если ученик, – прибавила она, – за незначительную ошибку наказывается пальцем, то за грубую ошибку надо учителя бить всей рукой.
Шутка княгини вызвала общий смех, а самолюбивый автор повторил сонату и сыграл ее в совершенстве.
Трудно словами передать качества виртуозного исполнения; кто не слышал Патти или Рубинштейна, Иоахима или Тамберлика, тому никакие описания не дадут полного представления об их искусстве. Еще труднее передать впечатление, производимое импровизацией и сущность последней; в этом случае рассказчик даже теряет под собой почву, так как исполненное произведение лишь пронеслось в воображении виртуоза, не оставив на бумаге следа, способствующего описанию. Бесконечно богатая фантазия Бетховена, свободно владевшего музыкальными формами, рисовала слушателям такие звуковые картины, каких мы не можем себе представить, и потому на слово должны верить современникам, хором восхищавшимся импровизациями, которыми гениальный виртуоз услаждал слух венских магнатов-меценатов.
Бетховен долгое время жил у князя Лихновского, в доме или, как тогда выражались, во дворце которого собиралась вся аристократия и все лучшие артисты Вены. Ученик и друг Моцарта, князь Карл Лихновский, был также самым испытанным другом Бетховена; в доме князя относились к молодому виртуозу ласково, радушно, предупредительно, прощали ему чудачества и пренебрежение требованиями светской жизни, даже находили прелесть в его странностях и немало баловали его. «Княгиня Христина, – рассказывал Бетховен, – готова была заказать стеклянный колпак, чтобы недостойные не могли коснуться меня пальцем и даже дыханием». Отец княгини, граф Тун, фанатичный поклонник знаменитого Лафатера, и его жена также баловали Бетховена, и, – продолжал он, – «хотели меня воспитывать так же заботливо, как бабушки воспитывают своих внуков». Князь и княгиня были хорошие пианисты; по пятницам у них играли; здесь собирались знатные любители и выдающиеся музыканты Вены, здесь впервые исполнялись многие произведения Бетховена, здесь он получал заказы на сочинения, здесь он услаждал слух венской знати своей необыкновенной игрой, здесь он получил в подарок ценные инструменты струнного квартета. В 1794 году Бетховен должен был уступить настояниям супругов, княгини Христины и князя Карла, а в особенности – графа Морица (брата последнего) и поселиться в их доме, но, конечно, ненадолго; страсть к независимости, свободе, уединению влекла его из центра города к окраинам, из пышных палат и от обеспеченного существования в скромные квартирки и в грязные рестораны.
Свояк князя Карла Лихновского, русский посланник при венском дворе граф Андрей Кириллович Разумовский, также принадлежал к меценатам, приглашавшим к себе Бетховена. Его победы в Стокгольме и Италии были известны Вене, сама неаполитанская королева Каролина была в числе покоренных этим красавцем. Друг детства императора Павла, а впоследствии друг деспотичного ретрограда Меттерниха, граф Разумовский провел долгие годы в Вене, где находил удовлетворение своим страстям; здесь красивая внешность привлекала к нему женщин и он менял их не реже своего белья; здесь он окружал себя блеском и роскошью, доступной только венскому сановнику, здесь он покровительствовал Моцарту и Бетховену, дружил с Гайдном, устраивал у себя квартетные вечера, сам играл на скрипке, был близок с такими магнатами, как Эстергази, Шварценберг, Зичи и т. п.; благосклонно и даже сочувственно относясь к музыкальной революции, вызванной нашим героем, в то же время молил небо ниспослать все громы на французскую революцию; так молились тогда ведь все аристократы, а Разумовский, племянник малороссийского пастуха, уже занимал среди них выдающееся место. Состоявший при нем русский бригадир граф Броун также был в числе меценатов и покровителей Бетховена, посвящавшего им свои сонаты и квартеты.
Знаменитый скрипач Рудольф Крейцер ввел в 1798 г. нашего композитора в салон генерала Бернадотта, французского посланника, победоносного полководца французов в Италии, а впоследствии – шведского короля. Здесь на Wollzeile, в центре города, в доме Геймюллера, зародилась тогда мысль о «героической симфонии».
Из музыкантов, с которыми Бетховену приходилось чаще встречаться у этих меценатов, упомянем Зейфрида, Иосифа Веигля и Иосифа Эйблера – дирижеров в королевском оперном театре и плодовитых авторов множества месс и опер; Зюсмаиера, известного ученика Моцарта; композитора Умлауфа; скрипача-концертмейстера и композитора Павла Враницкого; Антона Эберля, написавшего не одну модную оперетку; Иоганна Вангаля, оставившего по себе 50 симфоний в рукописи; Петра Дютилье, автора нескольких опер; двух выдающихся композиторов камерной музыки: Алоиза Ферстера, которого Бетховен особенно чтил и называл своим учителем, и Леопольда Кожелуха, – модного в то время квартетиста, довольно жалкого, по выражению Бетховена.
Самым расточительным в отношении музыкантов и устройства домашних концертов был князь Франц-Иосиф-Макс Лобкович (род. в 1772 г.), женатый на княжне Шварценберг, вскоре промотавший состояние, свое и женино. Бетховен более в нем ценил прекрасного скрипача и простого в обращении, крайне любезного приятеля, нежели представителя старинного знатного рода. Дважды в неделю бывали собрания симфонической и квартетной музыки у придворного советника фон Беза, вицепредседателя судебной палаты. В субботу вечером весь этот мир музыкантов, меценатов и приглашенных любителей собирался у певицы Мартинец, ученицы Порпоры. На таких же домашних концертах придворного советника фон Мейера, в городе и на даче, бывал сам император; исполнителями здесь выступали большей частью сослуживцы и подчиненные Мейера, из коих самыми выдающимися были два приятеля нашего композитора – Рафаэль и Хаушка. О посещениях Бетховеном этой знати немало интересного рассказывает г-жа фон Бергард, урожденная фон Ктисов, из Ревеля; в двенадцатилетнем возрасте ее привезли в Вену, поместили в семье секретаря русского посольства, фон Клюпфеля, и старательно занялись развитием ее музыкального дарования; быстрые успехи девочки и правильное исполнение некоторых пьес Бетховена (сонат ор. 2 и др.), привели к тому, что последний стал часто встречать ее среди артистов в венских салонах, поощрял ее занятия и дарил ей выходившие в печати свои новые композиции, сопровождая такие подарки шутливыми записками, которых пианистка не сохранила, потому что шкатулка ее уже была полна записками красивых офицеров.
«Бетховен, – говорит она, – часто бывал у нас; Клюпфель очень любил музыку и также собирал у себя артистов; однажды играл у него известный тогда композитор Франц Кроммер, все внимательно слушали его. Бетховен сначала сидел на диване рядом со мною, потом встал, прошел по комнате, взял ноты и стал их перелистывать; хозяин был возмущен этим, подошел к Цмескалю, приятелю Бетховена, и просил передать, что поведение молодого человека неприлично, что ему, еще безвестному артисту, следует почтительно относиться к старому известному композитору. С тех пор Бетховен стал реже бывать у Клюпфеля. Когда он приходил к нам, то сначала заглядывал, чтобы удостовериться в том, что никого нет из лиц ему неприятных. Ростом он был мал, невзрачен; красное лицо со следами оспы было некрасиво, темные волосы космами висели вокруг лица; одежда его была самая простая и далека от изысканности, обычной в то время, в особенности в нашем кругу. Разговор его и манеры были заурядные, грубоватые; вместе с тем он был очень горд. Я видела, как мать княгини, весьма эксцентричная, стояла на коленях перед Бетховеном, сидевшим на диване, и просила сыграть что-нибудь, но безуспешно. У Лихновских часто бывали Гайдн и Сальери; помню их однажды рядом сидящими на диване, с косичками, в башмаках и шелковых чулках».
В этой среде Бетховен держал себя так же свободно, как на Рейнгассе в Бонне; так же не скрывал своего непринужденного, порой резкого и грубого обращения, своего неустойчивого, часто мрачного настроения. Не раз, бывало, он раскаивался в своих словах и поступках, готов был извиниться, горевал и плакал, а потом вскоре повторял то же самое. Живя у Лихновских, случалось ему позвонить слуге одновременно с князем-хозяином; последний приказывал слуге в подобных случаях являться сначала к артисту и думал этим оказать ему любезность, но щепетильный и подозрительный ко всему композитор объяснил себе это желанием князя подчеркнуть неудобство и стеснение, вносимое в дом присутствием музыканта, которому служил тот же слуга, что и хозяину; нелегко было отклонить намерение Бетховена нанять на свои средства другого слугу. В другой раз Бетховен выразил желание заняться верховой ездой и получил предложение князя пользоваться его лошадьми, после чего отправился на рынок и купил бракованного одра, якобы не желая быть обязанным своему хозяину. К обеду Бетховен не всегда являлся, предпочитая скверный стол за плату в трактире княжескому угощению; «они обедают, – говорил он своему другу Вегелеру, – в четыре часа, и за полчаса я должен уже приступать к приведению в порядок своего туалета; эта работа совершенно невыносимая!»
Постоянный домашний квартет графа Разумовского, игравший еженедельно, по пятницам (утром) у кн. Лихновского, состоял из Шупанцига, Сини, Вейса и Антона Крафта (виолончелиста); все они были люди молодые, моложе Бетховена, что способствовало подчинению их воле композитора, упрямого в своих требованиях; этим четырем лицам суждено было впервые исполнить почти все квартеты Бетховена, они первые постигли идеи и намерения композитора, нередко бранившего их, ссорившегося с ними, но иногда следовавшего их дельным указаниям.
Бетховен. Литография Йозефа Крихубера 1865 г. с рисунка 1798 г.
Камерная музыка занимает в жизни и деятельности Бетховена исключительное место: он начал и кончил ею, создав целый ряд шедевров, остающихся по настоящее время недосягаемыми образцами. «Я теперь уже вполне овладел умением сочинять квартеты», – писал Бетховен в 1800 году своему другу Аменда, посылая ему первый из квартетов ор. 18, тогда же отданных в печать издателю Молло и представляющих собой один из выдающихся этапов в развитии музыкального гения Бетховена.
Если Бетховен, – говорит Хельм, – где-либо является единым и недосягаемым, так это в своих квартетах для струнных инструментов. Конечно, в симфонии, в фортепианной сонате и т. п. также никто не достиг его глубины содержания, но в иных отношениях некоторые композиторы пошли дальше него по лабиринтам, вход в которые указал гений Бетховена; были найдены новые средства, а с ними вместе и новые эффекты. Но в квартетах средства неизменны, всегда одинаковы, весьма ограничены, хотя дают бесконечный простор фантазии композитора. В этом легко убедиться, просматривая струнные квартеты Бетховена, это море звуков, эту вереницу настроений от самого забавного до самого возвышенного, от обыденного, общедоступного до исключительного, мистически глубокого. Кажется, будто композитор хотел вложить в этот род искусства свои величайшие идеи.
Как в других родах композиции, так и здесь заметно влияние гениальных предшественников, преимущественно Гайдна и Моцарта, но проявления этого влияния различны и находятся в зависимости от индивидуальности каждого из упомянутых нами авторов; в своих лучших квартетах, посвященных Гайдну, автор «Дон-Жуана» дает образец конструкции струнного квартета, модель голосоведения и стремления к светлым идеалам, свойственным его фантазии; вместе с тем здесь поражает кристалличность форм, даже симметричность, чуждые нам, современным слушателям, предпочитающим неожиданное, оригинальное шаблонному, заранее легко отгадываемому. В последних квартетах Гайдна, написанных после смерти Моцарта, заметно уклонение от вышеприведенных принципов, установленных самим Гайдном и лишь развитых до совершенства Моцартом; задачи психологического свойства здесь устраняют требования структуры, стремление выразить то или другое настроение разрушает суровые условия архитектоники. Юный Бетховен для создания своих первых камерных произведений имел моделью композиции Моцарта и Гайдна и подражание им довел до множества сходных черт, легко улавливаемых при сличении партитур. Но недолго продолжались эти имитации, лишь местами окрашенные в новые цвета бетховенской палитры; быстрое развитие индивидуальных особенностей вскоре устранило влияние Моцарта, ярко выразившееся в трио ор. 3 и в квинтете ор. 4, оставив временно лишь некоторую связь с более родственным ему Гайдном (наприм., в ор. 18).
В первом из струнных квартетов Бетховена (ор. 18, № 3, D- dur, написан ранее квартета F-dur, обозначаемого всегда № 1) нет еще того смелого полета фантазии, той свободы и самостоятельности каждого инструмента, которыми блещут позднейшие его квартеты: автор еще не умеет избавить одного инструмента от зависимости и влияния другого; в 1-й части, по настроению вполне напоминающей квартет D-dur (ор. 575) Моцарта, доминирует лишь одна скрипка, выводящая свои чудные мелодические фигуры на довольно бледном фоне остальных голосов, и только виолончели удается избавиться от такого подчинения в 4-й части, по игривости вполне схожей с финалами квартета Гайдна.
Второму квартету (ор. 18, D-dur) дали прозвище «Реверансы»; безупречная вполне моцартовская по конструкции 1-я часть полна детской наивности и своими узорами в стиле рококо не раз вызывает улыбку слушателя, в воображении которого невольно рисуется сцена званого вечера у какого-нибудь маркиза, где по очереди входящие гости щеголяют длинной косичкой парика, высотой каблуков и изяществом низких поклонов; идиллией картин Ватто, с пастушками, также не чуждыми изысканного этикета, веет от 2-й части; в 3-й части, названной скерцо, преобладает также настроение старинного менуэта, лишь в 8 тактах коды (последние такты трио) окрашенного колоритом характерной бетховенской гармонии, плавно движущихся вниз целых нот виолончели и педали альта на do; финал напоминает 1-я часть, но здесь больше оживления, резвости, шаловливости, бетховенской энергии и смелости, поражающих слушателя в средней части (в C-dur), где некоторые мелодические узоры в прямом и обращенном виде, а также продолжение одними инструментами узоров другого производят впечатление игры в мяч, перебрасывание и перехватывание его, забрасывание одного вдогонку другому и т. п.
Третий квартет из ор. 18 (F-dur), представляя собой одно из первых произведений автора, тем не менее занимает исключительное место в области камерной музыки; в отношении свободы, равенства и братства инструментов квартет этот настолько безупречен, что известный виртуоз-скрипач и композитор Людвиг Шпор, под обаянием такого совершенного сочетания голосов и забыв об иных требованиях музыкальной эстетики, считает его лучшим из всех квартетов Бетховена; другого специалиста, музиколога Маркса, поражает в этом произведении (1-я часть) необычайно развитая игра темой, придающая много прелести камерным произведениям Гайдна и Моцарта, но доведенная здесь до апогея: на протяжении 427 тактов Маркс насчитал 131 повторение темы в разных тональностях, у разных инструментов и в различных красках, то лаская, то шутя, то полусерьезно, то унисоном, то перекликаясь; главная партия этой части сама по себе довольно бедна содержанием и настроением, еще беднее побочные партии и большинство ходов, но это не мешает коротенькому, простенькому allegro вызывать восторги слушателей совершенной красотой форм. Не таков характер темы 2-й части, adagio, где первая скрипка поет мелодию глубоко трогательную, широкую, полную драматизма, находящую отзвук в возгласах отчаяния и тоски других инструментов, сливающихся с ней в надрывающее душу рыдание, подобного которому камерная музыка не знала до 1800 года. «Когда я набрасывал это adagio, – писал автор своему другу К. Аменда, – то представлял себе сцену в могильном склепе из «Ромео и Джульетты…» Последние две части блещут детским весельем, энергичными оборотами гармонических сочетаний, местами – оригинальностью ритма, предвещающей ритмические чудеса позднейших произведений.
Едва ли можно встретить любителя музыки (о специалистах и говорить нечего), который не знал бы наизусть четвертого квартета (ор. 18, C-moll), не любил бы его, не искал бы случая еще и еще раз его послушать; его тональность та же, что фортепианной «патетической» сонаты (ор. 13), написаны оба произведения почти одновременно, настроение в них преобладает одинаковое, популярность обоих не оставляет желать большего; в инструментальной музыке XIX века, кажется, не было более излюбленных публикой пьес, а в наши дни они появляются на афишах еще чаще, чем сто лет тому назад. Когда Иосиф Иоахим, своей все еще стальной кистью и с обычным подчеркиванием вступления каждой темы, издавал первые, полные пафоса звуки темы allegro, все более нарастающие по силе, по количеству и полноте гармонии, и все более возносящиеся ввысь, тогда невольно вспоминались слова Манфреда в первой сцене и вопрошающий его хор духов:
«Звезды, воздух, горы, ветры, Духи неба и земли, Смертный, все тебе покорно! Ждешь чего ты? Повели!
Манфред. Хочу забвенья.
Первый дух. Чего? О чем же?
Манфред. Того, что здесь, в груди, и что назвать нет звука. Узнаешь сам, в мое взглянувши сердце…»
Вот эти-то страдания, не поддающиеся точному выражению ни поэтическими образами, ни кистью, ни учеными трактатами; эти муки, отгадываемые только тем, кто способен заглянуть в сердце, слетали со струн и в виде звуковых призраков носились над безмолвной толпой посетителей берлинской Singakademie, когда старец Иоахим и его сподвижники извлекали таинственным унисоном pianissimo отрывистые тоны (Staccato), ведущие к заключительному повторению темы (fortissimo)… После усиленного нервного возбуждения и крайне напряженного полета фантазии внимание слушателя ослабевает, и следующие две части квартета не производят того впечатления, как первое allegro; по содержанию своему скерцо и менуэт очень интересны, хотя уступают 1-й и 4-й частям; фугированное скерцо по ритму, мелодическому узору и гармоническим сочетаниям очень напоминает почти одновременно с ним написанное andante 1-й симфонии, о котором речь будет ниже; при исполнении 3-й части особенное внимание следует обратить на отметку автора: повторение менуэта после trio должно быть в ускоренном темпе; Хельм предлагает даже «бурное allegro», с успехом применяемое Чешским квартетом: последний ведет менуэт и trio в умеренном темпе allegretto с ярким акцентированием, согласно указаниям автора; повторяет же менуэт, сохраняя акценты, с такой страстью, энергией, с такой стремительностью, которые при иных условиях вызвали бы недоумение, неприятное раздражение слушателей, но здесь на 50-м такте развивают ту силу, быстроту и выразительность звуковых сочетаний, какие находят естественную связь с кипучей деятельностью 4-й части, этого бурного финала, этого вихря, урагана звуков. Редко приходится испытывать более приятное ощущение томления, неудовлетворенности, боли, страдания, более высокое наслаждение, чем то, которое вызывает вступление 1-й скрипки вслед за 2-й скрипкой, начинающей главную тему, но как бы принужденную уступить силе и влиянию первой, вырывающей эту тему и договаривающей то, что не досказано обиженным собеседником… С несказанным удовольствием вспоминаю я те дни, когда Чешский квартет собирался и играл у меня чудные произведения Грига, Шуберта и Бетховена, но едва ли талантливые чехи с таким же удовольствием вспоминают многократное повторение ими c-moll-ного квартета ор. 18, вызванное назойливыми просьбами моими; ко всем достоинствам исполнения их надо прибавить ту рельефную разницу, которую они выработали в отношении первоначального темпа финала и заключительной части; казалось бы, нетрудно установить отличие между allegro и prestissimo, но здесь стремительность предшествующей части (менуэта) при повторении легко вызывает чрезмерную быстроту вступления финала, и, слушая некоторых квартетистов, несущихся вскачь задолго до prestissimo, невольно вспоминаются причудливые ремарки Шумана в его фортепианной сонате (ор. 22): so rasch wie moglich – и – noch Schneller; если исполнитель уже довел быстроту до высшей степени, то как ему быть с дальнейшим ускорением?
Пятый квартет (ор. 18, A-dur) вновь напоминает Гайдна и Моцарта: такая же старательная отделка форм, схожие обороты гармонии; даже тональность и настроение те же, что в одном из лучших квартетов Моцарта: то же веселое, не лишенное грации движение голосов в 1-й и 2-й частях, местами та же игра в звуки, устраняющая присущую Бетховену психологическую основу произведения; для 3-й части автор берет незамысловатую тему, основанную на нисходящей и восходящей гамме, и строит на ней пять прелестных вариаций, дающих простор фантазии композитора вне влияния его предшественников. В финале автор вновь копирует Моцарта и с невероятной ловкостью отражает в звуках беззаботную игривость, не чуждую Бетховену в годы его молодости.
Складно, благообразно, округленно, законченно, жизнерадостно звучит 1-я часть шестого квартета (ор. 18 B-dur), своей главной темой и проведением ее напоминающая творца квартетной музыки; спокойствием, блаженством веет от 2-й части, где автор будто рисует в своем воображении соблазнительное, но чуждое его натуре dolce far niente; более нежного, более ласкающего слух adagio трудно найти в камерной музыке XVIII века. Вслед за красивым, но довольно ординарным скерцо следует финал, состоящий из двух резко контрастирующих и самостоятельных эпизодов, первый из них назван «Меланхолией» и «должен исполняться особенно нежно», второй движется allegretto и «вызывает в воображении слушателя сельский пейзаж группы крестьян, танцующих вальс» (Ленднер), дважды прерываемый грустными звуками из «Меланхолии»; эти кратковременные перерывы как бы усиливают возбуждение ликующей толпы, и танец оканчивается в вихре последних 22 тактов.
И эти шесть первых квартетов Бетховена, шесть талантливых имитаций Гайдну и Моцарту с небольшими отступлениями от моделей, с некоторыми штрихами, оттенками и колоритами собственного изобретения, с некоторыми красками новой, еще неведомой палитры, ученый музыкант того времени, авторитетнейший теоретик Альбрехтсбергер, нашел негодными, потому что они не вполне соответствовали рутинным требованиям конструкции квартетов.
– Не знайтесь с Бетховеном, – сказал Альбрехтсбергер другому своему ученику, Долезалеку, показавшему ему эти квартеты, – он ничему не научился и никогда ничего путного не выйдет из него.
Однако не все современники принимали так враждебно реформаторские наклонности молодого композитора.
«На Бетховена, – говорит Зейфрид, – почти молились в доме Разумовского. Каждое его произведение, едва оконченное, исполнялось там и притом с таким усердием, любовью и благоговением, какие могут быть только у истинных поклонников великого таланта. Благодаря глубокому пониманию сокровеннейших замыслов автора, близкому знакомству с духом и направлением бетховенских квартетов, исполнители эти достигли всемирной известности. Шупанциг (первая скрипка) глубоко проникал в дух композиции, ярко выражал страсть, силу и, в то же время, нежность, красоту и юмор этих квартетов». С этим талантливым артистом, прожившим впоследствии семь лет в России (1816–1823) и бывшим только на шесть лет моложе Бетховена, последний, конечно, обращался по-своему, т. е. либо дружил, искал его общества, либо гнал от себя, издевался над чрезмерной дородностью «обжорливого Фальстафа», писал ему то любезные письма и забавные каноны вроде музыкальной шутки «Хвала толстякам», то полные насмешек и брани, то приносил ему благодарность и превозносил в газетах, то винил в непонимании своих (последних) квартетов… Начало дружбы с этим добродушным голубоглазым толстяком с бритым лицом, как он изображен на портрете, хранящемся в Бонне, ознаменовалось первым исполнением квинтета ор. 16 для духовых инструментов в концерте Шупанцига; затем тот же квинтет был исполнен в концерте, где руководителем и организатором был И. Гайдн, ставивший в тот же день свою ораторию «Семь слов Спасителя на кресте»; в квинтете играли музыканты из домашнего оркестра кн. Карла Лихновского, партию фортепиано исполнял сам автор.
Пьеса имела успех и, несмотря на устарелость многих эпизодов этого своеобразного камерного произведения, представляет значительный интерес даже в наши дни; тема его 2-й части вызывает в памяти прелестную арию из «Дон-Жуана» Моцарта, влияние которого заметно на многих страницах квинтета. Пьеса эта вскоре после своего появления стала очень популярной, часто исполнялась в музыкальных кругах и аранжировалась на разные лады.
В годы молодости своими лучшими друзьями Бетховен считал трех лиц: Ленца Брейнинга, умершего в 1798 году, Карла Аменда, теолога из Дерпта, и Стефана Брейнинга. Карл Аменда был ровесником Бетховена и своим лицом, также глубоко изрытым оспой, немного походил на него; в 1792 году он переселился из Курляндии в Иену, где изучал теологию и совершенствовался в скрипичной игре, с 1795 до 1798 года странствовал по Германии и Швейцарии, затем поселился в Вене, где принял на себя обязанности чтеца в семье кн. Лобковича и давал уроки в некоторых домах (в том числе детям Моцарта); через два года он возвратился на родину, где умер в 1830 году в должности члена совета консистории. Во время своего недолгого пребывания в Вене, Аменда участвовал в исполнении квартетов, быть может, не раз замещал, подобно Цмескалю, профессиональных квартетистов, собиравшихся в венских салонах и даже участников «Бетховенского квартета» у Лихновского, когда кто-либо из последних приносил слишком обильное жертвоприношение мифическому божеству, часто заступающему место Аполлона в культе артистов.
Карл Фердинанд Аменда. Начало XIX в.
В приводимых здесь письмах Бетховена к Аменда встречаются намеки на Магдалину Вильман, которая отбила атаку влюбленного композитора, на Цмескаля, дружбе которого он почему-то не доверяет, на квартет F-dur (op. 18, № 1), который должен убедить друга в умении автора писать камерную музыку, на кн. Лихновского, кошелек которого часто открывался для помощи и поощрения музыкантам.
К Карлу Аменда.
Я получил сегодня приглашение в деревню, в Медлинг, принял его, и сегодня же вечером отправляюсь туда на несколько дней. Оно было для меня тем более кстати, что моему и без того истерзанному сердцу предстояли еще большие страдания. Хотя главная атака уже отбита, но я все еще надеюсь на осуществление своего плана. Вчера мне предложили поехать в сентябре в Польшу, причем путешествие и пребывание там ничего не будут мне стоить. В Польше я могу хорошо устроиться и там можно заработать денег. Я принял предложение. – Прощай, любезный А! Напиши мне поскорее о себе с дороги, а также по приезде на свою родину. – Счастливого пути, и не забывай твоего Бтхвна.
Кажется, что не совсем своевременно передаю тебе то, что князь Л. прислал мне для тебя. Правда, этого мало, но он теперь отправился путешествовать, а ты ведь знаешь, что стоит это подобным господам. – Да, милый, добрый Аменда, я должен еще раз повторить, что мне очень жаль, что ты не сообщил мне о своем положении раньше; все можно было бы тогда устроить совершенно иначе, и я не был бы так озабочен тем, что ты можешь испытать. Сейчас я в таком положении, что не могу помочь тебе; но так как подобное состояние не может длиться очень долго, то настоятельно прошу тебя сообщить мне сейчас же, как только ты станешь нуждаться в чем-нибудь, и будь уверен, что я немедленно приду тебе на помощь.
Так как я не знаю, едешь ли ты уже завтра, то счел нужным тебе все это высказать.
Второпях твой Бтхвн.
Дорогой Аменда! Прими этот квартет на память о нашей дружбе. Когда ты будешь его играть, вспоминай о пережитых нами днях и вместе с тем о том, что тебя любил и всегда будет любить твой истинный и искренний друг Людвиг ван Бетховен.
К пастору Аменда, в Курляндии.
Как может Аменда сомневаться в том, что я не забываю его? Нельзя же основываться на том, что я не пишу или не писал ему; ведь память о ком-либо поддерживается не только письмами!
Тысячу раз вспоминаю лучшего из людей, которых я знаю. Да, кроме двух лиц, которым я был предан всей душой и из которых одно находится в живых, существует еще третье, это – ты. Память о тебе ношу я постоянно в мыслях моих; вскоре получишь длинное письмо о моем нынешнем житье и обо всем, что тебя может интересовать.
Прощай, милый, добрый, благородный друг; сохрани ко мне твою любовь, твою дружбу, подобно тому, как я вечно остаюсь верным тебе Бетховеном.
Мой милый, мой добрый Аменда, мой сердечный друг! Последнее письмо твое получил и прочел я с искренним умилением, с ощущением боли и вместе с тем удовольствия. Эта преданность, эта привязанность твоя ко мне несравненны! О! Какая радость, что ты не изменился в отношении меня; но и я сумел отличить тебя между всеми другими. Ты не из венских друзей моих; нет, ты один из тех, которых рождает моя отчизна. Как часто желал бы я быть близ тебя, ибо Бетховен твой теперь несчастлив, в разладе с природой и Творцом: уж много раз роптал я на него за то, что он подвергает случайностям свои творения, отчего нередко гибнут и разрушаются лучшие намерения; знай, что благороднейшее из моих чувств, слух, сильно у меня ослабел. Уже тогда, когда ты был со мною, чувствовал я это, но умалчивал; теперь же становится все хуже; возможно ли будет излечиться, покажет время. Болезнь эта явилась следствием желудочных страданий, от которых я теперь почти совсем освободился, но улучшится ли также слух? Хотя я надеюсь, но едва ли, ибо подобные болезни почти не поддаются лечению. Как тяжко мне теперь избегать всего, что мило и дорого, и жить среди таких эгоистических людей, как… и т. д. Могу сказать, что между всеми окружающими Лихновский оказывается наиболее преданным мне; начиная с прошлого года, он назначил мне по 600 гульденов. Это жалованье и хороший сбыт моих сочинений дают мне возможность жить, не заботясь о средствах к пропитанию. Все то, что я теперь пишу, находит по пяти издателей, и все предлагают хорошую плату. В последнее время я писал весьма много. Так как я узнал, что ты у… заказал фортепиано, то хочу послать тебе инструмент, который тебе обойдется дешевле.
Теперь, к утешению моему, сюда прибыл еще один человек, с которым могу делить досуги и дружбу; это один из моих друзей молодости. Я уже часто говорил с ним о тебе и признался, что со времени отъезда моего с родины ты стал для меня одним из тех, к которым питаю сердечное влечение. Ему также… не нравится; он был и останется мало надежным для дружбы; я смотрю на него и на… только как на инструменты, на которых могу играть, когда мне вздумается; но не быть им никогда благородными свидетелями моей деятельности, внутренней или внешней; они имеют для меня значение лишь постольку, поскольку исполняют возлагаемую на них мою работу. О, как счастлив был бы я теперь, если бы вполне владел слухом; я полетел бы к тебе; но принужден остаться. Мои лучшие годы пройдут, и я ничего не сделаю из всего того, что требуют от меня силы мои и дарования. Печальное смирение; я вынужден к нему прибегнуть. Конечно, я решился всем этим пренебречь, но удастся ли? Да, Аменда, если по истечении полугода болезнь моя окажется неизлечимой, то я потребую тебя; тогда ты должен все оставить и приехать ко мне. Тогда отправлюсь путешествовать (при игре и композиции недуг мой не так стесняет меня, как в разговоре), и ты должен быть моим путеводителем.
Я убежден, что судьба будет ко мне благосклонна. С кем я теперь не был бы в состоянии померяться силами! Со времени твоего отъезда писал я все, за исключением опер и церковной музыки. Да, ты не откажешь мне, ты поможешь твоему другу перенести его заботы и болезни. В игре на фортепиано я значительно усовершенствовался и надеюсь, что это путешествие составит также, быть может, и твое счастье; ты затем останешься навсегда у меня.
Все твои письма получил я исправно; хотя я мало отвечал тебе, но все же мнил себя постоянно близ тебя и сердце мое стремится к тебе так же, как и прежде. Что касается моего слуха, то прошу тебя хранить это в глубокой тайне и решительно никому этого не доверять. Пиши мне чаще; твои письма, даже самые кратчайшие, утешают меня, действуют на меня благотворно, и я, мой друг, в скорости опять ожидаю от тебя письма. Квартета твоего не давай никому, потому что я его значительно переделал. Я теперь уже вполне овладел умением писать квартеты, в чем ты сам убедишься, когда их получишь. Ну, прощай, мой добрый друг! Если полагаешь, что я могу оказать какую-либо приятную тебе услугу, то, конечно, должен сообщить об этом твоему верному, искренно тебя любящему
Л. в. Бетховену.
При всем недоверии к Цмескалю, дружественные отношения Бетховена с ним поддерживались долгие годы, на него возлагал композитор десятки разнообразных поручений, часто искал его общества, встречи с ним, ходил к нему, зазывал к себе, назначал свидания в ресторане «Лебедь», причем, по обыкновению, не обходилось без ссор, упреков, словесной брани и в письмах. «Барон Николай Цмескаль (Zmescall) фон Домановец и Лестини» родился около 1760 года, был секретарем придворной канцелярии по делам королевства венгерского и владельцем небольшого имения близ Офена. Он прекрасно играл на виолончели, написал несколько квартетов и, обладая добродушным, привлекательным нравом, пользовался обширным знакомством и расположением среди венской аристократии. Ряд приведенных ниже записок знакомит нас с теми дружественными отношениями, которые установились между композитором и «музыкальным графчиком» (м. г.) и которые поддерживались с некоторыми перерывами до последних дней жизни; в этих записках встречаем игру словами Аменда (курляндский друг) и Amende (денежный штраф), ряд острот и кличек, порой обидных (Dreckafahrer – перевозчик мусора), немало просьб и поручений, изложенных в шутливой форме; тут же упоминаются известный теоретик Ант. Рейха, фортепианный мастер Вальтер, виолончелист Шиндлекер и чиновник-дилетант Хамбергер, у которого нередко собирались лучшие венские артисты, с Гайдном во главе.
Мой дешевейший барон! Скажи, чтобы гитарист сегодня же пришел ко мне. Пусть Аменда, вместо аменды, которую он иногда заслуживает за свои скверные паузы, пойдет за этим противным гитаристом; если возможно, то пусть явится упомянутый ко мне сегодня в 5 часов пополудни, в противном же случае – завтра в 5 или 6 часов утра, но чтобы не смел будить меня, если я буду еще спать. Adieu, mon ami – a bon Marche; быть может, увидимся в «Лебеде».
Придворному секретарю фон Цмескалю.
Любезнейший барон Соровоз, je vous suis bien oblige pour votre faiblesse de vos jeux – во всяком случае, я не запрещаю себе в будущем веселое расположение духа, каковым иногда пользуюсь, так как вчерашняя ваша болтовня меня очень огорчила, черт возьми, знать не хочу ничего из всей вашей морали, сила – вот мораль тех, которые выше толпы, она же и моя, и если сегодня вы опять начнете, то я изведу вас, пока не признаете исправным и похвальным все то, что я делаю; ну, приду в «Лебедь», хотя в «Бык» было бы лучше, все зависит от вашего цмескального домановичного решения (reponse).
Adieu Барон Ба… рон рон (нор) орн (рно) онр (voila quelque chose из департамента перестановок).
Милейший музыкальный граф. Прошу вас прислать мне одно или несколько гусиных перьев, так как очень нуждаюсь в них. – Пока не узнаю, где продаются хорошие, наилучшие перья, буду покупать ваши, – надеюсь видеть вас сегодня в «Лебеде».
Прощайте дражайший музикграф dero etc.
Господин фон Ц. немного поторопился вытащить свои перья (между коими, вероятно, несколько чужих). Надо надеяться, что выдергивание их не причиняет вам боли, лишь только вы исполните все наши требования, получите уверение в глубоком почтении вашего
др. Бетховена.
Сейчас приду к вам, не позже, как через четверть часа.
Ваш Бетховен.
Милейший, галантнейший граф!
Сообщите, могу ли с вами переговорить сегодня, в 5 часов вечера, так как это необходимо
Вашему другу Бтхвну.
Его высокоблаго-благо-благородию господину фон Цмескалю, импер. – корол., а также корол. – импер. придворному секретарю.
Его высокоблагородие, господин фон Цмескаль-Цмескалитет имеют благосклонность назначить место, где можно завтра поговорить с вами.
Мы отчаянно преданы вам.
Бетховен.
24 марта 1799 г.
Я вам еще вчера сказал, что не приму вашего билета, вы должны меня лучше знать, и не думать, что я способен лишить удовольствия одного из моих друзей, чтобы этим доставить удовольствие другому; я сдержал свое слово, посылаю при сем обратно вам и горжусь своим постоянством, не меняю каждую минуту своего решения, а упорно настаиваю на том, что говорю. Мне показалось вчера, что вы раздражены, может быть потому, что я немного резко заявил, что вы, посылая записку, поступили скверно, но если бы вы знали, что я третьего дня написал два письма об этом к Л. и княгине, чтобы получить один, то не стали бы удивляться, притом же я не такого черствого нрава и заметил, что мне не удалось доставить удовольствия этим билетом, но сейчас же забыл об этом, ибо глупо сердиться на то, что непоправимо. Предоставляю поступок ваш на суд вашей bonhommie, но видит небо, что дружба сопряжена с препятствиями, но все же остаюсь таким, как прежде вашим другом Л. в. Бетховен.
Посылаю его вам также поздно, потому что должен был раньше послать ваш оставшийся без употребления, а свой я получил только что и посылаю вам тотчас же; если бы я не получил для себя, то все же прислал бы вам этот.
Любезнейший Conte di musica.
Да будет сон вам впрок и на сегодня желаем вам хорошего аппетита и хорошего пищеварения, вот все, что необходимо человеку в жизни и все это стоит так дорого, да, милейший граф, доверенный друг, времена плохие, наше казначейство пусто, доходы поступают медленно и мы, милостивейший государь, принуждены унизиться и просить вас о ссуде в 5 гульденов, каковые в течение нескольких дней возвратим. Касательно инструментов поручаем вам самое строгое расследование, подозреваем, во всяком случае, обман, следует преступника строжайше наказать – прощайте милейший amico conte di musica.
Преданнейший вам Бхвн.
Дан в нашем
композит. кабинете.
Так как со вчерашнего вечера у меня сильный катар и едва ли буду сегодня у графини Дейм, поручаю ее вам сегодня во время репетиции, что касается выразительности, то я был вчера там и вам ничего не надо говорить ей, но может быть относительно темпов – прошу сообщить имя капитана, который несколько раз свистел во время тостов, не Glig ли? Мне необходимо знать это.
Любезный благородный г. фон Цмескаль, придворный секретарь и – холостяк – если сегодня увидите меня у себя, то не приписывайте этого чему-нибудь иному, как только тому, что некто желает говорить со мною у вас, и я в этом отказать не мог – незваный я сам приглашаю себя – и надеюсь, не выпроводите меня.
Весь целиком ваш Л. в. Бетховен.
Добрейший Ц. Принужден просить вашей услуги, хотя мне это неприятно: а именно: я желал, чтобы вы вместо меня попытались теперь же получить от Артариа 6 или 12 экземпляров, остальные я прикуплю, необходимо дать один экземпляр Сальери, причину объясню вам, и еще несколько экземпляров другим. Теперь же будьте так любезны, заплатить у А. за 6 или 12 экземпляров. Быть может, затея наша с 500 гульденами будет удачна, и спекуляция эта будет выгодна, тогда вы получите немедленно ваш долг. Уговорите А. оставить вам эти 6 или 12 экземпляров, до получения от Л. 30. Сообщите сейчас же, когда могу получить от вас ответ относительно этого. Был бы рад сегодня же получить эти экземпляры, потому что должен сегодня же вручить один Сальери.
Ваш истинный друг Бетховен.
Прелестный г. ф. Цмескаль.
Прелестнейший.
Выдерните у себя, пожалуйста, несколько перьев и вставьте их нам, мы пробовали обойтись без ваших, но принуждены вскоре просить ваше Совершенство, высоко нами в этом чтимое, сообщить нам тайну вашего искусства перьев, в коих все же нуждаемся, сейчас у нас нет совсем, а потому просим не сердиться на нашу назойливость, а вскоре принесу их несколько, чтобы восстановить ваши, да хранит вас небо.
Бетховен.
Пишу вам, дражайший музикграф, на лучшей бумаге, какая имеется у меня, будьте добры играть завтра 7-тет у Одескальки. Шиндлекера нет здесь, и вся музыка не состоится, если только вы не будете играть и, конечно, на меня падет главное подозрение и обвинение в небрежности.
Поэтому прошу вас, дорогой м. г., не отказать мне в этом одолжении, к вам отнесутся, конечно, с особенной любезностью, князь Одескальки сам напишет вам об этом завтра утром.
Репетиция завтра утром в одиннадцать часов, посылаю вам партитуру, чтобы вы могли просмотреть solo из последнего менуэта, самого трудного, как вам известно. Жду вас.
Ваш Бтхвн.
Г. фон Цмескаль.
Дайте мне знать, когда можете провести со мною несколько часов, во-первых, для того, чтобы пойти со мною к Хамбергеру, во-вторых, купить некоторые необходимые мне вещи. Что касается ночников я случайно нашел такие, что вполне вас удовлетворят – чем раньше, тем лучше – ваш Бетховен.
Вы можете, дорогой Ц., учинить Вальтеру нагоняй в сильной дозе, по случаю его выходки со мною, потому что, во-первых, он заслуживает этого, а затем уверяет всех, будто уже сговорился со мною и уже несколько дней добивается опередить всю толпу фортепианных мастеров и получить от меня заказ – но напрасно, каждый из них хочет изготовить для меня фортепиано по моему вкусу; Рейха, пользующийся его инструментом и по его просьбе тоже настойчиво советовал заказать ему фортепиано, а ведь это один из тех молодцов, у которых я видел хорошие инструменты. Дайте ему понять, что я заплачу 30, и что могу получить от других даром, но все же даю 30 и только с условием, чтобы оно было из красного дерева, хочу также левую педаль – если не согласится с этим, то втолкуйте ему, что я найду другого, которому предложу это и которого сведу к Гайдну, чтобы показать его, – сегодня к 12 часам придет ко мне один незнакомый француз volti subito.
Господин и я будем иметь удовольствие следить за моим исполнением на фортепиано работы Иокеша – ad notam – если вы также придете, то мы прекрасно проведем время, потому что затем мы, Рейха, наш жалкий имперский барон и француз вместе пообедаем – нет надобности надевать черную пару, так как будут только мужчины.
Ваш Бетх.
13 ноября 1802 г.
Дорогой Ц. откажитесь непременно от игры у князя, ничего не поделаешь – репетиция будет у вас завтра рано утром в половине 9, а исполнение у меня в 11 часов – ad dio прелестный полномочный regni Beetvensis.
Бездельники, как следовало, арестованы письменным указом с их собственноручной подписью.
Музыкальный граф сегодня позорным образом уволен в отставку.
Первый скрипач Шупанциг ссылается в каторгу, в Сибирь.
Что же касается барона, то ему воспрещается в течение целого месяца о чем-либо справляться и заботиться; он может заниматься своим ipse miserum.
Любезный Ц., пришлите несколько перьев, но они должны быть очинены немного тоньше и должны быть немного тверже.
Постоянные заботы таких друзей, как Цмескаль, о неловком, непрактичном, рассеянном и порой беспомощном композиторе иногда сменялись случайными услугами приятелей и знакомых, которых в эту эпоху было у него немало. Одно из лучших вокальных произведений Бетховена, романс «Аделаида», было спасено от огня Фоглем, талантливым певцом, первым исполнителем романсов Шуберта. Разбирая однажды свои рукописи, Бетховен отделил все, предназначавшееся к сожжению, и листы уже летели пачками в камин, когда вошел Фогль и схватил одну из них, в которой оказался упомянутый романс. «Аделаида» написана в 1795 г. (ор. 46) на слова Маттисона, но только спустя пять лет автор решился послать ее знаменитому поэту (1761–1831) при записке, проникнутой необычайной для Бетховена деликатностью и почтительностью.
Глубокоуважаемый.
При сем получите от меня пьесу, которая уже несколько лет тому назад появилась в печати, и о которой, может быть, вам, к стыду моему, еще ничего не известно. Извиняться пред вами в том, что я сделал вам посвящение от всего сердца, ничего не сообщив об этом, считаю невозможным: это произошло отчасти потому, что мне неизвестен был ваш адрес, а отчасти вследствие опасения, что опрометчивость моя не вызовет вашего одобрения. Да и теперь посылаю вам «Аделаиду» не без боязни. Вы сами знаете, какая разница может произойти за несколько лет в артисте, постоянно подвигающемся вперед; чем больше успеваешь в искусстве, тем менее начинают удовлетворять прежние произведения. Мое искреннее желание заключается в том, чтобы музыка моя к вашей божественной «Аделаиде» хоть сколько-нибудь понравилась вам, и если она побудит вас создать вскорости подобное же стихотворение, то (если не найдете просьбу мою нескромною) я желал бы немедленно его получить; употреблю тогда все силы, чтобы вполне постичь прелесть вашей поэзии. Дедикацию мою считайте, отчасти, как знак удовольствия, которое испытал я, сочиняя музыку к вашей «Аделаиде», а отчасти как знак моей глубокой благодарности за блаженство, доставляемое мне вашей музой и ожидаемое мною от нее впредь.
Вспоминайте иногда, при разыгрывании «Аделаиды», искренно уважающего вас
Бетховена.
Вена, 1800 года, 4-го августа.
Спустя еще 15 лет Маттисон выпустил новое издание своих стихотворений, где поместил весьма польстившее Бетховену примечание: «эта небольшая лирическая фантазия вдохновила многих композиторов, но, по моему глубокому убеждению, никто не снабдил текста более яркими звуковыми красками, как гениальный Людвиг ван Бетховен». Произведение это до сих пор очень популярно среди немцев и аранжировано в разнообразнейших видах.
Дружественные отношения установились между композитором и придворным капельмейстером Зейфридом, кажется, единственным близким приятелем, не испытывавшим на себе его капризных выходок; «тридцатилетнее знакомство наше, – рассказывает Зейфрид в своих воспоминаниях, – ни разу не было омрачено ссорой или размолвкой, хотя наши взгляды часто расходились, и каждый из нас высказывался свободно, ничуть не желая навязывать другому своего убеждения».
К числу приятелей Бетховена относятся также Генрих Эппингер, часто исполнявший скрипичные партии в сочинениях композитора, и скрипач Херинг, променявший впоследствии искусство на службу в банке. Третий скрипач, Венчеслав Крумпхольц, брат известного в свое время арфиста, также был близок к Бетховену и даже давал ему уроки скрипичной игры. Из пианистов Бетховен благоволил к трем молодым виртуозам: Карлу Черни, сыну боннского музыканта Венчеслава Черни, впоследствии основателю выдающейся издательской фирмы в Лондоне, к Хуммелю и Ф. Рису.
Дарование первого из них еще в отроческом возрасте было отмечено Бетховеном выдачей такого документа.
Мы, нижеподписавшийся, не можем отказать юноше Карлу Черни в удостоверении того, что он сделал чрезвычайные успехи в игре на фортепиано, поразительные для его 14-летнего возраста, и что он, принимая во внимание как эти способности, так и удивительную память, заслуживает всевозможной поддержки, тем более, что его родители употребили все свое состояние на образование многообещающего сына
Вена, 7 декабря 1805 года.
Людвиг ван Бетховен.
Иоанн Непомук Хуммель (1778–1837), ученик Моцарта, уже прославившийся на всю Европу, но продолжавший занятие у Сальери и Альбрехтсбергера, получал, вероятно, нередко от композитора, развлекавшегося поваренным искусством, записки вроде следующих:
Композитору И. Н. Хуммелю.
Пусть он больше не приходит ко мне. Это хитрый пес, а хитрые псы пусть убираются к черту.
Вена, 1799 год. Бетховен.
Душечка Нацерль.
Ты честный малый и был прав, я вижу это, приди сегодня после обеда ко мне, и ты найдешь здесь Шупанцига, мы оба будем тебя колотить, волочить и молотить, чтобы доставить тебе удовольствие.
Целует тебя твой Бетховен.
Поручив проверку переписанных оркестровых партий балета «Творения Прометея» своему земляку и ученику, Фердинанду Рису, он писал летом 1801 г. ему:
Дорогой Рис! Выберите 4 партии лучше переписанные, просмотрите их и пометьте затем их № 1; когда сверите их с партитурою и исправите, то возьмите другие партии и сравните с исправленными, советую быть крайне внимательным.
Дорогой Рис, убедительно прошу вас сделать так, чтобы я сегодня же получил список; вы должны также просмотреть (я тут ни при чем) партии скрипок и непременно завтра, так как знаете, что послезавтра уже репетиция.
Любезный Рис, прилагаю исправленные мною четыре партии; проверьте по ним прочие списанные партии, и если вы убеждены в том, что из переписанного четыре партии совершенно правильные и проверены, то послезавтра я отправлю 4 партии, обозначенные № 1, а потом можете исправить остальные из просмотренных вами партий.
Вот вам и письмо к Броуну, в котором сказано, чтобы он выдал вам вперед 50 # для экипировки. Этого требуют обстоятельства, и вас оно не должно оскорблять, так как, покончив с делами, вам в понедельник на будущей неделе уже надобно будет отправиться с ним в Баден. Я должен вас упрекнуть в том, что вы раньше не обратились ко мне; разве я не искренний друг ваш? Почему скрываете от меня свою нужду? Никто из друзей моих не должен терпеть нужды, пока у меня есть что-нибудь. Я послал бы вам немного денег, если бы не надеялся на Броуна. Если из этого ничего не выйдет, так обратитесь немедленно к вашему другу Бетховену.
Так же высоко ставил Бетховен известного английского пианиста Крамера, восхищался его виртуозностью, превозносил его этюды и местами, в своих фортепианных произведениях, проявил подражание его техническим приемам. В печатном экземпляре его этюдов, хранящемся в берлинской Konigliche Bibliotek, имеется множество указаний, наставлений, объяснений, высказанных Бетховеном своему племяннику Карлу и записанных А. Шиндлером.
Проводя досуг среди этих приятелей не менее охотно, чем среди прелестных венок, артист посвящал целые дни своим работам, вследствие чего эту эпоху можно считать наиболее плодовитой в жизни композитора.
Существует легенда о дьяволе, которому понравилось на одной картине изображение дерева. «Ты влюблен, художник; иначе дерево не представилось бы тебе в том виде, как ты нарисовал его», – сказал он художнику. Постоянной влюбленностью композитора можно объяснить ту глубину поэзии, которую вносил Бетховен в свои произведения. Подобно Прометею, оживившему мир огнем небесным, Бетховен вносил пламя вечной любви во все свои творения и неудивительно, что предание о Прометее также вдохновило композитора.
Сын неаполитанского танцора, Сальватор Вигано, родился 29 марта 1769 года, начал свою артистическую деятельность в Риме, где исполнял партии оперных примадонн; когда регистр его голоса стал ниже, и растительность стала покрывать щеки, Вигано перешел в балет и женился на известной в свое время балерине Марии Медина. Певец и танцор был в то же время немного композитором и либреттистом, но к написанному им в 1799 году в Вене сюжету балета «Творения Прометея» Вигано не решился сам сочинить музыку, а обратился к содействию Бетховена, последствием чего явилось произведение (ор. 43), впервые поставленное в венском королевском театре 28 марта 1801 года и весьма распространенное во множестве самых разнообразных аранжировок. Если принять во внимание красоты бетховенской музыки, если вспомнить, что двухактный балет написан одновременно с 1-й симфонией, патетической сонатой и сонатой quasi una fantasia, которою напоминает местами (например, тема увертюры allegro molto, c-dur, повторяемая в финале), если просмотреть эту партитуру, богатую не одним чудным adagio, если вспомнить те волшебные эффекты, которых достигла ныне техника балетной mise en scene, если прибавить к этому, кстати, модное в наши дни увлечение танцами под классическую музыку, в стиле Исидоры Дункан, то нельзя не пожалеть о пренебрежении, в котором находится ныне это произведение, выдержавшее в 1801 году 16, а в 1802 году 13 представлений и вскоре после издания поставленное в миланском театре La Scala.
После первого представления балета Иосиф Гайдн, при встрече с Бетховеном, похвалил его «Творения», на что последний ответил, шутя намекая на последнее произведение Гайдна «Сотворение мира»:
– Однако, любезный папа, мне далеко до творчества.
– Да, голубчик, – проговорил Гайдн, недовольный такой остротой и сравнением незначительной балетной музыки с величественной ораторией, – кажется, оно для вас недоступно; ведь вы – атеист.
Время появления этого балета связано с двумя событиями, отразившимися в целом ряде последующих композиций: накануне XIX века начались физические страдания Бетховена, приведшие его к глухоте и водянке; в то же время наш постоянно влюбленный артист испытал сильнейшие сердечные муки, вызванные графиней Гвичиарди, отвечавшей взаимностью на его страстную любовь.
Уже в 1706 году Вегелер заметил страдания композитора, вызвавшие заметку в дневнике последнего о немощности телесной и приведшие к роковой болезни: «в нижней полости живота моего друга крылась причина всех его бедствий, его глухоты и потом водянки; неправильный образ жизни усиливал болезнь». Летом 1796 года Бетховен возвратился однажды вечером домой чрезвычайно разгоряченным, отворил настежь окна, двери и в одном белье сел на сквозняке у окна. В другой раз он увлекся сочинением пьесы к своему концерту, четыре писца спешили переписать эту композицию, в то время как автор страдал обычными коликами, и Вегелер старался облегчить эти боли. Брейнинг приписывает все эти страдания неряшливой обстановке и небрежным приемам, которые сопровождали постоянные самообливания холодной водой рассеянного и невнимательного к своему здоровью композитора; только мучительные боли, повторявшиеся чаще, заставили его обратиться к правильному лечению, для чего он пригласил сначала одного из своих приятелей. Директор городской больницы фон Франк надеялся восстановить правильную деятельность нижней полости живота укрепляющими средствами, а слух – миндальным маслом, но неуспешность этого лечения заставила обратиться к хирургу фон Верингу, главному врачу штаба, отцу знаменитого в свое время венского доктора Иосифа Веринга и жены Стефана Брейнинга, прописавшему теплые ванны с раствором укрепляющих веществ, какие-то пилюли для желудка и чай для уха, а также нарывные пластыри из волчьего лыка на обе руки; в то же время, по совету Вегелера, он прикладывал на живот травы. Нетерпеливый артист, быть может, вредил своему здоровью частой переменой врачей и не всегда исправным выполнением их предписаний. Недовольный лечением Веринга, он обратился к штабному врачу И. А. Шмидту, более удачно исполнявшему партию виолончели в квартетах Бетховена, нежели требования его относительно скорейшего исцеления. Затем следует лечение у патера Вейса, состоявшего при соборе Св. Стефана и успешно лечившего ушные болезни. Цмескаль свел Бетховена к этому прославленному специалисту, и Бетховен сначала исправно посещал ежедневно пастора, вливавшего ему в ухо какую-то жидкость; вскоре посещения эти прекратились, и Цмескаль убедил патера ходить к композитору на дом, но и это не помогало: последнему надоело ежедневно возиться с лечением, и он стал скрываться от доктора. Таким образом, недуг превратился в хронический и сгустил не один мрачный колорит в его партитурах. «Вы не можете себе представить, – писал Брейнинг своему зятю Вегелеру, – какое невообразимое, почти страшное влияние произвела на Бетховена потеря слуха. Подумайте, каково человеку с таким пылким нравом чувствовать себя несчастным, притом имейте в виду его скрытность, недоверчивость часто к наилучшим друзьям, нерешительность во многих случаях. Когда настроение его по-прежнему проявляется свободно, то, за редкими исключениями, совместная жизнь с ним требует большого напряжения; приходится постоянно быть настороже. С мая до начала ноября мы жили в одном доме, и с первых же дней я поместил его в свою комнату. Едва он устроился у меня, как захворал опасно: болезнь перешла в продолжительную, перемежающуюся лихорадку.
Уход за ним и заботы изнурили меня. Теперь он совершенно здоров.
Он живет в Bastei, а я – во вновь выстроенном доме барона Эстергази, близ казармы (Alster), и так как у меня собственное хозяйство, то он ежедневно обедает у меня».
Подробности относительно своей болезни расскажет нам Бетховен сам в приводимых ниже письмах к Вегелеру; он пишет (второе и третье) письма из своей новой квартиры в доме графа Пасквалати, находившемся в центре Вены, у бастиона, часть которого еще и ныне выступает против университета. В упомянутых письмах мы встречаем уже знакомые имена Лорхен (Элеоноры Брейнинг, жены доктора Вегелера), ее брата Штофеля (Христофора), их матери (придворной советницы), Риса-сына (Фердинанда); он обещает своему другу послать новые сочинения и картину (Антиоха), вероятно, оставленную Вегелером в Вене при возвращении в Бонн.
Вена, 29 июня 1800 г.
Мой добрый, милый Вегелер!
Как я благодарен тебе за память обо мне. Несмотря на то, что я так мало заслужил ее и так мало старался достигнуть этого, ты все же так добр и, невзирая ни на что, даже на мою непростительную небрежность, остаешься моим верным, добрым, честным другом. Поверь, что я не могу забыть тебя, ни всех вас, милых и дорогих мне. Бывают минуты, когда я тоскую по вас и желал бы побыть с вами. Отчизна моя, эта прекрасная страна, в которой я узрел свет, все еще так ясно представляется глазам моим и притом такой же прекрасной, как во время моего с вами расставания. Короче сказать, самым счастливым событием моей жизни сочту я то время, когда в состоянии буду снова увидеть вас и поклониться нашему отцу-Рейну. Когда произойдет это, не могу я еще определить. Могу сказать только, что вы встретите во мне не только гораздо более совершенного художника, а также и лучшего, более совершенного человека; и если положение дел в нашем отечестве окажется несколько лучше, то я покажу искусство свое, но только в пользу бедных. О блаженный час, каким счастливцем я сочту себя, когда буду близок к этому событию, когда исполню желанное!
Ты хочешь знать что-нибудь о моем положении? Ну, оно не очень скверно; начиная с прошлого года Лихновский, который, как бы тебе не показалось это невероятным, всегда был и остается моим искренним другом (небольшие столкновения бывали между нами, пожалуй, еще более скрепляя нашу дружбу), назначил мне определенную сумму в 600 гульденов, которую я могу получать до тех пор, пока не найду подходящего для себя места. Композиции мои приносят мне много, и могу сказать, что получаю столько заказов, что не в состоянии их удовлетворять. На всякую пьесу имею я 6–7 издателей; а если пожелаю, то и еще больше. Со мною теперь уж не торгуются: платят то, что требую. Ты понимаешь, как это хорошо. Если я, например, вижу своего друга в нужде, и кошелек мой не может оказать ему немедленной помощи, то мне стоит только присесть, и вскоре помощь оказана. Кроме того, я стал экономнее прежнего. Если останусь здесь навсегда, то доведу дела свои до того, что ежегодно буду устраивать по одному собственному концерту; я уже давал их несколько раз. Только расстроенное здоровье мое сыграло со мною чертовскую шутку: в продолжение последних трех лет я стал слышать все хуже. Причиной этому послужили желудочные боли, которыми, как тебе известно, я еще прежде страдал, будучи постоянно одержим поносом. Франк хотел настроить мой организм укрепляющими лекарствами, а слух – миндальным маслом, но не тут-то было! Из всего этого ничего не вышло: слух мой становился все хуже, а желудок оказался в прежнем положении.
Так это длилось до осени прошлого года, приводя меня по временам в отчаяние. Тогда один медицинский осел посоветовал мне купаться в холодной воде, а другой, менее глупый, – в обыкновенных теплых ваннах из дунайской воды. Эффект был чудный: брюшные страдания уменьшились, а слух остался без изменения, или, вернее, стал еще хуже. Эту зиму провел я действительно в самом жалком состоянии: страдал ужасной коликой и снова впал в мое прежнее состояние, от которого освободился лишь около четырех недель тому назад, благодаря Берингу, к которому я, имея доверие, и обратился, предполагая, что болезнь моя требует помощи хирурга. Ему удалось почти совершенно остановить понос, прописав для этого тепловатые дунайские ванны, в которые я всякий раз вливал еще бутылочку крепительного вещества. Он не давал мне никакого лекарства и только дня четыре тому назад прописал пилюли для желудка и какой-то чай для уха.
Теперь могу сказать, что чувствую себя здоровее и лучше; только в ушах гул и рев продолжаются день и ночь. Признаюсь, жизнь моя жалка: почти два года избегаю всякого общества, так как не могу открыться в том, что я глух. Если бы у меня было другое занятие, то беда была бы невелика, но при моей специальности – это ужасно. К тому же еще враги мои, число которых довольно значительно… Что они скажут!
Чтобы дать понятие тебе об этой удивительной глухоте, скажу, что в театре, чтобы понять исполнение артистов, я вынужден садиться как можно ближе к оркестру. Несколько удалившись, я уже не слышу высоких тонов инструментов и пения. Удивительно, что находятся такие, которые в разговоре со мною этого не замечают, приписывая все моей постоянной рассеянности. Иногда я слышу даже тихий разговор, но одни лишь звуки, не понимая слов; если же начинают кричать, то это становится для меня невыносимым. Что будет дальше – одному небу известно. Беринг говорит, что наверное станет лучше, хотя не совсем. Я уже не раз проклинал свое существование; но, благодаря чтению Плутарха, покоряюсь Провидению. Удастся ли, не знаю, но хочу бороться с судьбой, хотя, конечно, будут минуты, когда я буду чувствовать себя несчастнейшим существом в мире. Прошу тебя о состоянии моем никому, даже Лорхен, ничего не говорить, так как только тебе доверяю это, как тайну. Мне хотелось бы, чтобы ты по этому предмету списался при случае с Берингом. Если состояние мое останется таким же, то будущей весной приеду к тебе. Ты наймешь мне дачу в какой-нибудь красивой местности, и я проживу там крестьянином с полгода. Может быть, состояние мое изменится. Смирение! Какой жалкий исход, а все же оно остается для меня единственным.
Надеюсь, ты не станешь меня винить за то, что, несмотря на печальное твое положение, навязываю тебе, пользуясь твоей дружбой, еще эти заботы. Стеф. Брейнинг находится теперь здесь, и мы почти ежедневно видимся; мне так приятно снова вызывать в себе прежние чувства. Он действительно сделался добрым, прекрасным малым, кое-чему научился и, подобно многим из нас, имеет более или менее чуткое сердце.
У меня теперь прекрасная квартира с видом на бастион и вдвойне полезная для моего здоровья. Думаю, что мне удастся устроить, чтобы Брейнинг перешел ко мне. Твоего Антиоха получишь и, кроме того, еще множество моих нот, если это не покажется тебе дорогим. Откровенно говоря, любовь твоя к искусствам меня продолжает очень радовать. Напиши только, каким образом выслать тебе все мои сочинения, число которых, разумеется, немалое и возрастает с каждым днем. Взамен портрета моего дедушки, каковой прошу тебя скорее выслать по почте, посылаю тебе портрет его внука, преданного тебе сердечно Бетховена; портрет этот продается здесь у Артариа, который об этом так часто просил меня, и в других магазинах художественных произведений. Штофеллю я вскоре буду писать и немножко проберу за его упрямство. Напомню ему прежнюю дружбу и потребую клятву в том, что он не станет беспокоить своими жалобами вас, достаточно уже удрученных горем вашим. Также и доброй Лорхен напишу я. Никогда, милые мои, не забывал я кого бы то ни было из вас, даже если и ничего не писал. Но писать (ведь это тебе известно) я небольшой охотник; самые лучшие друзья мои по целым годам не получали от меня писем. Я живу только среди своих нот, и едва кончаю с одними, как уже приступаю к другим; пишу я иногда три, четыре пьесы одновременно. Пиши мне почаще; постараюсь также уделять свободное время письмам к тебе. Кланяйся от меня всем, добрейшей госпоже придворной советнице тоже и скажи ей, что у меня по временам бывает еще raptus. Что касается К., то я вовсе не удивлюсь тому, что она изменилась; счастье – шарообразно, и не всегда падает на лучшее, благороднейшее. Еще одно слово насчет Риса, которому передай мой сердечный поклон.
Относительно его сына напишу тебе подробнее, хотя думаю, что для карьеры Париж лучше Вены. Вена переполнена деятелями, вследствие чего даже самым выдающимся трудно здесь жить. До осени или до зимы подумаю, как ему помочь, потому что тогда все возвратятся в город. Прощай, добрый, верный Вегелер! Будь уверен в любви и дружбе твоего
Бетховена.
Вена, 16 ноября 1800 года.
Мой добрый Вегелер!
Благодарю за новое доказательство твоей заботливости обо мне, тем более, что я этого так мало заслужил. Ты хочешь знать, как я поживаю, в чем я нуждаюсь. Хотя вообще я не люблю об этом вести беседу, но с тобою охотно поговорю.
Беринг уже несколько месяцев накладывает мне на обе руки шпанские мушки, которые, как ты знаешь, делаются из известной коры. Это весьма неприятное лечение, так как всякий раз (пока под пластырем не нарвет) я лишаюсь дня на два свободного движения рук, уж не говоря о боли. Действительно, не могу отрицать того, что шум и гул несколько уменьшились, в особенности в левом ухе, с которого собственно болезнь и началась, но слух мой нисколько не улучшился. Не решаюсь утверждать, но, кажется, что он скорее ухудшился. С желудком дело идет лучше; в особенности от теплых ванн, в продолжение нескольких дней я чувствую себя затем от 8 до 10 дней прекрасно. Весьма редко принимаю что-либо укрепляющее желудок. Теперь начинаю, согласно твоему совету, прикладывание трав к животу. О душах Беринг ничего слышать не хочет. Вообще я им очень недоволен: он проявляет слишком мало заботливости и терпения; но если бы я не ходил к нему (что мне крайне трудно), то никогда и не видел бы его. Какого ты мнения о Шмидте? Хотя я не склонен к переменам, но мне кажется, что Беринг слишком предан практике, не следит за наукою, не пользуется новыми исследованиями. Шмидт представляется мне в этом отношении совсем другим человеком и не столь нерадивым. О гальванизме рассказывают чудеса; каково об этом твое мнение? Один медик сказал мне, что этим способом слух возвращен глухонемому ребенку (в Берлине) и одному человеку, который семь лет был глухим. Только что узнал я, что твой Шмидт занимается этими опытами.
Теперь я чаще бываю в обществе, и потому жизнь моя стала несколько веселее. Ты не можешь себе представить, как одиноко и печально провел я последние два года. Глухота, точно призрак какой-то, преследовала меня повсюду; я избегал людей, прикидываясь мизантропом, каковым никогда не был. Эту перемену произвела во мне милая, очаровательная девушка, которая любит меня, и которую я люблю. После двух последних лет печального существования я испытал несколько светлых минут и чувствую впервые, что женившись, могу быть счастливым. К сожалению, она не моего звания – и теперь – я, конечно, не мог бы жениться; – мне предстоит еще много борьбы и хлопот. Если бы я не страдал глухотой, то уж давно объехал бы полсвета; это мне необходимо. Для меня нет высшего удовольствия, как заниматься своим искусством и проявлять его. Не думаю, что у вас мне было бы лучше. Да и что может сделать меня счастливее? Даже заботливость ваша только стесняла бы меня. Ежеминутно видел бы я на ваших лицах сострадание и считал бы себя еще более несчастным. Что может мне дать прекрасная моя отчизна? Ничего, кроме надежды на лучшее в будущем. Оно осуществилось бы, если бы не эта болезнь! О, спасите меня от нее, и я заключу весь мир в свои объятия! Моя молодость – да, я это чувствую, – она только теперь начинается. Ведь прежде я постоянно хворал, теперь же, с некоторого времени, мои физические силы, а вместе с ними силы духовные, более чем когда-либо, стали крепнуть. С каждым днем приближаюсь я все больше к цели, которую чувствую, но не в состоянии определить. Только таким образом жить может твой Бетховен. Прочь, спокойствие! Кроме сна, я не признаю никакого отдыха и мне весьма больно, что я должен теперь посвящать ему больше времени, чем прежде. Хотя бы наполовину только освободиться от недуга, чтобы отправиться к вам, чтобы предстать пред вами в полном расцвете сил и возобновить прежние дружеские отношения.
Вы должны видеть меня счастливым, насколько это мне суждено в земной жизни, но никак не несчастным; нет, этого я не мог бы перенести. Я схвачу судьбу за горло и не допущу, чтобы она сокрушила меня.
– О, как прекрасно тысячи раз переживать волнующие нас чувства! Для жизни безмятежной, – да, я это чувствую, – я более не годен.
Пиши мне как можно скорее. Позаботьтесь, чтобы Степка непременно поступил в какую-нибудь немецкую общину. Жизнь здесь слишком вредна для его здоровья. Кроме того, он живет так уединенно, что и думать не может о карьере. Тебе ведь известна здешняя жизнь. Я даже не решаюсь утверждать, что общество могло бы ослабить упадок его духа; да и уговорить его пойти куда-нибудь невозможно. Я как-то устроил у себя музыкальный вечер, но наш милейший Степка не явился.
Посоветуй ему побольше отдыха и спокойствия, без которых ему никогда не быть счастливым и здоровым; я, со своей стороны, приложил к этому уже все усилия. Напиши мне в следующем письме, не обременяет ли тебя присланная мною масса нот. Те из них, которые тебе не нужны, а также портрет мой, можешь продать и таким образом выручить почтовые расходы. Лорочке, маменьке и Христофору мои приветствия и лучшие пожелания. Ведь ты хоть немного любишь меня? Будь же уверен также в любви и дружбе твоего Бетховена.
В большой старой конторке, за которой Бетховен обыкновенно работал, Стефан Брейнинг нашел, после его смерти, в секретном ящичке, несколько документов и, между ними, три письма карандашом, на толстой бумаге малого формата и тем крупным, быстрым почерком, который с каждым годом становился все менее разборчивым; написаны они к девице, отношения композитора к которой оставались тайной для всех его друзей и современников, кроме Шиндлера, который уверяет, что знал о периоде бурного, безумного увлечения композитора «очаровательной девицей, к сожалению принадлежавшей к другому классу». Между письмами находились высохший цветочек и женский портрет с подписью «Т. В.»; цветок поныне лежит в письмах, хранящихся в берлинской королевской библиотеке, а подпись на портрете вызвала в 1878 году продолжительные споры биографов о личности, которой были адресованы упомянутые письма; Шиндлер утверждал, что письма адресованы к Дж. Гвичиарди; Тайер и некоторые позднейшие биографы утверждают, что «бессмертной возлюбленной» была графиня Тереза Брунсвик (1778–1850 г.), сестра Франца Брунсвика, одного из приятелей композитора; по этой версии, все еще оспариваемой, Тереза Брунсвик сама якобы рассказывала, что письма написаны к ней в 1806 году, и тогда же она была помолвлена с композитором, гостившим в имении Брунсвика, Мартонсвазар, в Венгрии; Франц отнесся сочувственно к предполагавшемуся браку сестры с Бетховеном, но брак тем не менее не состоялся. Фриммель полагает, что письма эти адресованы к певице Магдалине Бильман, которую композитор также мечтал назвать своей женой. Сангалли старался недавно доказать, что героиней этого романа является Амалия Зебальд, к которой композитор не решился послать своих страстных, местами зачеркнутых, местами бессвязных, как бред больного, признаний.
Иное рассказывают Ноль и Шиндлер о происхождении загадочных писем, ныне составляющих часть богатой коллекции рукописей Бетховена в Берлинской библиотеке.
В 1800 году граф Франческо Джузеппе Гвичиарди поселился в Вене, где получил место в управлении по делам Богемии; его жена, Сусанна, была в родстве с домом графа Брунсвика. Их дочь, Джульетта, родилась 23 ноября 1784 г.; стройная, с темными локонами и голубыми глазами, с меланхоличным взглядом и много сулящими губками, 16-летняя девица делала большие успехи в музыке под руководством Бетховена. «Он заставлял меня, – рассказывала Джульетта в 1852 году Отто Яну, – играть свои сочинения, причем был очень строг и стремился к выработке легкой игры и к отделке мельчайших подробностей. Он был вспыльчив; бывало, бросал и разрывал ноты… Хотя он был беден, но не брал платы за уроки; я дарила ему купленное белье под видом моей собственной работы… Он был некрасив, но благороден, деликатен и образован; одевался бедно».
Графиня Юлия (Джульетта) Гвиччарди. Начало XIX в.
Искусство сблизило молодых людей, забывших на время о недугах влюбленного и о титуле красавицы. Торопливое искание помощи врачей, стремление концертами и множеством композиций привести в порядок свое здоровье и плотность кошелька, все это было вызвано, вероятно, желанием девицы поспешить со свадьбой, чтобы избежать грозившего ей брака с юным, 17-летним графом Галленбергом, впоследствии антрепренером и автором нескольких балетов, не изгладивших из памяти Джульетты звуков посвященной ей Cismoll сонаты и образа гениального учителя. Все три сохранившихся письма написаны в течение одних суток из Коморна, городка близ Будапешта, куда ездил Бетховен летом для пользования минеральными ваннами.
6 июля, утром.
Мой ангел, мое все, мое я! Сегодня лишь несколько слов и притом карандашом – (твоим), так как завтра должен искать себе новую квартиру. Какая пустая трата времени!.. К чему эта глубокая скорбь, если обстоятельства требуют иного; ведь любовь наша не может существовать без жертв, без самопожертвования; разве ты можешь изменить те обстоятельства, вследствие которых ты не вся принадлежишь мне и не весь я твой… Ах, Господи! Взгляни на чудную природу и успокой свое сердце. Любовь требует всего и имеет на то право. То же самое происходит в отношениях твоих ко мне и моих к тебе. Однако не забывай, что я должен жить для себя и для тебя… Если бы не существовало препятствий к нашему взаимному влечению, то боль эта была бы для тебя так же не чувствительна, как и для меня… Путешествие мое было ужасное; я только вчера, в 4 часа утра, прибыл сюда. Так как оказался недостаток в лошадях, то почту направили другим путем, но самым ужасным; на последней станции предостерегали меня не ехать ночью, пугали опасным переездом через лес, но это меня только подзадорило и – напрасно: экипаж мой мог сломаться на этой ужасной, изрытой проселочной дороге. Не будь у меня хороших ямщиков, я остался бы среди дороги. Эстергази, с восьмеркою лошадей, на другом, обыкновенном пути, постигла та же самая участь, какая меня постигла с четверкою. Однако я испытал потом удовольствие, как и всегда, когда удается преодолеть препятствие. Теперь от внешних дел к внутренним. Мы вскоре увидимся, но я все еще не в состоянии дать отчета о том, что я передумал за последние дни о своей жизни. Если бы наши сердца были всегда неразлучны, то, конечно, мысли мои были бы иные. Много накопилось в груди такого, что хотелось бы рассказать тебе. Ах, – бывают минуты, когда я нахожу, что слова мои бессильны. Будь весела и оставайся моим верным другом, единственным сокровищем, моим всем; я же весь твой. Остальное, что нас ожидает, – да ниспошлют боги.
Твой верный Людвиг.
Понедельник, 6 июля, вечером.
Ты страдаешь, ты, мое драгоценнейшее создание! Только что я узнал, что письма следует подавать рано утром по понедельникам и четвергам; это единственные дни, в которые почта идет отсюда в К. Ты страдаешь! Ах, где бы я ни находился, всегда ты со мною. Мы устроим с тобою жизнь неразлучную. Какую жизнь!!! Да!!! Без тебя страдаю от доброжелателей и их преследований, которых нисколько не заслуживаю и избегаю. Унижение одного человека перед другим огорчает меня, в особенности при мысли о том, что именно представляю собою я среди окружающих, и что представляет тот, которого все называют величайшим. В этом-то сознании кроется божественное начало человека. Я плачу при мысли, что ты, вероятно, только в субботу получишь от меня первую весточку. Как бы ты ни любила меня, все же я люблю тебя сильнее… Не скрывай от меня ничего. Спокойной ночи!.. Так как я пользуюсь водами, то обязан уже лечь. Ах, Господи! Так близко и так далеко! Не есть ли любовь наша настоящее небесное здание и такое же незыблемое, как Твердь небесная.
7-го июля.
Доброго утра!
Лишь проснусь, мысли мои уже стремятся к тебе, моя бессмертная возлюбленная; в каком настроении и где бы я ни был, постоянно жду решения судьбы. Или мы должны быть неразлучны, или я готов умереть. Да, я решил блуждать вдали от тебя до тех пор, пока твои объятия не примут меня; тогда стану я вполне твоим и буду готов перейти в царство теней.
Это неминуемо, к сожалению… Ты должна успокоиться; ведь верность моя тебе известна; другая не может владеть никогда моим сердцем – никогда, никогда. О Боже! Почему любимое постоянно удаляется?.. Жизнь моя в В. так же жалка. Любовь твоя сделала меня счастливейшим и в то же время несчастнейшим. В мои годы необходима некоторая равномерность в жизни. Но возможно ли думать о ней при настоящем положении? Только что, ангел ты мой, узнал я, что почта отходит ежедневно и спешу кончить, чтобы ты скорее получила это письмо. Будь спокойна; только спокойным отношением к нашему положению можем достичь своей цели – жить вместе. Будь спокойна, люби меня. Сегодня и вчера, – какие слезы, какая тоска по тебе, – тебе, – тебе, – жизнь моя, – мое все! Прощай! О, люби меня по-прежнему! Не забывай никогда вернейшего сердца твоего возлюбленного Л.
Вечно твой
Вечно свой
Вечно наш.
Наиболее сильное, глубокое увлечение Бетховена оказалось таким же безутешным для него, как и многие другие; 3 ноября 1803 года Джульетта изменила своему Ромео и вышла замуж за графа Галленберга, с которым судьба свела Бетховена спустя двадцать лет; уже весной 1802 года участь его была решена непреклонными родителями Джульетты, предложение отвергнуто и надежды разбиты. Безропотно, молча перенес он этот удар и немедленно покинул Вену, чтобы погостить и рассеяться у графини Марии Эрдеди, в ее имении Иедлерзее (в Моравии), где нисколько не удивились тому, что через день композитор, не простившись, исчез, а спустя три дня был найден в отдаленной чаще сада; странности его были всем известны, и никто не искал причины такого поступка, едва не уморившего с голоду Бетховена.
Лето 1802 года композитор провел в Деблинге, предместье Вены, по сие время мало застроенном и состоящем из возвышенной части – Обердеблинг, и склонов холма – Унтердеблинг. В продолжительных прогулках на Каленберг и к Хейлигенштату он мысленно переживал период сердечных мук, все более и тревожнее останавливался над мыслью о своих физических недугах, не поддававшихся исцелению, причем чарующий образ красивой итальянки постепенно сменялся грозным призраком смерти, страдания влюбленного музыканта уступали место мрачным идеям мизантропа; настроение, вызвавшее сонату Cis-moll, сменилось иным, давшим миру сонату D-moll. В эти тяжелые минуты композитор не забывал своего искусства, своей музы. Отсюда он пишет Ферд. Рису:
Вам, конечно, известно, что я нахожусь здесь. Пойдите к Штейну и узнайте, не пришлет ли он мне сюда инструмент за плату. Свой переносить боюсь. Придите сюда сегодня около 7 часов вечера. Квартира моя находится в Oberdobling, № 4, улица влево, где гора начинает спускаться к Хейлигенштату.
Тетрадь эскизов, относящихся к этому времени, указывает на обилие музыкальных идей и на чрезвычайно усиленную творческую деятельность.
«В Вене, – говорит Рис, – за мной присылал Бетховен, бывало, в 5 часов утра; на дачу к нему в Деблинге я приходил к 8 часам утра и, выпив кофе, мы предварительно отправлялись гулять и возвращались обыкновенно в 3–4 часа, закусив где-нибудь на дороге, в деревне. На одной из таких прогулок я впервые был поражен глухотой Бетховена, о которой мне раньше говорил Стефан фон Брейнинг. Я обратил его внимание на пастуха, который играл очень мило на свирели. Бетховен в течение получаса не мог ее расслышать и стал чрезвычайно мрачен и молчалив, хотя я начал уверять его нарочно, будто тоже перестал слышать… Три сонаты ор. 31 Бетховен обещал издателю Негели в Цюрихе, тогда как брат его, который, к сожалению, все чаще стал вмешиваться в дела композитора, задумал продать их лейпцигскому издателю. Между братьями часто возникали ссоры из-за того, что Бетховен хотел сдержать слово… Однажды на прогулке братья так поссорились, что дело дошло до драки. На другой день он отдал мне сонаты, чтобы тотчас же отправить их в Цюрих, и письмо к своему брату, вложенное в другое письмо к Стефану Брейнингу. Едва ли кто сумел бы дать лучшее и более мягкое наставление, чем то сделал Бетховен своему брату по случаю его вчерашнего поведения. Сначала он выставил ему поступок его в истинном, непривлекательном виде, затем простил его, но пророчил ему печальную будущность, если он не исправится. Письмо, написанное к Брейнингу, тоже прекрасно».
Брат композитора Карл проявлял значительное участие к его делам; побудительных причин к тому было немало: Людвиг Бетховен сознавал свою беспомощность в удовлетворении многих обыденных потребностей и почти ежедневно обращался за содействием к кому-либо из близких ему лиц; нужно ли ему нанять квартиру, заказать платье, купить шляпу, продать банковский билет, заключить договор с издателем, – Бетховен, как дитя малое, либо не умеет сам выбрать лучшего, либо платит вдвое против действительной стоимости. Нравственный долг побуждал Карла, а потом и Иоганна, помочь старшему брату, которому оба они были обязаны своим благосостоянием. Вместе с тем, часто испытывая нужду в деньгах, Людвиг обращался к материальной помощи братьев и тем давал им больше прав на контроль над его делами, а видя алчность издателей, стремившихся воспользоваться с лихвой трудами композитора, братья доводили свои заботы до степени опеки над его деятельностью, не брезговали удовлетворить также свою алчность трудами брата, что нередко вызывало ропот среди приятелей Людвига и раздражало его самого. Отсюда проистекали размолвки, затем примирения, опять ссоры и т. д.
Вступая в переписку с издателями, Карл Бетховен излагал свои соображения довольно развязно, смело и самоуверенно, определяя ценность рукописи.
Милостивый Государь, вы почтили нас, – писал он 23 ноября 1802 года издателю Андре в гор. Оффенбахе, – письмом, в котором выразили желание иметь произведения моего брата, за что мы вам очень благодарны. Сейчас у нас имеются лишь одна симфония и большой концерт для фортепиано; первая стоит 300 фл., второй – столько же. Если же вы желаете иметь еще 3 фортепианные сонаты, то я могу отдать их не дешевле 900 фл.; впрочем, их нельзя выслать теперь же, а лишь по одной через каждые 5–6 недель, так как брат мой теперь мало занимается подобными мелочами и пишет все оратории, оперы и т. п. Кроме того, мы должны получить по 8 экземпляров каждой изданной вами пьесы. Понравятся ли вам пьесы или нет, во всяком случае, прошу ответа, чтобы не упустить случая продажи их кому-либо другому. Еще имеются у нас 2 адажио для скрипки с инструментальным аккомпанементом; они стоят 135 фл., кроме того, 2 маленькие легкие сонаты, каждая в двух частях; эти могут быть к нашим услугам за 280 фл.
Шлю лучшие пожелания другу нашему Коху
Ваш покорнейший слуга К. в. Бетховен, кассир курфюрста.
В другой раз (27 марта 1806 года) брат пишет в Венское Bureau de musique:
Вы просили недавно брата моего прислать некоторые рукописи для издания, но он тогда не мог удовлетворить вас. Теперь он предлагает вам новый фортепианный концерт и ораторию «Христос на Масличной горе» в партитуре. Он полагает, что сумма в 600 флоринов, каковая должна быть уплачена здесь конвенционною монетою по венскому курсу, не очень высока, тем более что вы можете издать ораторию в 3-х видах: в переложении для фортепиано, в виде квартета и партитуры.
Если вам подойдут эти вещи, то прошу сообщить мне время, когда они могут выйти из печати.
Преданный вам К. в. Бетховен.
NB. Если пожелаете иметь новую оперу («Фиделио»), вновь ныне поставленную, то будьте добры написать мне об этом.
Когда Людвигу доказывали гадость некоторых поступков его братьев, он добродушно отвечал: «Что же делать, ведь они все же братья мне!» и при этом начинал бранить приятелей.
К этому периоду страстной, безутешной любви и физических страданий относится документ, известный под названием завещания Бетховена, это безыскусственное чистосердечное признание братьям в своих лучших чувствах к ним, хотя под впечатлением недавней ссоры с Иоганном, имя второго брата (поставленное нами) пропущено в завещании и все обращения гласят: «моим братьям Карлу и…»; в этом преждевременном послании братьям, в этом «Хейлигенштадтском завещании» ярко и рельефно отражается глубоко впечатлительная натура артиста, крик отчаяния наболевшей души среди мощных созвучий энергии и долготерпения, веры в себя и в свое искусство, стремления к идеалу, к истине, к добру и красоте.
Братьям Карлу и Иоганну Бетховенам.
О вы, считающие меня и называющие злым, упрямым или мизантропом! Как вы обижаете меня! Вам вовсе неизвестна тайная причина того, что вы видите. Ум мой и сердце с самого детства исполнены были нежного чувства доброжелательства. Я был способен даже на великие дела. Но подумайте только: уже шесть лет нахожусь я в неизлечимом состоянии, ухудшенном негодными врачами; из года в год обманываю я себя надеждой на улучшение и, наконец, принужден сознаться в том, что этого улучшения не видно (излечение, быть может, продлится много лет или совсем не удастся). По природе своей пылкого, живого темперамента, склонный к развлечениям в обществе, я рано вынужден был уединиться, проводить жизнь в одиночестве. Иногда приходило мне на мысль пренебречь всем этим; но как сурово тогда отталкивало меня вдвойне ужасное сознание поврежденного слуха; а между тем, я не мог обращаться к людям с требованием: «Говорите громче, кричите, потому что я глух!» Да и возможно ли было указывать на слабость чувства, которое у меня должно быть развито гораздо более чем у других, чувства, которым я некогда владел в высшей степени, в таком совершенстве, как немногие из музыкантов владеют или когда-либо владели! О, это свыше сил моих! Поэтому не вините меня, если я удалюсь оттуда, где охотно хотел бы пробыть с вами. Несчастье мое, если только я признаюсь в нем, причиняет мне двойную боль. Не для меня отдых в обществе, в задушевных разговорах, во взаимных сердечных излияниях. Очень редко и только по крайней необходимости могу я входить в сношение с обществом. Я должен жить, подобно изгнаннику. Как только приближаюсь к людям, мною овладевает боязнь обнаружить свое состояние. Так это было в продолжение последнего полугодия, проведенного мною в деревне. По совету моего толкового врача, – как можно более беречь слух свой, что вполне соответствовало моему положению, – я, несмотря на появлявшуюся часто потребность в обществе, избегал его. Какое унижение приходилось мне испытывать, когда стоявшие близ меня слышали издали флейту, а я не слышал ничего, или когда кто-нибудь слышал пение пастуха, я же опять ничего не слышал! Подобные случаи доводили меня почти до отчаяния; еще немного и я покончил бы с жизнью. Только одно оно, искусство, удерживало меня! Ах! Мне казалось невозможным покинуть свет раньше, чем исполню то, к чему чувствовал себя способным. И так влачил я это печальное существование, настолько печальное, что всякая неожиданность могла обратить во мне лучшее настроение в самое худшее. Терпение – вот что я должен теперь избрать своим руководителем! Я не лишен его. Надеюсь, что мне удастся терпеть до тех пор, пока неумолимым паркам угодно будет порвать нить моей жизни. Может быть станет лучше; может быть – нет. Я покоен. Уже на 28-м году жизни вынужден я быть философом. Это не так легко, а для артиста еще труднее, чем для другого. О божество, ты с высоты зришь мои помыслы. Ты знаешь, тебе известно, что я исполнен любви к людям и стремления к добру. О люди, если вы это прочтете когда-нибудь, то вспомните, что вы были несправедливы к тому, кто искал равного себе по несчастью, чтобы этим себя утешить, и, несмотря на все препятствия природы, сделал все, что было в его власти, чтобы стать в ряды достойных людей и артистов. Вы, братья мои, Карл и Иоганн, попросите после смерти моей, от моего имени, профессора Шмидта, если он будет еще жив, чтобы он описал мою болезнь; этот листок вы присоедините к его описанию, дабы человечество, сколь возможно, хоть после моей смерти примирилось со мною. Кстати, тут же объявляю вас обоих наследниками моего небольшого состояния (если его можно так назвать). Разделите его честно, живите между собою мирно и помогайте друг другу. Все, что вы сделали мне дурного, как вам известно, уже давно вам прощено. Тебе, брат Карл, особенно благодарен я еще за выраженную тобою мне привязанность в последнее время. Желаю вам лучшей, менее горестной доли, чем моя. Внушайте вашим детям добродетель; только она может осчастливить, а не деньги. Я говорю по опыту. Добродетель поддерживала меня даже в бедствии; ей так же обязан я, как искусству моему, тем, что не покончил жизнь самоубийством. Прощайте и любите друг друга! Всех друзей благодарю я, в особенности князя Лихновского и профессора Шмидта. Я желаю, чтобы один из вас хранил у себя инструменты князя Л., но чтобы из-за этого отнюдь не вышла у вас ссора. Если же они могут принести вам более существенную пользу, то продайте их. Как радует меня, что и в могиле я могу еще быть вам полезным.
Итак, с радостью спешу я смерти навстречу. Если она явится раньше, чем я успею развить все мои художественные способности, то это будет слишком рано; поэтому желательно, чтобы, несмотря на жестокую судьбу мою, она явилась позже. Но и в первом случае я буду доволен, так как она освободит меня от бесконечно болезненного состояния. Явись, когда хочешь: я бодро пойду тебе навстречу. Прощайте и не забывайте меня совсем после смерти: этого я заслужил пред вами, так как я при жизни часто думал о том, чтобы сделать вас счастливыми. Будьте же таковы.
Хейлигенштдт, 6-го октября 1802 г.
Хейлигенштадт, 10-го октября 1802 г.
Итак, я покидаю тебя, хотя прощаюсь с грустью. Да, я должен совершенно оставить сопровождавшую меня сюда надежду – излечиться хоть до некоторой степени. Надежда эта, подобно увядшим и падающим осенью листьям, иссякла для меня. Уезжаю отсюда почти в таком же положении, в каком прибыл сюда. Даже высокий подъем духа, воодушевляющий меня часто в прекрасные летние дни, совершенно исчез. О Провидение, пошли мне хоть один день чистой радости! Я так давно не испытывал в себе ее отголоска. Когда же, когда, о Божество, в состоянии буду я на лоне природы и человечества снова испытать ее! Никогда? Нет, – это было бы уж слишком жестоко!
Моим братьям Карлу и Иоганну по смерти моей прочесть и исполнить.