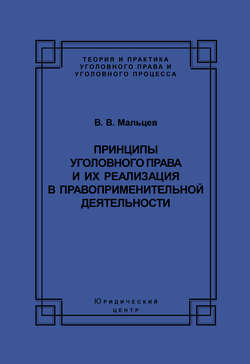Читать книгу Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности - Василий Мальцев - Страница 4
Глава I
С оциально-философские предпосылки формирования принципов уголовного права
§ 1. Справедливость и право: философско-социологический аспект
ОглавлениеИдеи справедливости с незапамятных времен владели умами людей. Они всегда отличали жестокость от благотворительности, честность от плутовства, знание от невежества, храбрость от трусости. Вечно бодрствующей и все замечающей представляли себе Богиню Справедливости народы Древнего Востока3.
«Следовательно, говорить правду, не вводить в заблуждение и приносить пользу – справедливо, а лгать, вредить и вводить в заблуждение – несправедливо?» – спрашивал Сократ. Однако на утвердительный ответ он уточнял, что справедливо вредить врагам и вводить их в заблуждение, справедливо помогать друзьям, пусть и «обманывая для их же пользы». Потому-то, заключал Сократ, «лгать и говорить правду одновременно будет и справедливым и несправедливым. А также справедливо и несправедливо путать и непутать. И подобно этому вредить и приносить пользу будет справедливым и несправедливым. И все такого же рода вещи одновременно и справедливы и несправедливы»4.
«Законодатель, – писал Платон, – должен наблюдать, где осуществляется справедливость, а где нет; он должен установить почести тем, кто послушен законам, а на ослушников налагать положенную кару, и так до тех пор, пока не рассмотрит до конца все государственное устройство вплоть до того, каким образом должно в каждом отдельном случае погребать мертвых и какие уделять им почести. Обозрев все это, законодатель поставит над всем этим стражей, из которых одни будут руководствоваться разумением, другие – истинным мнением, так чтобы разум, связующий все это, явил рассудительность и справедливость вопреки богатству и честолюбию»5.
Платон считал, что «главенствующее из божественных благ – это разумение; второе – сопутствующее разуму здравое состояние души; из их смешения с мужеством возникает третье благо – справедливость; четвертое благо – мужество». При этом под воспитанием он подразумевал то, что «с детства ведет к добродетели заставляя человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим согласно справедливости подчиняться или же властвовать»6.
Аристотель выделял несколько значений слова «несправедливый». «Несправедливым, – отмечал он, – называют как нарушающего законы, так и берущего лишнее с других, и человека, не равно относящегося к людям. Ясно, что и справедливым называют то человека, поступающего по законам, то равно относящегося ко всем людям. Итак, понятие “справедливость” означает в одно и то же время как законное, так и равномерное, а “несправедливость” – противозаконное и неравное (отношение к людям). Но так как несправедлив также человек, стремящийся к лишней выгоде, то, следовательно, несправедливость имеет отношение к благам – не ко всем благам, а лишь к тем, которые создают (внешнее) счастье и несчастье, которые, говоря безусловно, всегда блага, но не суть таковые для каждого отдельного лица»7.
Он различал два вида «специальной справедливости»8, указывая, что «один вид ее проявляется в распределении почестей, или денег, или вообще всего того, что может быть разделено между людьми, участвующими в известном обществе (здесь-то и может быть равное или неравное наделение одного перед другим). Другой вид ее проявляется в уравнивании того, что составляет предмет обмена; этот последний вид подразделяется на две части: одни общественные сношения произвольны, другие непроизвольны; к произвольным относятся купля и продажа, заем, ручательство, вклад, наемная плата; они называются произвольными, ибо принцип подобного обмена произволен. Что касается непроизвольных, то они частью скрытые, например воровство, прелюбодеяние, приготовление яда, сводничество, переманивание прислуги, убийство, лжесвидетельство, частью насильственные, например искалечение, удержание в тюрьме, умерщвление, грабеж, увечье, брань и ругательства»9.
Аристотель подчеркивал, что «равенство будет одним и тем же как по отношению к предметам, так и по отношению к лицам, ибо как предметы относятся друг к другу, так же и лица <…> “Делите по достоинству”. Все люди согласны в том, что распределяющая справедливость должна руководствоваться достоинством, но мерило достоинства не все видят в одном и том же»10. Состоящую в неравенстве несправедливость «судья старается приравнять, ибо в тех случаях, когда один испытывает побои, а другой наносит их, или когда один убивает, а другой убит, в этих случаях страдание и действие разделены на неравные части. Судья старается путем наказания восстановить равенство, отнимая выгоду у действующего лица»11.
«Правда, – указывал Аристотель, – всегда касается известного случая (применения справедливости) и здесь-то является высшей справедливостью, но вовсе не есть особый род лучшей справедливости. Правда и справедливость одно и то же, и обе они хороши, но правда лучше справедливости. Затруднения же возникают в силу того, что правда, будучи справедливой, не справедлива в смысле буквы закона, а есть исправление законной справедливости. Причина же этого заключается в том, что всякий закон – общее положение, а относительно некоторых частностей нельзя дать верных общих определений»12.
«Понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой политического общения»13.
Изложенное убедительно свидетельствует о том, что уже на самых ранних из известных истории этапах развития общества, с момента появления в Европе первых философских учений о человеке, обществе, праве и государстве понятие справедливости наполнено глубоким социальным смыслом, многоаспектно в своем общественном значении.
Можно утверждать, что «справедливость» как нравственноэтическое понятие использовалось в те времена в качестве универсального критерия разграничения фактически всех поступков людей на справедливые и несправедливые. Так, жестокие, невежественные, трусливые, как и лживые, причиняющие вред (Сократ), нарушающие законы (Платон), корыстные, противозаконные, «неравные» (Аристотель) и т. п. поступки, как неоправдавшие общественных ожиданий, признавались несправедливыми.
Ведь отнюдь не случайно Аристотель справедливость и несправедливость видел в проявлениях «всей добродетели или порочности по отношению к другим людям». Поскольку же «добродетелями вообще» он называл «похвальные приобретенные свойства души»14, то и справедливые, и несправедливые поступки – это деяния, обусловленные соответственно похвальными (добродетельными) либо осуждаемыми (порочными) свойствами человека.
Категория «справедливость» в древнегреческой философии имела социальное содержание. В зависимости от того, на кого был направлен поступок (на сограждан, врагов или друзей), определял его справедливость или несправедливость Сократ. По Платону, почести предназначались соблюдающим законы (следовательно, и правила общежития), а для «ослушников», их нарушающих (значит, попирающих и общественные устои), полагалась кара. Умение «согласно справедливости подчиняться или же властвовать» он относил к добродетелям совершенного гражданина. Проявлениями справедливости Аристотель считал распределение почестей «между людьми, участвующими в известном обществе», и уравнивание предметов обмена «общественных сношений».
Категория «справедливость», следовательно, выступала критерием оценки поступков людей сквозь призму интересов общества, полезности или вредности таких поступков для общества либо его доминирующих групп или слоев.
В философии раннего периода справедливость – многоаспектное социальное явление. Ее относили к свойствам человека. Так, Платон считал справедливость божественным благом, возникающим у человека из смешения разумения и здравого состояния души с мужеством.
Справедливость и рассудительность «стражей» закона вопреки богатству и честолюбию должны были гарантировать его правильное исполнение (Платон). При этом «правда» (т. е. верное, соответствующее духу закона его применение, «применение справедливости» к известному случаю) являлась «высшей справедливостью», исправлением закона, который не мог дать верных общих определений применительно к некоторым частностям (Аристотель).
Понятие справедливости одновременно означало и законное, и равное, а право считалось мерилом справедливости (Аристотель). «Законное» и «справедливое», полагал Сократ, одно и то же15.
Равенство, по Аристотелю, не только нередко отождествляется со справедливостью, но и выступает ее основанием. Его и «уравнивающая», и «распределяющая» стороны (виды) справедливости по существу в основе своей имеют равное отношение «к предметам» и «к лицам, ибо как предметы относятся друг к другу, так же и лица». В зависимости от размера сделки (купли-продажи, займа и т. д.) или тяжести совершенных преступлений (воровства, искалечения, умерщвления и др.) судья восстанавливает равенство, «уравнивает» правонарушителя с пострадавшим.
Неравенство субъектов «общественных сношений» находится за рамками этого вида справедливости.
Однако распределение почестей или каких-либо других ценностей «по достоинству» предполагает передачу «равным – равного», поскольку наделение менее достойного человека одним и тем же, как и человека, более достойного, нарушает равенство применительно к лицам16. Поэтому распределение «по достоинству» у Аристотеля есть в то же время в определенной степени и уравнивание лиц неравными почестями или иными благами.
Таким образом, с самого начала теоретического осмысления категории «справедливость» великие древнегреческие философы рассматривали ее с сугубо социальных позиций. Согласно их учениям справедливость, являясь свойством человека17, как социальный феномен обусловливала отношения между людьми, устройство общества и государства, формировала содержание законов и права. В этом аспекте (в плане значения для общества) понимание справедливости у Сократа, Платона и Аристотеля вполне может служить ключом к пониманию категории «социальная справедливость» в современной философии и праве.
Более того, «осуществление справедливости» посредством издания законов, охватывающих все сферы социальной жизни; «рассудительное и справедливое» применение законов как гарантия от их нарушений, вызываемых «богатством и честолюбием»; воспитание у людей умения «согласно справедливости» (т. е. и в соответствии с законами) исполнять свои гражданские обязанности (Платон) и сейчас признаются основными направлениями влияния социальной справедливости на право.
Если к тому же принять во внимание два вида справедливости («распределяющую» и «уравнивающую»), «правду» как проявление «высшей справедливости» на правоприменительном уровне и понимание права как «мерила справедливости» (Аристотель), то становится достаточно очевидным, что уже тогда были установлены многие важные звенья механизма воздействия социальной справедливости на право.
Ведь, по существу, именно Аристотель заметил различие между правом («правдой»18) как воплощением справедливости, «исправлением законной справедливости» и законодательством, которое «относительно некоторых частностей» из-за невозможности дать «верные общие определения» может быть и несправедливым. На тесную связь между справедливостью и правом, фактическое их взаимопроникновение друг в друга указывает и первоначальное значение слова «справедливость». Так, полагают, что немецкое «слово Gerechtigkeit (справедливость) произошло от Recht (право, правый, прямой, правильный и т. д.), подобно тому как в русском языке слово “справедливость” произошло от слова “право” (правый, правда), а в латыни justitia (справедливость) – от jus (право). Во всех этих случаях не только этимологически, но и понятийно справедливость (как слово и как понятие) производна от права и является его абстракцией (абстрактным выражением и определением права)»19.
С точки зрения некоего высшего начала («объективного духа») рассматривал общественное развитие Гегель. Причем иногда это высшее начало обозначалось им как справедливость. Так, он писал о безрассудности людей, которые «в пылу своих идеальных представлений о бескорыстной борьбе за политическую и религиозную свободу, преисполненные горячим воодушевлением, не видят истины высшего могущества, полагают, что им дано отстоять справедливость, как они ее понимают, свои измышления и грезы перед лицом высшей справедливости, заключенной в природе и истине, которая пользуется бедствиями и лишениями в качестве орудия, заставляющего подчиниться ее власти людей со всеми их убеждениями, теориями и внутренним горением»20.
По Гегелю, справедливость оказывала большое влияние на возникновение «публично-правовых институтов континентальных государств Нового времени, в основу которых были положены в первую очередь общие принципы; причем в понимании того, какое содержание права действительно справедливо, существенную роль сыграл обычный здравый смысл и ясный разум»21.
Он упоминал и о «еще более важном моменте в преобразовании права, это – величие помыслов князей, их стремление сделать путеводной звездой своей законодательной деятельности такие принципы, как благо государства, счастье своих подданных, всеобщее благосостояние и прежде всего справедливость как таковую»22.
Характеризуя конституцию Германии, Гегель отмечал, что в ее формах «выражены справедливость и власть, мудрость и храбрость давно прошедших времен, честь и кровь, благополучие и нужда давно истлевших поколений, исчезнувших вместе с ними нравов и отношений»23.
Социальные процессы, происходящие под влиянием идей справедливости, из-за отстаивания людьми справедливости в их понимании у Гегеля управляются «высшей справедливостью, заключенной в природе и истине». По его мнению, право должно быть действительно справедливым, а чтобы этого добиться, необходимы «обычный здравый смысл и ясный разум», стремление законодателя прежде всего учитывать в своей деятельности «справедливость как таковую». Среди явлений, обусловливающих содержание норм конституционного права, справедливость вновь поставлена Гегелем на первое место. При этом понимаемая им справедливость – явление не только сложное («измышления, грезы», «теории» людей и «высшая справедливость природы и истины»), но и изменяющееся во времени, определяемое обстоятельствами времени («справедливость давно прошедших времен»).
Итак, у Гегеля, как и у его великих предшественников, справедливость и по содержанию, и по значению – понятие социальное, охватывающее все стороны общественной жизни.
Гегель неоднократно обращал внимание на важнейшее значение справедливости в формировании общественного сознания, гражданского общества и права. «Общественное мнение, – пишет он, – содержит в себе вечные субстанциональные принципы справедливости, подлинное содержание и результат всего государственного строя, законодательства»24. «Справедливость, – как он опять указывает, – составляет нечто великое в гражданском обществе: хорошие законы ведут к процветанию государства, а свободная собственность есть основное условие его блеска»25.
Поскольку справедливые законы (хорошие, следовательно, справедливые, и наоборот) и «свободная собственность» ведут к процветанию и блеску государства и общества, применительно к этим понятиям Гегель и раскрывает сущность равенства в праве.
«Утверждение будто справедливость требует, чтобы собственность каждого была равна собственности другого, – подчеркивал он, – ложно, ибо справедливость требует лишь того, чтобы каждый человек имел собственность. Скорее собственность есть то, в чем находит себе место неравенство, и равенство было бы здесь неправом. Совершенно верно, что люди часто хотят завладеть имуществом других, но это-то и противоречит праву, ибо право есть то, что остается безразличным к особенности»26.
Гегель не признает требования «равенства в распределении имущества» (которое «все равно было бы через короткое время нарушено, так как состояние зависит от трудолюбия»)27, считая, тем не менее, справедливым и разумным право каждого человека на владение собственностью. Величину же и характер владения он относит к «правовой случайности», зависящей от «особенного», охватывающего «субъективные цели, потребности, произвол, таланты, внешние обстоятельства»28.
Именно поэтому «особенность» здесь связана с реально существующим неравенством людей, а устранение этого неравенства («особенности») он называет «неправом». Поскольку право «остается безразличным к особенности», а люди «действительно равны, но лишь как лица»29, справедливое применение права предполагает единый, равный, общий для всех критерий (основание). В противном случае равенство лиц (т. е. равенство людей как субъектов права) в праве при его применении станет «неправом», фикцией, будет нарушено.
Для «гражданского общества» (по-другому, гражданского права) такой критерий, одновременно являющийся критерием справедливости, – «свободная собственность», обладание ею каждым человеком (иначе, свободно реализуемое и социально-экономически обеспеченное право всех граждан владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом).
«В законах и отправлении правосудия, – указывал Гегель, – есть существенно одна сторона, содержащая случайность и заключающаяся в том, что закон есть всеобщее определение, которое должно быть применено к отдельному случаю»30. «В этом заострении всеобщего, в переходе не только к особенному, но и к единичному, т. е. к непосредственному применению, преимущественно и заключается чисто позитивное в законе. Невозможно разумно определить… что более справедливо: наказать за проступок сорока ударами или на один удар меньше… И все-таки даже один лишний удар, один лишний или недостающий талер или грош, одной неделей, одним днем больше или меньше тюремного заключения – уже несправедливость»31.
Гегель раскрывает соотношение между правом и законодательством, выявляет динамику их связи со справедливостью. От права («права в себе», содержание которого обусловливают «вечные субстанциональные принципы справедливости») к закону, «всеобщему определению», т. е. к тому, что уже может быть порождено «своеволием и другой особенностью» (значит, к тому, что может быть и несправедливым), и «непосредственному применению» закона к «отдельному случаю» (где существенна случайность, а следовательно, и несправедливость), где для достижения справедливости (по смыслу процитированного можно предположить) необходимо максимально использовать «позитивное», «правовое» в содержании закона.
Справедливость у Гегеля входит в содержание основных понятий уголовного права. Так, он пишет: «В абсолютной связи с преступлением находится справедливость возмездия. Здесь мы имеем дело с абсолютной необходимостью, которая их связывает, ибо одно есть противоположное другого, одно – противоположная субсумция другого»32.
«Снятие преступления, – указывает Гегель, – есть возмездие постольку, поскольку это возмездие есть по своему понятию нарушение нарушения и поскольку преступление по своему наличному бытию имеет определенный качественный и количественный объем и тем самым его отрицание как наличное бытие имеет такой же объем. Это зиждущееся на понятии тождество есть, однако, равенство не по специфическому, а по в себе сущему характеру нарушения, по его ценности»33.
При этом Гегель уточняет, что «справедливость определения наказаний по их качественному и количественному характеру – нечто более позднее, чем субстанциальность самого предмета»34, что надо принимать во внимание «природу конечного» и нельзя останавливаться «на абстрактном специфическом равенстве», ибо «очень легко будет изобразить возмездие в виде наказания (как воровство за воровство, грабеж за грабеж, око за око, зуб за зуб, при этом вполне можно себе представить преступника одноглазым или беззубым) как абсурд, с которым, однако, понятие ничего общего не имеет и который всецело должен быть отнесен за счет того, привнесенного специфического равенства»35.
Гегель также пишет о наказании как об одной из форм справедливости в государстве, о том, что «наказание в себе и для себя справедливо», о «наказующей справедливости», подчеркивая, что «понятие и мерило наказания» преступника должны быть «взяты из самого его деяния», что наказание «есть только проявление преступления, т. е. другая половина, которая необходимо предполагается первой»36.
«В преступлении, в котором бесконечное в деянии есть основное определение, – приходит к выводу Гегель, – в большей степени исчезает лишь внешнее специфическое, и равенство остается только основным правилом установления того существенного, что заслуженно преступником, а не внешней специфической формы возмездия. Лишь со стороны этой внешней формы воровство, грабеж, а также наказания в виде денежных штрафов и тюремного заключения и т. п. совершенно не равны, но по своей ценности, по тому их всеобщему свойству, что они нарушения, они сравнимы»37.
Итак, преступление и наказание рассматриваются Гегелем как противоположные, подчиненное одно другому понятия38. Справедливость наказания всецело зависит от совершенного преступником деяния, от «качественного и количественного объема» преступления. Поэтому наказание лишь «проявление преступления», другая его половина.
«Справедливость определения наказаний по их качественному и количественному характеру» у Гегеля зиждется не на «специфическом равенстве» (мести, возмездии, принципе талиона), а на соответствии («равенстве», «тождестве») наказания («нарушение нарушения») преступлению по «характеру нарушения, по его ценности». Как раз на этом соответствии основывается свойство наказания быть «в себе и для себя справедливым», именно оно позволяет наказанию быть «наказующей справедливостью», выступать в качестве одной из форм справедливости в государстве.
Все многообразие совершаемых преступлений («бесконечное в деянии») и все различие в содержании наказаний объединяются («сравниваются») у Гегеля «не по внешней специфической форме» (принципу возмездия), а по их «ценности, по тому их всеобщему свойству, что они нарушения». Это «всеобщее свойство» и лежит в основании того равенства, которое «остается только основным правилом этого существенного, что заслуженно преступником».
Иначе говоря, «всеобщее свойство» преступлений и наказаний – это их социальное общественное свойство. Потому-то наказание («противоположная субсумция» преступления) и выступает в качестве «наказующей справедливости», «способа существования справедливости… в государстве»39, ибо справедливость у Гегеля, как уже отмечалось, – понятие социальное.
Абсолютная связь преступления со справедливостью наказания (опять-таки, лишь другое обозначение их «всеобщего», социального свойства) при «непосредственном применении» законов («заострении всеобщего»), «отправлении правосудия», таким образом, неминуемо предполагает исследование этого «всеобщего», социального свойства совершенного лицом преступления. Следовательно, по Гегелю, именно в сфере социального (иначе «качественно-количественного объема» преступления) в содержании конкретных преступлений («отдельного случая») только и могут находиться и гарантии против несправедливого применения «содержащей случайность» стороны закона, и критерии справедливости конкретных наказаний, как то: телесные наказания, штраф или арест.
При всем огромном значении учения Гегеля в развитии философии и философии права остается верным замечание М. П. Чубинского о том, что Гегель «обоготворяет право, признавая его воплощением идеи абсолютного блага и провозглашая безусловную справедливость и разумность его велений. Конечно, такая постановка должна была уничтожать всякий стимул к работе за улучшение права и всякую возможность критического к нему отношения; по существу же она являлась глубоко безжизненной: окруженное ореолом право как бы спускалось с неба, как будто оно не является делом рук человеческих с неизбежными пробелами и недостатками, как будто многовековая борьба за его усовершенствование никогда не существовала, как будто действительность когда-либо представляла право, достигшее идеального совершенства. Если же предполагать, что Гегель разумел не какое-либо реальное право, а право в идеале, каким оно, по его мнению, должно быть, то тогда нельзя было делать отсюда тех реальных выводов, тех указаний для реального земного правосудия, которые Гегель, как мы видели, сделал»40.
Следует, однако, признать, что «право в идеале», каким оно должно было бы быть, особенно применительно к категории «справедливость» и уголовному праву, разработано у Гегеля глубоко и всесторонне и сегодня сохраняет свое безусловное значение. В этом аспекте исключительно важным представляются те положения его философского учения, из которых следует, что единым критерием (основанием) справедливости и равенства всех лиц в уголовном праве является только совершенное в действительности преступление.
С социальных (преимущественно классовых) позиций рассматривали справедливость и основоположники марксизма.
Само общество, по К. Марксу, является продуктом взаимодействия людей41. В какой-то мере и возникновение государства К. Маркс связывал с необходимостью выполнения им «общих» для общества дел42. Касаясь же реальных оснований идеи справедливости в обществе, он писал: «Необходимость распределения в определенных пропорциях социальных благ и тягот, обусловленная господствующим способом производства, никоим образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства – измениться может лишь форма ее проявления»43. Ф. Энгельс тоже отмечал, что справедливость есть мерило естественных прав человека44.
Тем не менее содержание распределяющего и уравнивающего аспектов справедливости у них предопределялось классовыми антагонизмами общества. «В существующих до сих пор суррогатах коллективности, – отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, – личная свобода существовала только для индивидов, развившихся в рамках господствующего класса, и лишь постольку, поскольку они были индивидами этого класса»45. «Справедливость греков и римлян находила справедливым рабство; справедливость буржуа 1789 г. требовала устранения феодализма, объявленного несправедливым», – уточнял при этом Ф. Энгельс46.
Как полагал Ф. Энгельс, справедливость не только существует «в рамках противоположности к несправедливости»47, но и «представляет собой лишь идеологизированное, вознесенное на небеса выражение существующих экономических отношений либо с их консервативной, либо с их революционной стороны»48. Он считал также, что «каждый класс и даже каждая профессия имеет свою собственную мораль»49.
К. Маркс и Ф. Энгельс критиковали концепции абстрактной справедливости и равенства, по которым из «всеобщей природы» выводятся затем «человеческое равенство» и общность. Таким образом, общие для всех людей отношения оказываются здесь продуктами «сущности человека», природы. Тогда как на самом деле они, подобно сознанию равенства, являются «историческими продуктами»50. «Человек, выросший при данных общественных условиях, – писал Г. В. Плеханов, – склонен считать эти условия естественными и справедливыми до тех пор, пока его понятие не изменится под влиянием каких-нибудь новых фактов, мало-помалу порождаемых теми же самыми условиями»51.
В. И. Ленин утверждал, что марксизм под равенством понимал «всегда общественное равенство, равенство общественного положения, а никоим образом не равенство физических и духовных способностей отдельных личностей»52. Хотя В. И. Ленин и указывал, что классовые интересы выше цеховых53, но все же подчеркивал, что «с точки зрения основных идей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата»54, а «идеал будущего общества предполагает планомерную организацию общественного процесса» «для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества»55.
Характеризуя соотношение равенства и права, К. Маркс писал: «Это равное право есть неравное право для неравного труда. Оно не признает никаких классовых различий, потому что каждый является только рабочим, как и все другие; но оно молчаливо признает неравную индивидуальную одаренность, а следовательно, и неравную работоспособность естественными привилегиями. Потому оно по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право. По своей природе право может состоять лишь в применении равной меры; но неравные индивиды (а они не были бы различными индивидами, если бы не были неравными) могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной определенной стороны, как в данном, например, случае, где их рассматривают только как рабочих и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального. Далее: один рабочий женат, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше, и так далее. При равном труде и, следовательно, при равном участии в общественном потребительском фонде один получает на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и тому подобное. Чтобы избежать всего этого, право, вместо того чтобы быть равным, должно быть неравным. Но эти недостатки неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества»56.
Ф. Энгельс указывал, что «действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости»57.
«Разбивая мелкобуржуазно неясную фразу Лассаля о “неравенстве” и “справедливости” вообще, – отмечал В. И. Ленин, – Маркс показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту “несправедливость”, что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления “по работе” (а не по потребностям)». Он соглашался и с тем, что «всякое право есть применение одинакового масштаба к различным людям»58.
Хотя Ф. Энгельс и предсказывал, что при коммунизме, когда будут полностью реализованы социальное равенство и социальная справедливость, «место для равенства и справедливости» останется лишь «в кладовой для исторических воспоминаний»59, он сам, К. Маркс и В. И. Ленин включали в понятие справедливости традиционные общечеловеческие представления о пользе и вреде, добре и зле, порядочности и т. п. Более того, они неоднократно пользовались понятиями «равенства» и «справедливости», категориями «простых законов нравственности и справедливости» (К. Маркс), «простейшими принципами, регулирующими отношения человека к человеку» (Ф. Энгельс), призывали «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами в отношениях между народами»60. Об «элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правилах общежития», писал В. И. Ленин61.
Поэтому было бы логичным анализ приведенных выше высказываний основоположников научного коммунизма о справедливости, равенстве и праве как раз начать с этого, казалось бы, наиболее простого аспекта понимания справедливости62.
Как ни говори, но справедливость, которая устраняла бы «естественные привилегии» («неравную индивидуальную одаренность») и неравенство в семейном положении, обусловливала бы нравственную состоятельность права, которое «вместо того, чтобы быть равным, должно бы быть неравным» (К. Маркс), как, впрочем, и общество, дерзнувшее бы «написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!»63 – это лишь прекрасные идеалы (достижимые или недостижимые – другое дело) далекого будущего.
К тому же и об устранении социального неравенства: «уничтожении классов» (Ф. Энгельс) и той «несправедливости, что средства производства захвачены отдельными лицами» (В. И. Ленин), написано уже много и мало что можно добавить. Традиционным же, общечеловеческим представлениям о справедливости повезло гораздо меньше.
Между тем именно традиционное, вроде бы обыденное, понимание справедливости (т. е. существующее в данный момент и в данном обществе) наиболее прочно связано с правом, так как остается верным положение: «Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества». Поэтому именно «простая», насыщенная содержанием реального социального факта действительного общества справедливость и является одним из главных факторов64, под влиянием которых возникает, формируется и изменяется право.
Еще одно обстоятельство. Общечеловеческое понимание справедливости (не абстрактное, умозрительное, надуманное кем-либо, а общее для большинства членов конкретного социума) при исследовании связей между справедливостью и правом позволяет избегать бесконечных и в практическом отношении бессмысленных (если не вредных, раскалывающих общество) споров о том, чье понимание справедливости: одной или другой части общества, той либо иной социальной группы («пролетариата», «класса», «цеха», «профессии» и проч.) лучше, «прогрессивнее» и, значит, по чьим рекомендациям надо реформировать право, да и в целом, под чьим руководством и куда следовать обществу?
Вместе с тем понимание справедливости как субъективного отражения конкретного проявления объективной необходимости «распределения определенных благ и тягот, обусловленного господствующим способом производства» (К. Маркс), как «идеологизированного выражения экономических отношений» (Ф. Энгельс) ставит такое понимание на твердую социальную почву. При этом социальное содержание справедливости раскрывается не только по отношению к господствующему способу производства, но и применительно к ее происхождению как продукту сознания людей («историческому продукту» – К. Маркс и Ф. Энгельс; «порождаемому данными общественными условиями» – Г. В. Плеханов) и основным функциям: нравственному обеспечению приемлемого для общества порядка разрешения «общих» для него дел (от правила «удар за удар…» при первобытном строе до лозунга «каждому по труду» при социализме), использованию в качестве критерия, мерила естественных прав человека (Ф. Энгельс).
Марксизм раскрывает и социальную основу равенства. Она та же, что и у справедливости. Идея равенства, как и идея справедливости, – это продукт истории и осознания людьми («сознания равенства» – К. Маркс). Поэтому большинство рабов, бывших лишь «говорящими орудиями», и крепостных крестьян, всецело принадлежавших помещикам, воспринимали свое положение «при данных общественных условиях естественным», во всяком случае, до появления «каких-либо новых фактов» (Г. В. Плеханов) они никак не могли считать себя равными господам. Естественными и справедливыми рабство и феодализм, понятно, были и для представителей имущей части общества. Конечно же, они не могли считать тех, кем владели, равными себе»65.
Отсюда действительное равенство граждан предполагает как минимум «общественное равенство, равенство общественного положения», а в идеале обеспечение «полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества» (В. И. Ленин).
Хотя справедливость, безусловно, существует только «в рамках противоположности к несправедливости» (Ф. Энгельс), на содержание права она влияет прежде всего своей консервативной стороной. Ибо именно «консервативная» сторона справедливости, в отличие от ее «революционной» стороны, как раз и вбирает в себя общее в представлениях о справедливости различных классов и слоев, «цехов» и профессий. К тому же при ясном осознании своего разного места в иерархической структуре общества представители разных социальных групп вполне могут иметь единые идеалы справедливости и равенства. Иными словами, раб, крепостной крестьянин или пролетарий могли обладать соответственно мировоззрением рабовладельца, феодала либо капиталиста, а устраивать же их не мог лишь собственный социальный статус.
Методологическое значение для справедливости и права имеет выявленное К. Марксом внутреннее противоречие права, которое «по своей природе может состоять лишь в применении равной меры» и одновременно при этом «вместо того, чтобы быть равным, должно бы быть неравным», ибо «неравные индивиды могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной определенной стороны». Справедливость права и его применения, по существу, напрямую зависит от социальной сбалансированности «равного» и «неравного» в праве, степени адекватности их правовых критериев социальным реалиям действительного общества.
В связи с этим русский философ и правовед И. А. Ильин в начале XX в. отмечал, что «люди не равны между собою: справедливая норма не может возлагать одинаковые обязанности на ребенка и на взрослого, на бедного и на богатого, на женщину и на мужчину, на больного и на здорового; ее требования должны быть соразмерны личным силам, способностям и имущественному положению людей: кому больше дано, с того больше и взыщется. Поэтому справедливость требует, чтобы правовые нормы сохраняли в своих требованиях соразмерность действительным свойствам и деяниям людей. Однако, с другой стороны, невозможно создать для каждого отношения людей особую правовую норму, приспособленную именно к этому отношению во всех его особенностях и деталях и в силу этого не подходящую более ни к одному отношению. Понятно, что в таком случае нормы превратились бы в единичные императивы и количество правовых императивов должно было бы неминуемо разрастись до бесконечности»66.
Он считал, что «справедливость требует, чтобы право поддерживало равенство и равновесие между людьми, поскольку это необходимо для того, чтобы каждый мог вести достойное существование. Здесь право должно избегнуть другой опасности: оно не должно упускать из вида, что каждый человек, кто бы он ни был, как бы ни был он ограничен в своих силах и способностях, имеет безусловное духовное достоинство и что в этом своем человеческом достоинстве каждый человек равен другому. Если люди различны по своим реальным свойствам, то они равны по своему человеческому достоинству. Поэтому справедливое право не поддерживает естественного неравенства людей, если от этого может пострадать их духовное равенство. Справедливое право есть право, которое верно разрешает столкновение между естественным неравенством и духовным равенством людей, учитывая первое, но отправляясь всегда от последнего»67.
И. А. Ильин, следовательно, также признавал наличие противоречия («столкновения») между неравенством людей и необходимостью поддержания их равенства в праве. Однако если К. Маркс полное разрешение этого противоречия видел в построении нового коммунистического общества, то И. А. Ильин, относя имущественное положение к естественному неравенству, а к равенству – «безусловное духовное достоинство» граждан, столь радикальных выводов не делал. При безусловно равном духовном достоинстве и отношении к неодинаковому имущественному положению как к естественному состоянию людей вроде пола, возраста, отсутствия или наличия болезни, обеспечиваемом правом, революционное переустройство общества не представлялось необходимостью. Духовное достоинство гарантируется существующим правом, а имущественное неравенство, как и болезнь, социально-радикальными средствами лечению не поддается.
Потому-то у И. А. Ильина справедливое право, исходя («отправляясь») из «духовного равенства» и учитывая при этом «естественное неравенство» людей, лишь смягчает их «столкновение».
После октября 1917 г. философско-социологические исследования проблем справедливости и права в России оказались под сильным влиянием марксистско-ленинской доктрины о классовом развитии общества.
«Справедливости и равенства, – полагал вслед за Марксом В. И. Ленин, – первая фаза коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация человека человеком… Таким образом, в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом) “буржуазное право” отменяется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т. е. по отношению к средствам производства. “Буржуазное право” признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью»68.
В. И. Ленин писал, что «все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве»69. «Сущность учения Маркса о государстве, – продолжал он, – усвоена только тем, кто понял, что диктатура одного класса является необходимой не только для всякого классового общества вообще, не только для пролетариата, свергнувшего буржуазию, но и для целого исторического периода, отделяющего капитализм от общества без классов, от коммунизма»70.
Сформулированные В. И. Лениным положения о необходимости слома буржуазной государственной машины, частичной несправедливости социализма и частичной отмене «буржуазного права» при социализме, неизбежности диктатуры пролетариата и целого исторического периода, отделяющего социализм от коммунизма, были использованы в ходе октябрьской революции и строительства государства и права нового (советского) типа. Отрицание буржуазной государственности во время революции и в период государства диктатуры пролетариата, а следовательно, и полный отказ от какойлибо преемственности советского права от российского предполагали полное доминирование «революционной стороны» справедливости над ее «консервативной» стороной, общечеловеческими аспектами.
Тем более, что в революционной практике постоянно использовался классовый, нередко приобретавший ярко выраженные карательно-репрессивные формы подход к социальным явлениям. Так, лиц, противодействовавших революционной власти, В. И. Ленин называл «отбросами общества и опустившимися элементами», «бандой капиталистов и жуликов, босяков и саботажников»71. Ленинпрактик, к примеру, за хищение государственного имущества предлагал применять «расстрел на месте одного из десяти провинившихся»72.
«Подобно атомному взрыву, массовые репрессии 20-х и последующих годов оставили после себя, в отличие от опустошительных эпидемий прошлых веков не только гекатомбы трупов, но и определенные мутации в их ряду – беспрецедентное общественное равнодушие как результат приспособления людей к неестественным условиям бытия», – пишет М. С. Гринберг.
«Сокращенно-форсированные» действия «ангажировались в период октябрьской революции и в последующие годы – призывы уничтожить 10 млн из 100 млн жителей России (Г. Зиновьев), выработать путем расстрелов и трудовой повинности “коммунистическое человечество из человеческого материала капиталистической эпохи” (Н. Бухарин)»73.
Верное восприятие содержания справедливости и права было надолго затруднено и тезисом И. В. Сталина (высказываниям которого десятилетиями придавался высший политико-юридический смысл) об усилении классовой борьбы. «Уничтожение классов, – как он указывал, – достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено»74.
Социальные столкновения периода государства диктатуры пролетариата75, официальное признание победившей в революции партией приоритета одной группы граждан над другими76, все большее закрепление в общественном сознании идей о классовой борьбе как движущей силе истории, о неизбежности целого исторического периода, связанного с такой борьбой и даже с ее обострением, препятствовали возникновению концепций внеклассовой справедливости и права, надежно скрывали общечеловеческое содержание этих понятий.
Таким образом делался вывод, что «само понятие справедливости почерпнуто из менового отношения и вне его ничего не выражает»77.
«Для марксиста всякое преступление, – утверждал М. Ю. Козловский, – продукт непримиримости классовых антагонизмов». Поэтому «нашу работу в области карательной будет направлять не буржуазная лицемерная, индивидуальная “гуманность”, а классовый интерес непреклонного подавления посягательств паразитирующего меньшинства на условия общежития, соответствующие интересам трудящихся масс населения. Конкретизировать эту работу, установить наперед детальный план мер борьбы с преступлениями, сводить их в кодекс сейчас значило бы измышлять более или менее остроумную утопическую систему». Отличительной чертой уголовных законов, «изданных Советским правительством, – отмечал он далее, – является та особенность, что при определении кары закон исходит из соображений объективного вреда, причиняемого действиями преступника, из защиты классового интереса и отрешается от традиционного принципа субъективной ответственности виновного. Другой типичной особенностью уголовного законодательства переходного времени, вытекающей, впрочем, из того же начала, является отказ взвешивания “свободной воли”, проявленной преступником, необычайно скрупулезно производившегося буржуазным правосудием. Советское законодательство, встав на объективную почву защиты социального строя и беспощадной борьбы с посягающими на него, игнорирует вопрос о том, какое количество “преступной воли” участвовало в совершении наказуемого деяния, и пособников, подстрекателей и даже прикосновенных к деянию карает наравне с главными виновниками»78.
«От старой, формальной оценки преступления – по внешним признакам деяния, – считал Я. Берман, – уголовный кодекс социалистического строя должен отказаться. Определение тяжести совершенного преступления (необходимое для определения мер ответственности) должно зависеть от того, кто совершил преступление. Может случиться, что тяжкое с виду преступление (напр., убийство) будет совершено таким лицом и при таких обстоятельствах, что будет бесцельным и даже бессмысленным применение серьезных и тяжких мер воздействия. И, наоборот, может случиться, что какоенибудь мелкое преступление, напр., мелкая кража будет совершена таким лицом, которое требует для себя применения серьезных мер воздействия. И в этих случаях уголовный кодекс социалистического государства должен отказаться от воздаяния по мере им совершенного»79.
Через десять лет после Я. Бермана, характеризуя критерии наказуемости, Н. В. Крыленко утверждал: «Приспособлять, исправлять мы можем и должны лишь тех, относительно которых можем с достаточным основанием полагать о возможности такого приспособления и исправления. Критерий же здесь отнюдь не биологический и отнюдь не психологический, – критерием здесь должен быть критерий классовой принадлежности, классового родства, классовой близости к нам, к основным идеям строящегося нового общества, к основным принципам трудового общежития». При лишении же свободы «классово неблизких» лиц «может быть только одна постановка вопроса – нужно держать до тех пор, пока есть в этом необходимость, т. е., другими словами, пока данное лицо внушает опасность». «Из того, что, отнявши жизнь, нельзя ее потом вернуть, не вытекает еще, что ее нельзя отнимать»80.
В высказываниях М. Ю. Козловского, Я. И. Бермана и Н. В. Крыленко нашли яркое воплощение упомянутые теоретические положения В. И. Ленина о справедливости и праве в переходный к бесклассовому обществу период. Рассматривая преступление исключительно как продукт непримиримости классовых антагонизмов, они отрицали «буржуазную лицемерную, индивидуальную гуманность» (а значит, и индивидуальную справедливость), подчиняли право и справедливость «классовому интересу непреклонного подавления посягательств паразитирующего меньшинства».
При этом такое «паразитирующее меньшинство» («классово неблизких» лиц), исходя из его отношения к новому строю, предлагалось держать в местах лишения свободы сколь угодно долго. Вместе с тем для «классово близких» лиц допускалось, что будет «бесцельным и даже бессмысленным» назначение наказания и за убийство. Справедливость и равенство в праве, следовательно, ставились в прямую зависимость от классовой принадлежности подвергавшегося (или как раз не подвергавшегося) карательному воздействию лица.
Придание преступлению субсидиарного значения81, (помимо объективного вменения при отрицании принципа субъективной ответственности, назначения наказания без учета содержания деяния и степени вины, поддержки практики «правотворчества» судов82 и умаления принципа законности («нет преступления без указания на то в законе»), подрывало основу равенства граждан в праве, превращая его в несправедливый, бесчеловечный социальный инструмент тоталитарного режима государства периода диктатуры пролетариата.
В этом контексте едва ли случайным выглядит выражение Я. И. Бермана о лишь «тяжком с виду» убийстве и замечание Н. В. Крыленко об отсутствии логического противоречия между возможностью возвращения отнятой жизни и запретом на ее лишение. Скорее, наоборот, сторонники революционных преобразований через призму права и справедливости смотрели на человека преимущественно как на материал, из которого воздвигается новое, коммунистическое общество. К тому же создателям нового общества (государству диктатуры пролетариата и его представителям) должны были быть даны возможность исправления и «выбраковки» негодного «материала» и гарантии («таким лицам и при таких обстоятельствах») от уголовного преследования в случаях его не всегда целесообразного использования.
В условиях кардинальных социальных преобразований, проводимых государством диктатуры пролетариата, общечеловеческим проблемам справедливости и права какого-либо заметного внимания в послереволюционной философско-социологической и юридической литературе не уделялось. Применительно к уголовному праву такое положение стало меняться только после его реформы конца 50-х – начала 60-х годов прошедшего столетия. «Следует решительно возражать, – писал в то время И. И. Карпец, – против попыток искать “рациональное зерно” в бессрочных наказаниях и неопределенных приговорах, не говоря уже о том, что неопределенные приговоры и законность – трудно совместимые вещи. Там, где начинается усмотрение тюремной администрации, кончается законность»83.
Соответствующие работы отечественных философов и юристов, написанные в последней трети ХХ в., еще не принадлежат истории (т. е. выходят за рамки темы настоящего параграфа) и потому должны быть проанализированы в других разделах работы. Здесь же пора подвести некоторые итоги.
Итак, в истории философии справедливость рассматривалась как охватывающее все стороны общественной жизни («вплоть до того, каким образом должно погребать мертвых и какие уделять им почести» – Платон) и определяющее общественные устои («путеводная звезда законодательной деятельности» – Гегель) социальное явление. Это – явление, возникающее (продукт взаимодействия людей, «обусловленный господствующим способом производства» – К. Маркс), существующее («удар за удар…» в первобытном обществе – П. Лафарг) и изменяющееся («справедливость давно истлевших поколений» – Гегель) исключительно в результате социального развития конкретно данного общества.
Причем существующие идеалы справедливости, хотя изначально и воспринимаются выросшими в данных условиях людьми «естественными и справедливыми» (Г. В. Плеханов), тем не менее, оцениваются обществом, социальными группами, отдельными его членами как приемлемые или неприемлемые («консервативная» и «революционная» стороны справедливости – Ф. Энгельс). Да и самому содержанию справедливости уже свойственно противоречие, разрешение которого связано с выбором ответа на вопрос: по отношению к кому (индивиду, группе, обществу) справедлив тот или иной идеал (к друзьям или врагам – Сократ; господам либо рабам, порядочным или никчемным людям – Платон; равным или неравным – Аристотель; классу, профессии – Ф. Энгельс; цеху, пролетариату, всем членам общества – В. И. Ленин)?
Потому-то справедливость в самом широком своем значении и является одной из основных философско-социологических категорий84, раскрывающих внутренние законы развития общества, истоки формирования его отдельных институтов. И в этом плане точнее говорить о категории «социальная справедливость», нежели о понятии «справедливость». Последнее в меньшей степени отражает предельно широкий объем и содержание существенного признака определяемого явления.
Как раз к одному из источников формирования права и относили справедливость Сократ («законное» и «справедливое» – одно и то же), Платон («законодатель должен наблюдать, где осуществляется справедливость, а где нет»), Аристотель («право – мерило справедливости»), Гегель («справедливость – нечто великое в гражданском обществе: хорошие законы ведут к процветанию государства…»), И. А. Ильин («справедливость требует, чтобы правовые нормы сохраняли в своих требованиях соразмерность действительным свойствам и деяниям людей») и многие другие философы.
Равенство признавалось в философии неотъемлемым свойством справедливости и права. Так, Аристотель считал, что «справедливость означает в одно и то же время как законное, так и равномерное», выделяя при этом два вида специальной справедливости: «уравнивающую» и «распределяющую». Гегель исходил из того, что в праве люди «действительно равны, но лишь как лица», а К. Маркс – из положения «это равное право есть неравное право для неравного труда». Под равенством по справедливости и в праве В. И. Ленин подразумевал «всегда общественное равенство, равенство общественного положения».
Под равенством в праве философы также понимали одно и то же отношение к «предметам» и «лицам» (Аристотель), право «каждого человека иметь собственность», «свободную собственность» как основу равенства в гражданском обществе (Гегель), «применение равной меры» (К. Маркс) или «одинакового масштаба к различным людям» (В. И. Ленин).
Обращалось внимание и на гуманистическую составляющую справедливости и права. Так, Аристотель полагал, что справедливость проявляется и в «распределении почестей, или денег, или вообще всего того, что может быть раздельно между людьми», а Гегель «счастье всех подданных, всеобщее благосостояние» относил к важнейшим принципам законодательной деятельности. И. А. Ильин отмечал, что «справедливая норма не может возлагать одинаковые обязанности на ребенка и на взрослого, на бедного и на богатого, на женщину и на мужчину, на больного и на здорового».
Вместе с тем К. Маркс фактически пришел к выводу о невозможности полного осуществления принципов равенства и гуманизма в рамках реального права: «При равном труде и, следовательно, при равном участии в общественном потребительском фонде один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и тому подобное».
В ходе исследований содержания справедливости, равенства и гуманизма в обществе и праве философами прошлого было выдвинуто и немало фундаментальных положений, касающихся социальных основ уголовного права.
Так, Аристотель видел в преступлении проявление несправедливости, выражающееся в «непроизвольном» (т. е. независящем от воли пострадавшего) общественном отношении («общественном сношении») по поводу «скрытых» и «насильственных» деяний (преступлений) или, по его словам, «предмета обмена». Потому «уравнивание» между потерпевшим и преступником, производимое судьей (по-другому, назначение наказания), он считал «восстановлением равенства», т. е. не чем иным, как восстановлением справедливости. Следовательно, через понятие «справедливость» Аристотель определял и преступление, и наказание.
Гегель не только считал наказание одной из форм справедливости в государстве, «наказующей справедливостью», а назначение даже «одним днем больше или меньше тюремного заключения – уже несправедливостью», но и установил, что основанием наказания является только «качественный и количественный объем» преступления («понятие и мерило наказания» преступника должны быть «взяты из самого его деяния»). Именно указанное Гегелем «всеобщее (социальное) свойство» преступлений и наказаний при адекватном его отражении и оценке в уголовном законодательстве как раз и выступает единым и эффективным критерием реализации принципа равенства граждан в уголовном праве.
Как раз отношение к человеку «соответственно его чести и свободе»85, исходя из «духовного равенства людей», их «безусловного духовного достоинства» (И. А. Ильин), создает наилучшие условия для максимально возможной реализации принципа гуманизма в уголовном праве.
3
См.: Дрожжин В. Право и справедливость в представлении древних // Советская юстиция. 1993. № 10. С. 28–29.
4
Платон. Законы. М., 1999. С. 552–553.
5
Там же. С. 79.
6
Там же. С. 78, 92.
7
Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998. С. 246.
8
Здесь Аристотель оставил «без внимания справедливость и несправедливость, имеющую связь со всей добродетелью и состоящую в проявлении всей добродетели или порочности по отношению к другим людям. Ясно также, как следует определить справедливое и несправедливое по отношению к ним (то есть всей добродетели и порочности)». Там же. С. 250.
9
Там же. С. 251.
10
Там же. С. 252.
11
Там же. С. 254.
12
Там же. С. 272–273.
13
Там же. С. 415.
14
Там же. С. 167.
15
Цит. по ст.: Козлихин Ю. А. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. № 3. С. 6.
16
Неравные лица «не могут иметь равного; отсюда-то и возникают тяжбы, когда равные люди владеют неравным имуществом или неравным уделено равное» (Аристотель. Указ. соч. С. 252).
17
Не лишне напомнить, что Аристотель определял человека как «существо политическое», «существо общественное», отмечая при этом, что «только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость» (Там же. С. 413, 414).
18
«Правда —– истина на деле, истина в образе, во благе, правосудие, справедливость. Праведность, законность, безгрешность. По перв. коренному значению, правдой зовется судебник, свод законов, кодекс. Русская правда и Правда Ярославлева, сборник узаконений, уставник. Посему же, правда, стар. право суда, власть судить, карать и миловать, суд и расправа» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. СПб., 1996. С. 379).
19
Нерсесянц В. С. Примечания // Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 499.
20
Гегель. Политические произведения. М., 1978. С. 128.
21
Там же. С. 378.
22
Там же. С. 378–379.
23
Там же. С. 68.
24
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 352.
25
Там же. С. 264.
26
Там же. С. 108.
27
Там же.
28
Там же. С. 107.
29
Там же. С. 108.
30
Там же. С. 252.
31
Там же. С. 251. – Гегель так определяет различие между понятиями «право» и «закон»:
«В этом тождестве в себе бытия и положенности обязательно как право лишь то, что есть закон. Поскольку положенность составляет ту сторону наличного бытия, в которой может выступить и случайность, порождаемая своеволием и другой особенностью, постольку то, что есть закон, может быть отличным по своему содержанию от того, что есть право в себе.
Поэтому в позитивном праве то, что закономерно, есть источник познания того, что есть право, или, собственно говоря, что есть правовое; тем самым позитивная наука о праве есть историческая наука, принципом которой является авторитет» (Там же. С. 250).
32
Гегель. Политические произведения. С. 313.
33
Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 148–149.
34
Там же. С. 149.
35
Там же. С. 149–150. – Под «специфическим равенством» Гегель подразумевал принцип талиона (см.: Там же. С. 492).
36
Там же. С. 147, 148, 150, 152.
37
Там же. С. 150.
38
«Субсумция – подчинение, включение» (Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 502).
39
Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 148.
40
Чубинский М. П. Курс уголовной политики. Ярославль, 1909. С. 233.
41
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 402.
42
См.: Там же. Т. 25. Ч. 1. С. 422.
43
Там же. Т. 12. С. 461.
44
См.: Там же. Т. 18. С. 273.
45
Там же. Т. 20. С. 34.
46
Там же. Т. 18. С. 273.
47
Там же. Т. 20. С. 637.
48
Там же. Т. 18. С. 273.
49
Там же. Т. 21. С. 46.
50
Там же. Т. 3. С. 483.
51
Плеханов Г. В. Литература и эстетика. М., 1958. Т. 2. С. 422.
52
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 364.
53
См.: Там же. Т. 40. С. 311.
54
Там же. Т. 4. С. 220.
55
Там же. Т. 6. С. 232.
56
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 27.
57
Там же. Т. 20. С. 108.
58
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 93.
59
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 637.
60
Там же. Т. 16. С. 11.
61
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 89.
62
Примечательно, что последователь учения Маркса и Энгельса П. Лафарг в связи с самым первым и простым пониманием справедливости писал: «Удар за удар, возмещение, равное причиненному ущербу, равные доли при распределении продовольствия и земли – таковы были единственные понятия справедливости, доступные первым людям, понятия, которые пифагорейцы выражали в аксиоме: не нарушать равновесия весов» (Лафарг П. Соч. М.; Л., 1931. Т. 3. С. 82).
63
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 28.
64
«В более общей постановке вопроса, с учетом “отклоняющихся” ситуаций, видимо, можно сказать, что возникновение и само существование государства, государственной власти, с одной стороны, это – результат социальной ассиметрии в обществе. С другой стороны, Маркс, при всей критике им предсоциалистической государственности, отмечал необходимость выполнения государственной властью “общих” для общества дел» (Чиркин В. Е. Власть, ненасилие и социальная справедливость // Советское государство и право. 1991. № 9. С. 100).
65
«Ведь рабы никогда не станут друзьями господ, – подчеркивал Платон, так же как люди никчемные никогда не станут друзьями людей порядочных, хотя бы они занимали и равные по почету должности. Ибо для неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера» (Платон. Законы. С. 207).
66
Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. С. 94.
67
Там же. С. 95.
68
Ленин В. И. Пол. собр. соч. Т. 33. С. 93.
69
Там же. С. 28.
70
Там же. С. 35.
71
Там же. Т. 35. С. 156, 267.
72
См.: Там же. С. 204.
73
Гринберг М. С. Природа и суть агрессивного равнодушия (уголовно-политический аспект) // Государство и право. 1999. № 2. С. 63.
74
Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М., 1934. С. 509.
75
Об этом периоде и уголовном праве позднего социализма см.: Мальцев В. В. Введение в уголовное право. Волгоград, 2000. С. 20–43.
76
Так, один из главных идеологов коммунистической партии Н. И. Бухарин писал, что «в процессе революционной борьбы пролетариата неизбежно возникает распад всех тех форм всех учреждений и институтов, которые носят видимость “общенационального”. Это есть опять-таки совершенно неотвратимый, исторически абсолютно неизбежный процесс, хотят его и не хотят отдельные люди, отдельные группы или даже некоторые промежуточные классы…» При этом он добавлял: «Пролетариат не только не дает никаких “свобод” буржуазии, – он применяет против нее меры самой крутой репрессии» (Бухарин Н. Теория пролетарской диктатуры // Октябрьский переворот и диктатура пролетариата. М., 1919. С. 14–15, 17).
77
Пашуканис Е. Общая теория права и марксизм. М., 1924. С. 128.
78
Козловский М. Ю. Пролетарская революция и уголовное право // Октябрьский переворот и диктатура пролетариата. С. 236, 238–239.
79
Берман Я. К вопросу об Уголовном кодексе социалистического государства // Пролетарская революция и право. 1919. № 2–4 (12–14). С. 43.
80
Крыленко Н. Реформа Уголовного кодекса (Основные принципы пересмотра Уголовного кодекса). М., 1929. С. 23–24, 34–36.
81
Н. Д. Дурманов, сославшись на работы М. А. Чельцова-Бебутова, М. М. Гродзинского, Э. Я. Немировского, В. Гольдинера, указывал: «В советской литературе уголовного права в течение первого десятилетия было довольно распространено заимствованное у социологической школы воззрение, согласно которому конкретный акт преступления имеет лишь субсидиарное значение» (Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М.; Л., 1948. С. 34–35).
82
Д. И. Курский писал, что «произошел глубокий переворот в самом правотворчестве, повседневном, текучем, так как появился новый источник права. Таким источником явился созданный пролетарской революцией народный суд» (Курский Д. И. Новое уголовное право // Пролетарская революция и право. 1919. № 2–4 (12–14). С. 23).
83
Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973. С. 76.
84
«Категория – предельно широкое понятие, в котором отображены наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, явлений объективного мира» (Кондаков Н. И. Логический словарь. С. 210).
85
Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 147.