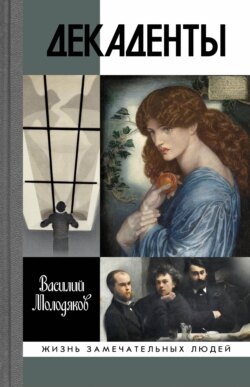Читать книгу Декаденты. Люди в пейзаже эпохи - Василий Молодяков, В. Э. Молодяков - Страница 2
Пролог. Замечательные декаденты?
ОглавлениеФранцузское слово «décadence» означает «упадок» или «разложение». Стало быть, декаденты – «упадочники» или вовсе «разложенцы». Могут ли такие люди быть замечательными? На протяжении целого столетия многие уверенно отвечали: нет!
Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Федор Сологуб – замечательные люди? Ответ: да! – и не только потому что их биографии выпущены в соответствующей серии. Все они – декаденты? Безусловно. Как же быть?
Они не ограничивались декадентством и даже преодолели его, – скажет иной, повторяя расхожую формулу. И вообще мы любим их не только за это! Любить или не любить – дело индивидуальное, а вот относительно «преодоления» декадентства вопросы возникнут после прочтения… хотя бы справок об этих поэтах в Википедии, чтобы далеко не ходить.
Действительно, не все герои этой книги были только декадентами. Но все они были декадентами в определенные периоды жизни, и это сближает их. Они читали, изучали и переводили друг друга. Старшие влияли на младших, младшие толковали и популяризировали старших. Многие были знакомы друг с другом, любили, порой ненавидели. Поэтому отобраны они не случайно.
Как в строгих рамках заданного объема рассказать о жизни и творчестве десятка ярчайших личностей, каждая из которых достойна отдельной книги, причем о большинстве такие книги уже написаны? Как сделать так, чтобы после всего автору было интересно писать, а читателю – интересно читать? Пересказ общеизвестных сведений – явно не выход. К тому же это должна быть цельная книга, а не с бору по сосенке.
Не претендуя на полноту описания явления, автор отобрал ключевых или знаковых, как принято выражаться, его представителей. Не всех, но важных и, главное, связанных друг с другом, поскольку декадентство было всемирным явлением, захватив не только большинство европейских литератур, но американскую, китайскую, японскую. «Всемирная история декадентства» – вот о чем мне мечталось, но техническое задание сдерживало мечту.
Кто был первым декадентом? Среди претендентов на это почетное звание – древнегреческая поэтесса Сафо и древнеримский поэт Катулл. Декадентами называли поэтов, не вписывающихся в рамки общепринятого, выламывавшихся из них. Мы все же будем рассматривать декадентство не как «порыв» (фр. élan), не как «трепет» (фр. frisson) – любимые слова самих декадентов, а как пусть и не строго определенное, но все же определяемое литературное и культурное явление и поэтому начнем с гениального одиночки Шарля Бодлера (1821–1867), известного в России больше других собратьев по декадентству. Отношения Поля Верлена (1844–1896) и Артюра Рембо{1} (1854–1891) часто описываются знаменитыми словами Катулла «odi et amo» – «ненавижу и люблю». Фрагменты их истории Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) пересказал в пьесе «Декаденты» (1893), опубликованной лишь недавно. Собственные отношения Брюсова с Федором Сологубом (Федором Кузьмичом Тетерниковым; 1863–1927) и Константином Дмитриевичем Бальмонтом (1867–1942) до такого экстрима не доходили, хотя между «братом Валерием» и «братом Константином» порой летали не просто искры, но целые молнии. Бодлер сыграл значительную роль в литературном становлении Бальмонта и Брюсова (его урбанизм не только от Верхарна{2}, но и от автора «Картин Парижа»), Верлен – Брюсова и Сологуба. Если «русский Бодлер» существовал во многих вариантах, то Верлена у нас на протяжении семидесяти лет знали только в версиях Брюсова и Сологуба, затмивших остальные попытки. Александр Михайлович Добролюбов (1876–1945), друг семьи Брюсовых, знакомый Бальмонта и Сологуба, стал первым в России декадентом в жизни, предвосхитив своим поведением символистское жизнетворчество 1900-х годов. Александр Николаевич Емельянов-Коханский (1871–1936), не друг, но лишь приятель остальных, назвал себя «первым смелым русским декадентом», не просто сделав осмеянное слово узнаваемым, но «раскрутив» его в качестве общеизвестного бренда. Конечно, надо говорить и о других, но объем ограничен, а ограничиться только Францией и Россией несправедливо.
Алджернон Чарлз Суинбёрн (1837–1909) был декадентом еще до того, как это слово получило права гражданства в литературе, снискал признание как великий мастер английского стиха и неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию по литературе (Бальмонт – единожды, в 1923 году). Он открыл англичанам Бодлера, как сам Бодлер открыл французам Эдгара По, предтечу всех декадентов. Германское декадентство подарило миру сразу двух Эверсов – но я выбрал не поэта Франца, которым на короткое время пленился Брюсов, а прозаика Ханса Хейнца Эверса (1871–1943), куда более известного и популярного в России. В Новом Свете настоящих декадентов не водилось – за исключением Джорджа Сильвестра Вирека (1884–1962), последователя (злые языки говорили – эпигона) Суинбёрна и друга Эверса.
«Тонкие властительные связи»{3} между героями автор решил подчеркнуть тем, что произведения иностранных декадентов по возможности цитируются в переводах их русских собратьев, а в изложении их биографий широко использованы русские источники декадентской эпохи. Как справедливо отметил Всеволод Багно, «обращение русского литератора, в частности символиста, к творчеству поэта-современника, поэта-единомышленника, близкого ему по складу творческой личности, литературным взглядам и симпатиям, нередко наделяло его переводческие опыты неоспоримыми и уникальными достоинствами»[1]. В свою очередь, русские декаденты показаны прежде всего через призму восприятия ими западных декадентов и ученичества у них. Иными словами, о жизни Верлена я рассказываю словами Брюсова, а в жизни Бальмонта выделяю творческий диалог с Бодлером, а не с По или Шелли.
Удалось ли таким образом сделать книгу единым целым, «с головой, туловищем и хвостом», как сказал об одном из своих сборников Брюсов, а не просто «собраньем пестрых глав», судить читателю.
Термин «декадент» вошел в обиход во французской литературе в конце 1870-х годов для обозначения поэтов, противопоставлявших себя парнасцам (Теофиль Готье, Шарль Леконт де Лиль, Жозе Мариа де Эредиа). Однако именно вождь парнасцев Готье десятилетием раньше, в очерке жизни и творчества Бодлера, дал превосходное определение «стиля декаданса», применимое к большинству героев нашей книги и к их творчеству. Читаем внимательно и запоминаем:
«Искусство, достигшее той степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевозможными техническими терминами, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы в самых неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие. Этот “стиль декаданса” – последнее слово языка, которому дано всё выразить и которое доходит до крайности преувеличения. Оно напоминает уже тронутый разложением язык Римской империи и сложную утонченность византийской школы, последней формы греческого искусства, впавшего в расплывчатость. Таким бывает, необходимо и фатально, язык народов и цивилизаций, когда искусственная жизнь заменяет жизнь естественную и развивает у человечества неизвестные до тех пор потребности.
Кроме того, этот слог, презираемый педантами, далеко не легкая вещь: он выражает новые идеи в новых формах и словах, которых раньше не слыхивали. В противоположность “классическому стилю” он допускает неясности, и в тени этих неясностей движутся зародыши суеверия, угрюмые призраки бессонницы, ночные страхи, угрызения совести, вздрагивающей и озирающейся при малейшем шорохе, чудовищные мечты, которые останавливаются только перед собственным бессилием, мрачные фантазии, которые способны изумить весь мир, и всё, что скрывается самого темного, бесформенного и неопределенно-ужасного в самых глубоких и самых низких тайниках души»[2].
Это определение принадлежит не какому-нибудь заправскому декаденту, но писателю, который, по характеристике Брюсова, «в словесном искусстве достиг великого совершенства и не знал соперников в богатстве своего запаса слов, в мастерстве построения строфы (и фразы. – В. М.), в умении извлекать эффекты из неожиданных выражений»[3].
Слова «декадент» и «декадентство» поначалу использовались иронически и даже сатирически, хотя, как заметил британский критик Артур Симонс, сам декадент, «редко в каком-либо определенном значении»[4]. Сами поэты обычно так себя не называли или делали это с вызовом, как Верлен: «Нам бросили этот эпитет как оскорбление; я его подхватил и сделал из него боевой клич; но он, насколько я знаю, не обозначает ничего особого»[5]. Для определения нового течения его глашатай Жан Мореас придумал в 1886 году слово «символизм», решительно открестившись в своем манифесте от декадентства. Однако слово прижилось и перешло в другие языки – в немецкий (нашумевшая книга Макса Нордау «Вырождение» (1892), сразу же переведенная в России) и в русский, где его подхватил маститый Владимир Стасов, борец за «здоровое» искусство против «больного» – «гадкой инфлюэнции». «Больным» он объявлял всё, что ему не нравилось и чего он не понимал.
Почти полвека спустя художник Игорь Грабарь в мемуарах «Моя жизнь» утверждал: «Словечко это стало обиходным только в середине [18]90-х годов. Заимствованное у французов… оно впервые появилось в России в фельетоне моего брата Владимира “Парнасцы и декаданы”, присланном из Парижа в “Русские ведомости” в январе 1889 года. Несколько лет спустя тот же термин, но уже в транскрипции “декаденты”, был повторен П. Д. Боборыкиным и с тех пор привился. “Декадентством” стали именовать все попытки новых исканий в искусстве и литературе. Декадентством окрестили в России то, что в Париже нашло название “L’art nouveau” – “новое искусство”. <…> Декадентством было всё, что уклонялось в сторону от классиков в литературе, живописи и скульптуре»[6].
Некоторые возражения вызывает только первая фраза. Уже в 1892 году редакция не самого изысканного журнала «Петербургская жизнь» писала о своем сотруднике – поэте Сергее Сафонове: «Вооружен бичом сатиры и лирою поэта-декадента. Человек, который смеется над тем, над чем он плачет, и плачет над тем, над чем смеется»[7]. Писала, не объясняя, кто такие декаденты. Вынужденно отдавший жизнь газетной поденщине, Сафонов был талантливым поэтом-лириком, ярким представителем предсимволизма, но никаким не декадентом – если не путать это слово, как часто делали, с богемой и просто пьянством. Ибо по свидетельству критика Любови Гуревич, редактировавшей в те годы самый передовой – с точки зрения «новых течений» – русский литературный журнал «Северный вестник», «никто в нашей молодой литературе того времени еще не следил по-настоящему за тем, что творилось тогда во Франции и Германии. Слова “декадентство” и “символизм” носились в воздухе; становилось уже ясно, что и у нас зарождаются декаденты и символисты. <…> Но людей, которые основательно знали бы новейших декадентов – Малларме, Рембо и др., уже шумевших тогда во Франции, именно среди литераторов я не встречала»[8]. В 1880-е годы, особенно после смерти Тургенева, русская литература утратила постоянную связь с европейской и сделалась весьма провинциальной. Многие только «слышали звон»…
Атмосферу эпохи безукоризненно передают два стихотворения, ставшие знаменитыми, хотя их авторов первоклассными поэтами не назвать. Здесь уже есть почти все «ключевые слова», которые потом будут повторять как заклинание.
В 1887 году Николай Минский завершил свой сборник декларацией:
Как сон, пройдут дела и помыслы людей.
Забудется герой, истлеет мавзолей.
И вместе в общий прах сольются.
И мудрость, и любовь, и знанья, и права,
Как с аспидной доски ненужные слова,
Рукой неведомой сотрутся.
И уж не те слова под тою же рукой —
Далёко от земли, застывшей и немой, —
Возникнут вновь загадкой бледной.
И снова свет блеснёт, чтоб стать добычей тьмы,
И кто-то будет жить не так, как жили мы,
Но так, как мы, умрет бесследно.
И невозможно нам предвидеть и понять,
В какие формы Дух оденется опять,
В каких созданьях воплотится.
Быть может, из всего, что будит в нас любовь,
На той звезде ничто не повторится вновь…
Но есть одно, что повторится.
Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном —
Тоска неясная о чем-то неземном,
Куда-то смутные стремленья,
Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет
И жажда жгучая святынь, которых нет, —
Одно лишь это чуждо тленья.
В каких бы образах и где бы средь миров
Ни вспыхнул мысли свет, как луч средь облаков,
Какие б существа ни жили, —
Но будут рваться вдаль они, подобно нам,
Из праха своего к несбыточным мечтам,
Грустя душой, как мы грустили.
И потому не тот бессмертен на земле,
Кто превзошел других в добре или во зле,
Кто славы хрупкие скрижали
Наполнил повестью, бесцельною, как сон,
Пред кем толпы людей – такой же прах, как он, —
Благоговели иль дрожали, —
Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещился вдали —
Несуществующий и вечный,
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал
Среди пустыни бесконечной.
Семь лет спустя Дмитрий Мережковский напечатал в респектабельном журнале «Русская мысль» стихотворение «Перед зарею», которое через полтора года открывало его сборник «Новые стихотворения» (1896) – под заглавием «Дети ночи»:
Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра – это мы.
Наши гимны – наши стоны;
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.
Мы – соблазн неутоленных,
Мы – посмешище людей,
Искра в пепле оскорбленных
И потухших алтарей.
Мы – над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем,
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрем.
«Голос Музы его напоминает крик петуха, – позже писал о Мережковском Александр Блок (у которого «пенье петуха» зазвучит в гениальных «Шагах Командора»). – Кругом еще холодная ночь, все искажено мраком. Петух бьет крыльями и неудержимо, еще нестройно кричит голосом, отвыкшим от крика»[9]. Откликаясь в письме критику Петру Перцову на составленный тем сборник «Молодая поэзия» (1895) – смотр поэтов, затронутых «новыми веяниями», от Минского до Брюсова[10], – Брюсов посчитал это стихотворение Мережковского (разумеется, включенное в «Молодую поэзию») наиболее подходящим эпиграфом[11]. Не только к книге, но и к эпохе, добавлю я.
«Некоторым молодым людям в разных странах нравилось называть себя декадентами, – констатировал в 1908 году Симонс, – со всем возбуждением неудовлетворенной добродетели, изображающей непостижимый порок. <…> Несомненно, извращенность формы часто сопровождалась извращенностью содержания, и эксперименты далеко заходили не только в направлении стиля, особенно у фигур масштабом поменьше. Однако движение, которое в этом смысле можно назвать декадентством, неизбежно оказывалось в стороне от столбовой дороги литературы. <…> Декадентство отвлекло внимание критиков от того, что готовилось нечто более серьезное. Со временем это более серьезное выкристаллизовалось в форме символизма, в котором искусство вернулось на свой единственный путь, который ведет через красивые вещи к вечной красоте»[12].
Слово «символизм» неизбежно всплывает при любом разговоре о декадентстве. Как эти понятия соотносятся друг с другом? Какие между ними «соответствия», если вспомнить к слову знаменитый сонет Бодлера, хотя в нем идет речь о «соответствиях не предметов, но ощущений»[13]:
Природа – строгий храм, где строй живых колонн
Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
Лесами символов бредет, в их чащах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен.
Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где всё едино, свет и ночи темнота,
Благоухания и звуки и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.
«Чаще всего употребляются термины декадентство, если хотят говорить с полным пренебрежением, и символизм, если к “новым течениям” относятся с известной долей почтительности, – указывал в 1914 году Семен Венгеров во введении к коллективному труду «Русская литература ХХ века. 1890–1910». – Но и эти термины едва ли приемлемы. В особенности “декадентство”, от которого все открещиваются. Кто такие, собственно, “декаденты”? Мережковский, Минский, Гиппиус, Сологуб, Брюсов, Бальмонт, Вяч. Иванов? Но они энергичнейшим образом отвергают эту кличку и сами во всех своих теоретических выступлениях говорят о декадентстве как о чем-то внешнем и поверхностном. Что касается “символизма”, то его, правда, те же самые писатели, которые открещиваются от декадентства, приемлют с гордостью»[14]. «Символизм, прежде всего, диаметрально противоположен декадентству, – утверждала Гиппиус (правда, под псевдонимом) еще в 1896 году. – <…> Эти два понятия так печально смешались в умах людей даже наиболее почтенных, что невольно хочется разделить их навсегда»[15].
«Русские литераторы, примкнувшие к новому направлению, ничего не имеют, по-видимому, против того, чтобы их признавали символистами, а рецензенты упорно уличают их в декадентстве как в чем-то неумном и, пожалуй, зазорном, – парировал Сологуб. – <…> Возникая из великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн, символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим страданием, великой болезнью духа. И так как всякое страдание, непонятное толпе, презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку декадентства. <…> Для меня несомненно, что это презираемое, осмеиваемое и даже уже преждевременно отпетое декадентство есть наилучшее, быть может единственное, орудие сознательного символизма. <…> Будущее же в литературе принадлежит тому гению, который не убоится уничижительной клички декадента и с побеждающей художественной силой сочетает символическое мировоззрение с декадентскими формами»[16]. Полемический ответ остался неопубликованным. Зато Емельянов-Коханский – «автор спекулятивных подделок под декадентство», как охарактеризовал его Венгеров[17], – с гордостью называл себя именно «декадентом»… дискредитируя само это слово.
Желая внести ясность в вопрос об отношениях романтизма, символизма и декадентства, принадлежавший к младшему поколению символистов критик Модест Гофман в 1907 году попытался четко отделить одно от другого. «Между декадентством и символизмом столько же общего, сколько общего между упадком творчества и развитием его. Символизм является всегда творческим, богатым, религиозным, между тем как бессилие и безрелигиозность составляют отличительные свойства декадентства. <…> Подобно символизму и декадентство пользуется образами (не в этом ли и кроется причина смешения символизма с декадентством?), но эти образы не являются символами, форма-образ в декадентстве не соединяется с содержанием, он является пустым, бледным и ничего не выражает, а потому – никому не понятен, да и не может быть понятным. С внешней стороны декадентство сближается с символизмом в пользовании образами, тогда как с внутренней стороны их разделяет глубокая пропасть, и в этом смысле мы можем назвать декадентство ложным символизмом». Разграничив то, что он считал разными явлениями, Гофман, однако, признал всех ведущих русских поэтов современности (умолчав об Александре Добролюбове, который отрекся от литературы) «символистами с одной стороны и декадентами с другой», распространив «декадентство: и на младших символистов – Иванова, Белого и Блока»[18]. Много позже литературовед Дмитрий Обломиевский выдвинул концепцию «декадентского перерождения символизма», прежде всего в творчестве Бодлера, который, согласно ей, сначала стал символистом (и в этом его новаторство!), а потом декадентом, что автор оценивал как творческий регресс.
Вдаваться в споры критиков и литературоведов, зачастую принимающие схоластический характер, я не намерен. Но и обойти данный вопрос не могу, поэтому временно предлагаю рабочую трактовку. Символизм – литературное направление, школа, со своей оригинальной эстетикой, поэтикой и стилистикой. Декадентство – в большей степени – опыт бытового и литературного поведения с заметной примесью игры и эпатажа, что не исключало «полной гибели всерьез». Символизм как понятие стоит в одном ряду с романтизмом, декадентство – с дендизмом. Все герои этой книги были декадентами, но не все были символистами.
За мной, читатель, – в пейзаж эпохи!