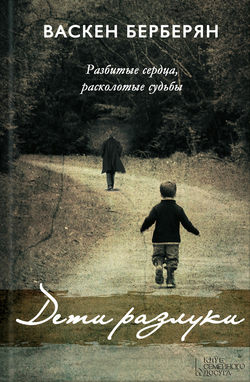Читать книгу Дети разлуки - Васкен Берберян - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Мучение
Оглавление1
Патры, Греция, 1937 год
– Любимая, мне надо идти, – прошептал Сероп жене.
Сатен повернулась в кровати с легким вздохом. Свет от масляной лампы, стоявшей на столике, блеснул в ее глазах, и, как всегда, Сероп был ослеплен их теплой янтарной красотой, золотисто-прозрачной, других таких он в жизни не встречал.
– Сейчас встану, – прошептала она в ответ, будто боялась кого-то разбудить, хотя они были одни.
– Нет, поспи еще, – сказал муж полным любви и заботы голосом.
Была глубокая ночь, и ему хотелось, чтобы Сатен отдохнула еще немного, но она уже сидела на краю кровати и искала тапочки.
Сатен была молода, хотя даже она не знала точно, сколько ей лет. Из рассказов, что она слышала, выходило, что она родилась весной 1919 года, за три года до трагедии Смирны, когда ужасный пожар, устроенный Младотурками[1], уничтожил этот прекрасный приморский турецкий город. В тот страшный день адского пламени и дыма маленькая Сатен потеряла всю свою семью и осталась одна на белом свете. Так что никто не мог с уверенностью сказать, когда она родилась.
– Я положу тебе свежий хлеб, его принесла Луссиа-дуду, – сказала она, надевая поношенный халат, слегка подпоясав его на талии.
Она была высокая и стройная, с гордой осанкой и длинными черными как вороново крыло волосами с синим отливом. Сероп все время засматривался на жену и повторял, что Бог незаслуженно осчастливил его, одарив такой женщиной. Взгляд его скользнул ниже и задержался на ее упругом круглом животе, который увеличивался с каждым днем: Сатен ждала ребенка.
– Съешь ты, это тебе нужно копить силы, – попросил он, опустив голову.
Беременность Сатен переполняла его гордостью и в то же время тревожила. Сероп был беден, как и все армянские беженцы в лагере, и мысль стать отцом в таких условиях железными клещами сжимала ему сердце, лишая сна.
В комнате, где они жили, едва помещались кровать, стол и один стул. В тех редких случаях, когда молодожены ели вместе, один из них должен был устраиваться на кровати. У них не было шкафа, и вещи просто развешивались на веревке, растянутой от одной стены к другой. Сбоку от двери, под открытым окошком, ютившимся почти у самого потолка, была пристроена металлическая раковина, из которой вода стекала в широкий таз. Сатен, как и другие женщины в лагере беженцев, вынуждена была сливать воду из таза прямо во дворе по нескольку раз в день. Над раковиной висел маленький жестяной умывальник с краником, который Сатен наполняла водой, взятой их городских фонтанов. На передней стенке умывальника читалось греческое слово «калимера» – добрый день, – окруженное цветочным орнаментом, и, когда Сатен пользовалась умывальником, ее взгляд неизменно падал на это пожелание и ей становилось немного веселей. Чуть в стороне, в деревянном шкафчике, который Сероп прибил к стене, хранились тарелки и две кастрюли – одна маленькая, а другая чуть побольше. На полу, слева от раковины, на нескольких кирпичах стоял примус. Требовалась немалая сноровка и осторожность, чтобы зажечь его, так что Сероп часто спрашивал себя, как это его жене удается готовить такие чудесные блюда на столь скромной и неудобной кухне.
– Вот, возьми, – сказала она, положив на стол узелок с хлебом, оливками и козьим сыром, чтобы он взял его с собой на фабрику.
Она двигалась несколько с трудом, и у нее появилась легкая одышка.
– Обещай мне, что снова ляжешь в постель, – нежно выговаривал он жене: у Сатен уже был один выкидыш.
Молодая женщина улыбнулась, показывая резцы с небольшой щербинкой. Сероп влюбился в нее именно из-за этой очаровательной особенности, заметив, как ее розовый язычок трепетал в щелке, когда она разговаривала.
– Хочу помочь тебе сшивать носки у тапочек, – заявила ему жена.
Он покачал головой:
– У тебя и так дел полно. Прибраться, постирать, приготовить еду и все остальное.
– Мне вовсе не тяжело, и я хочу помочь тебе. Чем больше ты сделаешь, тем больше заработаешь, – заявила она твердо.
С того дня, как он узнал, что в семье будет пополнение, Сероп решил найти вторую работу. Он был еще молод, силен, и тяжелый труд не пугал его. Как большинство мужчин в лагере беженцев, он работал на текстильной фабрике «Марангопулос», но, чтобы сводить концы с концами, решил использовать навыки башмачника. Этому ремеслу научил его отец, Торос-ага, у которого в свое время в городе Адапазары, в Турции, была одна из самых красивых обувных лавок, знаменитая «Алтин Чичек» – «Золотой Цветок». В перерывах между сменами на фабрике Сероп мог бы шить красивые, мягкие фетровые тапочки, как те, что делал его покойный отец. Он был уверен, что смог бы выгодно продавать их и зарабатывать необходимое. Сероп даже купил швейную машинку на воскресном блошином рынке в Ая-Варваре[2] – скорее хлам, чем полезную вещь; он разбирал ее по частям, а затем терпеливо собирал, пока она не заработала.
– И смотри, не поднимай ничего тяжелого, – продолжал выговаривать он, вспомнив о выкидыше.
Он хранил швейную машинку под кроватью, но уже несколько раз обнаруживал ее на столе, а Сатен за работой – она сшивала носки тапок, прекрасно справляясь, как прилежный подмастерье.
– Тогда вытащи ее сам, прежде чем уйти. Чего ты ждешь? – возразила она и засмеялась.
Сероп подумал, что он самый везучий человек на свете.
Выйдя из дома, он быстрым шагом прошел вдоль бараков, как две капли воды похожих на его жилище, из которых и состоял лагерь беженцев, где он жил вот уже пятнадцать лет.
Армяне прибыли в Грецию из Турции, как и другие тысячи беженцев в конце 1922 года, на борту союзных французских, английских и итальянских кораблей, которые спасли их от неминуемой смерти после ужасных последствий греко-турецкой войны. Они прибыли на Эгейские острова, многие остались в Афинах, другие поселились в более крупных городах. До Патры они добирались сначала морем, а потом поездом, с трудом волоча за собой то немногое, что им удалось увезти из мемлекет[3], прежней родины. Серопу было всего двенадцать, но он так никогда и не забыл взгляд отца в момент, когда они впервые спустились на платформу в Патрах. «Это красивый город, сынок, – пробормотал он, глядя на море и зеленые холмы, – но нет места милее, чем наш Адапазары. Ты молод, ты привыкнешь, а моя жизнь на этом закончилась», – добавил он с горечью.
Городские власти собрали их всех в одном месте, около собора Святого Андрея, покровителя Патры. Там были драгоманы – переводчики, которые с трудом пытались говорить с этими беднягами. Нужно было записать их имена, даты рождения, откуда они родом, а самое главное – вернуть им человеческое достоинство, которого их так жестоко лишили. Вместе с переводчиками служащие Красного Креста и других гуманитарных организаций помогали беженцам заполнять заявки на поиск членов их семей, потерявшихся во время эвакуации.
Торос-ага, отец Серопа, попросил сына подать заявку на розыск любимой племянницы Мириам, дочери умершей сестры. Она училась в американском колледже в Стамбуле, но известий от нее не было с самого начала военных действий. Потом их разместили на заброшенной полуразрушенной фабрике, в говуш – лагере армянских беженцев. Развалюха, как вскорости ее прозвали, – убогое место, но единственное имевшееся в их распоряжении в той чрезвычайной ситуации. Греция и сама была бедной страной, а война с турками, закончившаяся катастрофой, поставила ее на колени. Непрекращающийся поток греков, бегущих из Смирны, из Восточной Фракии, Понта[4], из всех тех земель, которые приходилось покидать после войны, обрушился на страну. Армяне были приняты лишь благодаря искреннему чувству гостеприимства и несомненным узам, существовавшим между двумя народами. Армениде, как их тогда называли, засучили рукава и сразу же взялись за дело. Каждый взял себе участок внутри здания и во дворе и с помощью металлических листов, досок и кирпичей, сделанных из глинистого раствора, худо-бедно соорудил собственный уголок. Целью каждого нового дня было только одно – выжить. Чтобы как-то выкручиваться, нужно было выучить новый язык, найти работу, ухаживать за больными и, что еще хуже, за теми, кого поразила неизлечимая болезнь – ностальгия. Иногда случалось, что кто-то просыпался глубокой ночью и кричал по-турецки: «Бен мемлекет гидиорум! Я возвращаюсь на родину!», – и было странно слышать, как бедняга называл «родиной» страну, которая подвергла его гонениям и пыткам.
С течением времени беженцы привыкли к новым условиям: дети выросли, молодежь переженилась, родились новые дети на новой родине. Красный Крест совершал чудеса, воссоединяя множество семей и находя многих пропавших без вести. Так и Торос-ага был несказанно счастлив, когда узнал, что племянница Мириам жива и здорова, живет за океаном, в Лос-Анджелесе. Мириам забрасывала их письмами, приглашая всякий раз переехать в Соединенные Штаты. Она вышла замуж за весьма влиятельного американского дипломата, так что добыть им визы и необходимые документы для экспатриации не составило бы труда.
«Позвольте мне хотя бы частично отплатить за Вашу щедрость, дорогой дядя. Если бы не Вы, я не смогла бы даже пройти рядом с престижным колледжем в Стамбуле», – просила она в письме, намекая на материальную поддержку, которую несколько лет получала от Торос-ага. Но он, уже глубокий старик, продолжал отказываться. «Да ниспошлет тебе Бог, дорогая племянница, благословение и счастье, – отвечал он, – но, если Господь захотел разделить нас, мы должны смириться с Его волей».
Старики больше всех страдали от вынужденной эмиграции и необходимости жить в диаспоре, многие не пережили внезапной потери того, что создавалось ими в течение всей жизни. Торос-ага был одним из них.
Спустя лишь год после прибытия в Патры, в ночь перед смертью, он призвал Серопа к себе и, взяв за руку, прошептал: «Сын мой, я прожил столько, сколько отвел мне великодушный Господь. Я ни о чем не жалею, кроме одного: мне жаль, что пришлось растить тебя одному, без матери». Услышав это слово, Сероп нахмурился. Лишь однажды они говорили на эту болезненную тему, когда Сероп еще ребенком, вернувшись домой из школы в слезах, спросил его: «Все говорят, что мама была шлюхой, почему ты скрывал от меня?»
Торос-ага отвесил ему оплеуху. «Не смей так называть свою мать!» – сурово произнес он, а потом закрылся в своей комнате, даже не выйдя к ужину. Но той ночью, перед смертью, Торос-ага почувствовал необходимость раскрыть семейную тайну, которая тяготила его.
– Твоя мать, – начал он, – была первой красавицей Адапазары…
– Отец, прошу тебя, – остановил его Сероп.
Но он замахал костлявой рукой, прося не перебивать.
– Она была не только самая красивая, но и самая желанная. Может быть, только у ангелов небесных бывает такой же свет в глазах, такая же легкая походка, такое же идеальное тело. И Господь подарил ее мне. Я работал денно и нощно в лавке, чтобы заработать как можно больше денег. Я должен был позаботиться об оплате колледжа Мириам, платить за аренду лавки, содержать красивый дом, в котором мы жили. Но я стал слишком алчным, ненасытным. Как я был глуп! Глуп и слеп. Так я потерял ее, – продолжал он. – Она была очень молода, намного моложе меня, а ты только что родился. Я возвращался поздно, а она ждала меня, прихорашивалась, ублажала меня своей стряпней, ласкала, а я, дурак, не обращал на это внимания. Она умоляла меня, хотела, чтобы я любил ее, чтобы мы проводили немного времени вместе, а я пожертвовал ее любовь на алтарь бога денег…
– Но ты возвращался домой таким уставшим, отец! – пытался оправдать его Сероп, краснея от смущения.
– Неправда, это была только моя вина! – воскликнул старик, качая головой. – Однажды вечером, придя домой, я не застал ее. Она оставила все, не взяла ничего с собой, и исчезла. Никогда больше я не видел ее.
Он замолчал, остановив на сыне взгляд мудрого человека.
– Ты уже достаточно взрослый, – продолжил он, – скоро можешь жениться. И даже если меня не будет рядом, помни: люби свою жену, заботься о ней, относись к ней как к самому нежному и драгоценному цветку в мире.
Неожиданно Торос-ага заплакал. Сероп наклонился, чтобы осушить его слезы.
– Ты всегда спрашивал, как ее звали…
Сероп напрягся. Несколько лет он пытался узнать у отца имя матери, единственное, что мог бы сохранить в памяти о ней. Но отец молчал, он боялся сломаться, лишь только произнесет это имя.
– Сирануш, Нежная любовь, – прошептал он наконец на ухо сыну.
Это были его последние слова.
Когда девушки подрастали и были на выданье, в лагере начинали бурную деятельность чопкатан, свахи, комбинируя свадьбы. Они ходили по домам возможных претендентов и за чашкой кофе и вазочкой фруктов в сиропе начинали плести свои сети. Они вели самые невероятные разговоры, делали самые абсурдные прогнозы: «У нее волшебные ручки, за что бы она ни взялась, все превращается в золото», или: «С такими белыми зубами она наверняка будет рожать только мальчиков», или еще: «Она родилась в субботу, кто женится на ней, тому будет сопутствовать удача», и другие похожие глупости – все, чтобы польстить тому, кто их слушал в этот момент, и убедить, что другой такой жены и невестки не найти, что она просто сокровище.
Однако ни одна чопкатан не ударила палец о палец для Сатен, хотя девушка была в том возрасте, когда пора уже выходить замуж. Когда она шла по лагерю с джарой[5] на плече, намереваясь наполнить ее водой из фабричных кранов, мужчины не могли оторвать от нее глаз. Они любовались ее крепкими бедрами, упругой грудью, янтарным цветом глаз и толкали друг друга локтями, шушукаясь между собой, даже краснели, но не делали никаких шагов навстречу. И не потому, что она была сиротой и бесприданницей. Как только Сатен попала в Патры, ее взяла к себе Розакур, одинокая старая беженка. Она вырастила ее и, самое главное, выучила. Розакур, в прошлом преподаватель иностранных языков, была ориорд[6] и учительницей общины. В крохотной комнатке при церкви в Ая-Варваре беженцы пристроили несколько парт, закрасили черной краской одну из стен вместо школьной доски и устроили теброц, первую армянскую школу в Патрах. Это была начальная школа, где дети учились читать и писать на армянском, греческом и английском языках, и Розакур руководила ею.
«Я оставлю тебе мои бурма[7], – обещала она Сатен, позвякивая множеством золотых браслетов на запястье. – В качестве приданого этого хватит», – уверяла она.
Она не считала, что замужество – единственная возможность для женщины обрести счастье, были и другие пути, но ей не хотелось, чтобы девочка грустила. «Смотри, их шестнадцать, – уточняла она. – Знаешь, что это означает? Что ты выйдешь замуж до того, как тебе исполнится шестнадцать лет». До того дня рождения оставалось несколько месяцев, но ни один мужчина еще не просил руки Сатен.
Злые языки говорили, что она странная, что в ней есть что-то коварное и нехорошее. Действительно, случалось, что Сатен, особенно в детстве, просыпалась ночью и, корчась, начинала кричать и метаться в кровати в сильном эпилептическом припадке. Кто видел ее в том состоянии, а таких было немало, учитывая, как тесно было в лагере, рассказывали о жутких криках, похожих на визг свиней на бойне, и ее искаженном от ужаса лице, будто она видела дьявола во плоти.
«Яцик, жаль, такая красивая девушка. Лучше, если Бог лишит тебя телесного здоровья, чем душевного», – так заканчивались все разговоры о ней. «Боже упаси, такие болезни передаются от матери к деткам!» С таким приговором никто не желал сватать Сатен за своего сына.
– Дочка, вставай и идем к доктору, – сказала однажды Розакур после очередного припадка. Надо было срочно начинать лечение.
– Нет, бабушка, не нужно, – возразила Сатен. Это был первый раз, когда она заговорила после приступа. Обычно она подолгу молчала, прежде чем ей удавалось составить фразу со смыслом. – Я сама поправлюсь, – произнесла она решительным тоном.
– И как же? – спросила, вздохнув, Розакур.
– Достаточно не обращать внимания на призраков, и я избавлюсь от видений, которые преследуют меня.
Розакур взяла ее за руку и нежно поцеловала.
– О чем ты говоришь, детка?
Сатен свернулась калачиком в ее объятиях, дрожа, как испуганный котенок.
– Я вся горю, бабушка, вся горю. Я в огне, и красные языки пламени хотят поглотить меня. Я хочу убежать, но не могу, и тогда я кричу, плачу и потом просыпаюсь…
Старая женщина почувствовала, как подкатывает комок к горлу. Она поняла, что болезнь Сатен была глубокой душевной травмой, отзвуком болезненного и тяжелого опыта, пережитого в раннем детстве.
В ту среду, 13 сентября 1922 года, маленькая Сатен играла в саду у дома, в Эрмени махалла, богатом армянском квартале, раскинувшемся на цветущих холмах Смирны. Она только что закончила обедать вместе с матерью, няней и братом чуть старше ее. Дни стояли жаркие, и они по привычке ели на веранде, откуда открывался великолепный вид на городской порт. Она знала, что мама вскорости отведет ее в детскую, почитает сказку, а потом уложит в постель на обычный полуденный отдых. Отец был еще на работе, в известном ювелирном магазине в порту, доставшемся ему по наследству от деда, и не вернется домой до сумерек.
Вдруг голубое небо почернело, и пылающее облако, плотное и едкое, накрыло весь квартал. Мама и няня испугались. Сатен помнила, как ее схватили за руку, ее и брата, и как очень долго, бесконечно долго она стояла так, а мать не знала, что делать и куда бежать. Дом охватило пламя, и языки этого адского чудовища уже высовывались из окон и дверей. Где-то страшно грохнуло, что-то взорвалось. Сад был окутан в черное облако, плотное и удушливое. Все стали кашлять: и мама, и брат, и няня, и она тоже.
«Я ничего не вижу», – хныкала она в дыму.
Один из карнизов сорвался, и почти сразу же у входа рухнули красивые пилястры девятнадцатого века. Мама издала хриплый звук и высвободила руку.
– Майрик[8], где ты? – Девочка бродила с закрытыми глазами, спотыкаясь о груды обломков.
– Сестричка, иди сюда! – кричал Амбик, брат.
– Куда? – едва успела спросить она, как новый взрыв засыпал все вокруг кирпичами, черепицей и деревянными щепками. – Амбик! – звала она отчаянно, но ответа так и не последовало.
Она помнила, что начала плакать, испуганно всхлипывая. Сад был весь в огне: раскидистые пальмы, красные розы, белые агапантусы. Растения горели, как факелы, охваченные всепоглощающим пламенем. Когда с огромной тысячелапой пихты дождем посыпались шишки, похожие на пылающие гранаты, Сатен бросилась к садовой калитке и выскочила на улицу вместе с другими людьми, жившими в квартале, который уже превратился в один огромный костер. Повсюду слышны были крики и стоны, а иногда отдельные выстрелы. Все бежали вниз, к порту, к морю, и этот людской поток увлек и маленькую Сатен. От едкого дыма слезились глаза и першило в горле, она постоянно спотыкалась о разные предметы, запрудившие улицу, а чаще всего о трупы.
– Дай ручку, девочка, – обратился к ней приличного вида мужчина, по крайней мере, она так поняла по его протянутой к ней руке, потому что человек говорил на языке, которого она не знала. – Где твои мама, папа? – спросил мужчина, но она только качала головой и плакала.
Незнакомец крепко взял ее за руку, и так они дошли до самого порта, где напирала огромная кричащая обезумевшая толпа. У многих людей были такие черные лица, что трудно было различить их черты, только глаза выражали замешательство, отчаяние, ужас. Люди старались спастись от настигавшего их пламени, а оно распространялось все быстрее, подгоняемое восточным ветром. Корабли в порту включили сирены, и их душераздирающий похоронный плач был слышен повсюду. Сатен с надеждой посмотрела туда, где находился магазин отца, но огонь уже уничтожил его. В этот момент кто-то резко толкнул ее, и она упала, выпустив руку незнакомца. Собрав последние силы, девочка пыталась лавировать между ног, готовых затоптать ее, а толпа несла ее к морю, к кораблям с развевающимися флагами. Там были шлюпки и каяки, но их не хватало, чтобы вместить всех несчастных, толкавшихся на пирсе, которые махали руками и кричали на разных языках одно и то же: «Помогите, ради бога, мы горим заживо!»
Когда языки пламени стали лизать ее худенькое тельце, инстинкт самосохранения вынудил Сатен броситься в море. В голубой воде залива она попыталась удержаться на плаву, как учил ее отец, но скоро поняла, что рядом не было его сильных и ласковых рук, поддерживавших ее, и тут же она почувствовала, как ее затягивает на дно и соленая вода льется в рот, не давая вдохнуть. «Так вот что случилось с Красной Шапочкой, когда злой волк проглотил ее», – подумала она, перестав сопротивляться.
В первый раз Сероп заговорил с Сатен, когда она обратилась к нему с вопросом. Сероп возвращался с утренней смены на фабрике. В голове у него был туман, все тело ныло, плечи тянуло вниз после долгих часов работы гребенкой на ткацком станке.
– Извини, земляк, – обратилась она к нему, как было принято между беженцами, – не знаешь случайно, на фабрике принимают на работу женщин?
Сероп посмотрел на девушку, которую считал самой красивой во всем лагере. Сатен было всего пятнадцать лет, но ее телу могла позавидовать любая сформировавшаяся женщина. Она подметала дворик у своего дома, где в хорошую погоду обычно сидела вместе с Розакур, радуясь погожему деньку.
– Почему бы тебе не спросить у меня? – вмешалась Ноэми по прозвищу Фитиль.
Ее сплетни и злословие часто становились причиной яростных ссор в лагере. Это была неуклюжая старая дева, жившая напротив Сатен. Она не работала и жила тем, что побиралась у соседей: там миску супа получит, здесь – кусочек тушенки. А в благодарность навязывалась предсказывать будущее. Она считала себя хироманткой с необычайными способностями. «Покажи мне твою руку», – настаивала она чаще всего из любопытства, из-за жгучего желания сунуть свой нос в чужие дела, нежели из-за того, что имела подлинные способности. Она все про всех знала, но почти всегда пересказывала в искаженном виде, не гнушаясь даже клеветой. Она вечно сидела на табуретке около дома и лузгала семечки, мастерски щелкая зубами и сплевывая шелуху.
– Потому что ты не работаешь на фабрике, – ответила ей Сатен.
Сероп почувствовал себя неловко. Он смотрел на обеих женщин с примирительной улыбкой и краснел от смущения.
Выглядел он в тот день не лучшим образом: хлопчатобумажная рубашка с короткими рукавами, из которых выглядывали мускулистые руки в противоположность щуплому телу, и слишком широкие штаны, лишь подчеркивавшие его худобу. У него было удлиненное, худощавое лицо, волосы цвета золотистой меди, зачесанные назад, и белая как молоко кожа. «Блондин», – так частенько звали его в лагере, чтобы отличать от других мужчин, в большинстве своем смуглых и темноволосых. Ему еще не было двадцати пяти, но жалкое существование, которое он влачил до сих пор, оставило свой след. С тех пор как умер отец, он жил один в самом дальнем углу лагеря, рядом с отхожими местами. Большинство его сверстников уже были женаты и растили детей, но он, казалось, решил остаться холостяком.
– Мне жаль, Сатен-кур, сестра Сатен, – ответил он наконец, стараясь избегать пристального взгляда янтарных глаз, – но моя работа вовсе не женская, там требуется определенная сила. Может быть, тебе стоит спросить в отделе упаковки, – добавил он.
– Но я сильная, – возразила она (язычок мило заколыхался в щелке между резцами) и расправила плечи, желая подчеркнуть, что она такая же высокая, как и он.
– Почему бы тебе не выйти за него замуж? Видишь, какие у него руки? Он будет работать за тебя, а ты будешь сидеть дома, – с издевкой сказала Фитиль, выплюнув очередную порцию лузги.
– Что ты говоришь, Ноэми-кур? – заикаясь, пробормотал Сероп, красный от стыда.
– Ты что, хочешь сказать, что она тебе не нравится? – съязвила Фитиль.
– Прекрати! – пригрозила ей Сатен, замахнувшись метлой.
Фитиль зашлась от смеха.
– Ты видишь? Да она же ерик зезог, драчунья, будет мужа бить, – завопила она, повернувшись к Серопу.
На улицу стали выходить соседи, с любопытством наблюдая за сценой. Сероп был готов провалиться сквозь землю.
А спустя пару месяцев он в сопровождении Луссиа-дуду, своей соседки, сидел у Розакур, пил кофе и просил, заикаясь, руки Сатен.
* * *
Фабрика «Марангопулос», где работал Сероп, была известной мануфактурой в Патрах. Говорили, что ее хозяин получил огромное состояние благодаря странному случаю, улыбке фортуны. В 1912 году торговое судно, груженное ценными французскими тканями, затонуло в порту. Ни один купец не захотел выкупить товар, опасаясь, что соленая вода могла его повредить. Единственным, кто рискнул, поторговавшись и купив всю партию за какие-то гроши, был молодой Марангопулос. Он тщательно промыл ткани и продал по высокой цене, получив таким образом возможность открыть свою первую маленькую текстильную фабрику.
Хитрость и решительность вкупе с любознательностью и новаторством привели Марангопулоса к успеху. В 1925 году он посетил текстильное предприятие под Болонией и, пораженный новой тогда технологией «летающий челнок», которая значительно упрощала все ткацкое производство, заказал около тридцати таких станков. «Думай о рабочих, – сказал он сыну, тогда еще ребенку, который постоянно сопровождал его в поездках по работе. – Теперь на каждом станке сможет работать один человек, и мы увеличим производительность».
Станки были погружены в Анконе и после почти трехдневного плавания по Адриатике прибыли в порт Патры.
Три кирпичных здания мануфактуры располагались по кругу, образуя дворик, в центре которого высилось столетнее оливковое дерево с мощным стволом и разросшимися ветвями. В перерывах рабочие рассаживались под сенью его серебряной кроны, сквозь которую просвечивали солнечные лучи. Чтобы попасть на фабрику, надо было пройти через железные ворота под пристальным взглядом охранника, который в своей конторке записывал имена и смены. Большинство рабочих были армянскими беженцами. Говорили, что Марангопулос испытывал особую симпатию к этому гонимому народу, ему почти братскому. Фабрика никогда не останавливалась, производя столовое и постельное белье, известное по всей стране. Непрекращающийся шум гребенок, бьющих по раме станка, был хорошо слышен снаружи, за десятки метров до фабрики. В конце каждой смены этот шум продолжал отзываться в головах рабочих всю дорогу домой, и даже после.
С течением времени фирма «Марангопулос» растеряла былые блеск и славу, в лучах которой прошли целые десятилетия. Новая текстильная промышленность выросла в нескольких километрах от порта: «Пераика-Патраика». Две крупных фирмы слились в одну и явили свету самую крупную и современную текстильную мануфактуру в стране. Станки по последнему слову техники были заказаны в Англии с благословения и при значительном финансовом участии Греческого Национального Банка. По сравнению с этим гигантом «Марангопулос» казалась старомодным пережитком. «Трудные времена!» – воскликнул сам Марангопулос в конце общего собрания со своими работниками.
Маленький Саак запыхался, прыгая, как заяц, по зеленым полям за городом. Иногда он останавливался, чтобы перевести дух, и высматривал дорогу к своей цели. Путь был недолгим, но ему нужно было спешить.
«Прошу тебя, постарайся как можно быстрее, – сказала ему Сатен, – сбегай на фабрику и позови моего мужа». Она стояла в дверях дома и едва держалась на ногах.
Добежав до фабричных ворот, мальчишка обратился к охраннику: «Мне нужно срочно поговорить с Серопом Газаряном!» Сероп вышел во двор и увидел Саака, сидевшего под оливковым деревом. Мальчик вскочил и побежал ему навстречу. «Господин Сероп, твоей жене плохо…» – пытался он перекричать шум работающих станков.
– Плохо?
– Да. – И мальчик сделал широкий жест руками на уровне живота. Из смущения и уважения он ни за что не заговорил бы открыто о родах и схватках беременной женщины.
Сероп бросился к воротам, но охранник задержал его и заставил снять белые перчатки, которые рабочие надевали, чтобы не запачкать белоснежные нити.
Отодвинув тяжелую портьеру, заменявшую в доме дверь, он нашел Сатен стоящей на четвереньках на кровати, сжимающей живот и стонущей от боли.
– Любимая… – прошептал он, наклонившись над ней.
Сатен была нагая, лишь накрыта простыней. На дворе был ноябрь, но осень в этом году стояла на редкость теплая. Молодая женщина попыталась улыбнуться.
– Я позвала тебя, потому что мне очень больно, – прошептала она, ласково погладив лицо мужа. На запястье звякнули золотые браслеты Розакур. Старая женщина скоропостижно скончалась несколькими месяцами ранее. С тех пор Сатен носила ее бурма не снимая.
– Я позову Луссиа-дуду? Ты думаешь, уже пора? – спросил Сероп, глядя на ее живот, который, казалось, вот-вот взорвется. Потом он заметил швейную машинку на столе, а рядом и на полу заготовки. – Зачем ты настояла, чтобы шить одной? Я же просил тебя не делать этого!
Сатен захрипела и упала на кровать. Сероп заметил, что простыни испачканы чем-то желтоватым, и, прикоснувшись к ним, почувствовал, что они еще теплые и влажные. Он выпрямился, не в силах скрыть испуг.
– Я сейчас, – сказал он и бросился к выходу.
Его сердце билось где-то в висках, в глазах стоял туман, он свернул направо и пошел быстрым шагом. Лагерь, в котором он провел большую часть жизни, показался ему теперь враждебным и холодным. Он быстро прошел мимо мальчишек, среди которых был и Саак, пинавших клубок шерсти, торопливо поприветствовал старого Легоса, удобно устроившегося в кресле и курящего свой наргиле́[9], отвернулся от старухи Фитиль, которая уже приподнялась со своей табуретки и раскрыла рот с застрявшей между зубов семечкой с намерением учинить ему очередной допрос.
Наконец он побежал, низко опустив голову, глядя на свои башмаки, которые носил уже много лет и продолжал латать. «Ты станешь отцом», – звучал в его голове голос, постепенно переходя от жалобного к кричащему. Его переполняли противоречивые чувства. Мысль о том, что у него будет сын, всегда радовала его, но теперь, когда ребенок должен был появиться на свет, страх и сомнения, справится ли он с этой непростой ролью, сковывали его.
Иногда он задумывался, по любви ли он женился или ему только казалось, что это любовь. Он попросил руки прекрасной Сатен, не будучи уверенным, что Розакур выдаст ее за него, необразованного бедняка, рано оставшегося сиротой, без проектов на будущее, да и без самого будущего. И он был удивлен, когда старая женщина встала и поздравила его и Луссиа-дуду, соседку, с которой он пришел.
Они поженились несколько месяцев спустя в церкви Ая-Варвары по армянскому обряду. Венчал их священник из церкви Сурб Акоп, приехавший специально по этому случаю из большой армянской общины Пирея[10]. На доллары, которые прислала Мириам, Сероп купил пару обручальных колец из червонного золота и внутри попросил выгравировать две буквы и дату: С. С. 1935.
Розакур угадала: Сатен еще не исполнилось шестнадцати.
– Почему ты женился на мне? – спросила Сатен в первую брачную ночь. Она лежала рядом с ним, нагая, после того как они занимались любовью.
– Потому что так было предначертано моей кисмет, судьбой.
Сатен насупилась, было очевидно, что она предпочла бы другой ответ.
– И потому, – продолжил Сероп, – что для меня ты всегда была самая красивая, и самая решительная, и самая умная. Я часто думал о тебе, но боялся, что ты не удостоишь меня даже взглядом.
Сатен засмеялась, и груди ее заколыхались. Капля крови испачкала простынь, неоспоримое доказательство ее девственности.
– А я думала, что ты хотел заткнуть рот старухе Фитиль!
– Нет.
– А как же сплетни про меня?
– У всех есть свои недостатки. Но я никогда не придавал значения тому, что говорят другие, – соврал он.
Сатен нежно погладила его плечо, и тогда он спросил ее в свою очередь:
– А почему ты согласилась выйти за меня?
– Потому что в тебе есть что-то детское, и это меня умиляет. Я хочу обнять тебя как мать, крепко обнять, успокоить и ободрить, что все будет хорошо, – прошептала она, глядя на него своими завораживающими янтарными очами. – И потом, мне хотелось иметь семью.
Сероп удивился ее мудрости и душевности, хотя она была на десять лет моложе его.
– Не стирай простынь. Повесь ее на улице, и чтобы было хорошо видно, – напомнил он чуть позже, вставая с кровати.
– Луссиа-дуду! – позвал он, обращаясь к бараку из заржавевших металлических листов. Сероп тяжело дышал и боролся с приступом тошноты, вызванным вонью из отхожих мест, смешанной с запахом жареного. Ему был хорошо знаком этот запах: Луссиа-дуду наверняка что-то стряпала. Он приблизился к окошку и заглянул внутрь. – Луссиа-дуду! – позвал он снова. Женщина стояла в нескольких метрах от него с вилкой в руке.
– А, сынок, я как раз жарю котлеты и за всем этим шипением не слышала, как ты подошел… – извинилась она и погасила конфорку. Подойдя к окну, она заметила страх в глазах Серопа. – Что, уже пора? – спросила она с сомнением.
Он кивнул.
– Прошу тебя, скорее, – взмолился он, нервным жестом теребя волосы.
Луссиа-дуду была женщиной неопределенного возраста. Когда ее спрашивали, сколько ей лет, она всегда отвечала: «Шестьдесят». Она была высокая и крепкая, с круглым лицом и выпученными глазами, типичными для людей с больной щитовидкой. Она прибыла вместе с другими беженцами в двадцать втором из Эрзерума[11], в Анатолии. И когда Сероп осиротел, она помогала ему пережить то нелегкое время.
Их бараки стояли рядом, и Луссиа-дуду стряпала для него, стирала одежду, коротала рядом с ним вечера, когда он болел, лечила его разными травами, в которых хорошо разбиралась. Говорили, что на старой родине она была медсестрой и даже любовницей известного хирурга, который, однако, так на ней и не женился. У него она научилась многому, а в особенности акушерству, и ее сильные и решительные руки помогли почти всем армянским детям, которые появились на свет в лагере. «Туркам на зло!» – неизменно восклицала она в конце каждых родов, памятуя жестокость, с которой они истребляли ее народ. Затем, осмотрев новорожденного, она слегка шлепала его по попке, чтобы он заплакал и наполнил воздухом маленькие легкие.
Первый в жизни вдох.
– Тужься, дочка, дыши и тужься…
Луссиа-дуду подложила две подушки под поясницу Сатен и прикрыла пах простыней, потому что мужьям не дозволялось видеть, как расширяется эта часть тела во время родов.
– Как ты себя чувствуешь, любимая? – спрашивал Сероп. Одной рукой он гладил ее разгоряченное и искаженное болезненной гримасой лицо, другой – погружал в тазик с прохладной водой платок и промакивал ей лоб, шепча нежные слова.
– Мега Асдвац, прости, Господи, я никогда не видела такого огромного живота, – бормотала себе под нос повитуха, пока осматривала Сатен и мяла ее живот книзу. – Тужься теперь! – приказала она. Стиснув зубы, повитуха время от времени засовывала пальцы между ног роженицы, которая стонала и тяжело дышала от боли. – Сероп, помоги ей согнуться еще…
Наконец-то головка ребенка, испачканная в крови и слизи, застенчиво выглянула наружу.
– Вот он! – радостно воскликнула повитуха.
– Где? – спросил Сероп, совершенно растерявшись.
– Ты смотри за женой! – прикрикнула на него Луссиа-дуду. – Бог мой, это чудный мальчик! – объявила она, вынимая ребенка.
Сатен приподнялась, улыбаясь и стараясь увидеть своего сына, но острая боль пронзила ее, и она снова откинулась на подушки. Она билась в руках Серопа и кричала, корчась от боли в паху.
– Держи ее скорее! – приказала повитуха Серопу.
Это был необычный случай. Луссиа-дуду видела на своем веку много родов и прекрасно знала, какой опасности подвергалась роженица и какие несчастия могли поразить семью.
– Она кровоточит, – прошептала себе под нос старуха. Затем слегка шлепнула ребенка, и тот сразу же закричал, как мать. – Хороший мальчик, – сказала повитуха и положила его на кровать.
Сероп наклонил голову и в первый раз посмотрел на сына. Сердце его забилось. Ребенок дрыгал ножками и кричал, раскрыв беззубый ротик, лицо его посинело от натуги, глаза были плотно закрыты. Прядь медно-красных волос прилипла к лобику. Он лежал рядом с Сатен, весь в крови, все еще связанный с нею пуповиной.
«Это мой сын», – подумал Сероп, и на глаза ему навернулись слезы. Повитуха заворчала, вытирая бедра неподвижно лежащей, будто в обмороке, Сатен.
– Что происходит? – спросил ее встревоженный Сероп, поняв по ее лихорадочным и взволнованным жестам – что-то не так.
Но Луссиа-дуду была слишком занята, чтобы ответить ему. Она продолжала ощупывать все еще вздутый и твердый живот Сатен. Наконец повитуха засунула руку во влагалище и осторожно исследовала его изнутри. Когда она подняла голову, лицо ее выражало изумление.
– Черт меня подери, там еще что-то есть! – заявила она, пронзив Серопа своими выпученными глазами.
– Что? – шепотом спросил Сероп.
– Еще один плут ждет своей очереди, – ответила повитуха, указав на живот роженицы.
В бараке лагеря беженцев новая жизнь пыталась вырваться на свет Божий.
– Еще один? – растерялся Сероп и непроизвольно посмотрел на Сатен, чтобы увидеть ее реакцию, но она неподвижно лежала, положив голову ему на плечо, потеряв сознание от ужасной боли.
– Приведи жену в чувство, – приказала ему Луссиа-дуду.
– Как?
– Пощечиной.
– Джерим, любовь моя, там еще второй ребенок, – прошептал Сероп, слегка похлопав ее по щеке.
Она пробормотала что-то невнятное.
– Нам надо спешить, – подгоняла его повитуха.
Сероп встряхнул жену за плечи. Сатен пришла в себя и сразу же начала стонать, пока муж увлажнял ей губы мокрым платком.
– Потерпи еще немного, – взмолился он.
Глядя на измученную жену, он чуть не плакал. Она была покрыта крупными каплями пота. Несмотря на то что Луссиа-дуду старалась промакивать кровь множеством тряпок, вся кровать была пропитана ею. Сатен была страшно бледна, но все внимание сейчас было уделено ребенку.
– Милая, ты меня слышишь? Нужно еще поднатужиться!
Луссиа-дуду начинала чувствовать усталость и нервничала из-за тяжелой ответственности, которая лежала на ней. Принять двойню – это была задача не из легких, для этого требовались сноровка и опыт куда более серьезные, чем для простых родов.
В прошлом это с ней случилось лишь однажды. Она сделала тогда все, что могла, потратив целый день, но, к сожалению, выжил лишь один ребенок. Мать с другим малышом спасти не удалось, хотя она боролась за их жизнь до конца. Она долго чувствовала себя виноватой в том, что случилось, некоторое время не выходила из дома и не принимала роды, несмотря на настойчивые просьбы семей. «Я этим больше не занимаюсь», – говорила она, когда просители стучались к ней в дверь. Но спустя несколько месяцев, выглянув из окна, она увидела пробегавших мимо детей, которым она помогла родиться.
– Привет, Луссиа-дуду! – радостно кричали ей дети.
Там были Бедрос и Луссарпи, Метеос и Агавни, и много других, больших и маленьких, и все они были ее детьми. Глядя на них, она почувствовала не только гордость, но и высокое патриотическое значение своего труда. «Я здесь, если вам еще нужна моя помощь», – сказала она одним весенним утром, появившись на пороге дома новой роженицы.
– Тужься теперь, – сказала она Сатен, придя в себя.
Молодая женщина, совершенно обессилевшая, дышала, не напрягая мышц.
– Помоги ей наклоняться, – крикнула повитуха Серопу, который сидел растерянный и ошеломленный, поняв наконец, какая опасность грозила его жене.
Луссиа-дуду засучила рукава и снова ввела руку во влагалище. Нащупала второго ребенка и обнаружила, что он был повернут ножками к выходу. Тогда она схватила их и тихонько потянула книзу. Сатен почувствовала острую боль и дико закричала.
– Встряхни ее, она не должна терять сознания, – приказала повитуха Серопу. – Второй ребенок сейчас родится! – К ней вернулись уверенность и спокойствие.
Показалась ступня крохотной ножки.
– Слава Богу! – воскликнула повитуха. – Теперь дай ей прикусить тряпку, засунь ее между зубов.
Затем одной рукой она раздвинула большие губы влагалища, а другой держала ножки и, поворачивая ребенка, тянула его на себя.
– Нет! – закричала Сатен, когда плечики ребенка застряли и надавили на стенки, расширяя выход.
В этот момент Луссиа-дуду заметила, что пуповина первенца обвернулась вокруг шейки второго ребенка и душила его. Ребенок был синюшного цвета, и под полуприкрытыми веками глазки, казалось, вываливались из орбит.
– Проклятье! – в сердцах выругалась повитуха. – Дай мне ножницы! – приказала она Серопу.
– Что происходит? – крикнула Сатен.
Сероп покачал головой.
– Сейчас, – сказала старая женщина, пытаясь распутать пуповину. Удавка уже почти затянула в своих витках маленькую жертву. Сероп оставил жену и вскочил на ноги. Он смотрел на руки повитухи и чувствовал, что теряет сознание в ужасе от того, что увидел.
– Что происходит? – спрашивала слабеющим голосом Сатен.
– Дай мне что-нибудь режущее, ради бога, что угодно! – крикнула ему Луссиа-дуду.
Сероп бросился к мойке, схватил нож и передал ей. Сатен попыталась сесть на кровати, чтобы понять, что происходит.
– Не давай ей двигаться, Сероп! – приказала Луссиа-дуду и, сжав пуповину между пальцев, разрезала ее уверенными движениями в нескольких местах. Затем быстро и ловко стала распутывать узел вокруг горла новорожденного. Как только ей удалось высвободить его, она взяла ребенка за ноги и, подняв в воздух вниз головой, несколько раз шлепнула его по попке. Раз, два, три.
– Дыши, малыш, дыши! – призывала она сквозь сжатые зубы.
Вдруг ребенок заплакал, разбудив своим криком даже брата, заснувшего рядом с матерью. Сероп и Сатен обнялись со слезами на глазах.
– Назло туркам, два в одном! – радостно воскликнула повитуха, положив младенца рядом с братом.
Затем привычными жестами она продолжила свою работу, вытирая и отрезая, промокая и пеленая. Влажной салфеткой обмыла тельца младенцев, ручки, ножки, хорошенько обмыла личики, которые оказались поразительно схожи, и затем положила их рядом с молодой матерью, одного – справа, другого – слева.
– Храни вас Господь, – прошептала она, осенив чело каждого крестным знамением.
Новость о рождении близнецов была встречена в лагере по-разному и с противоречивыми комментариями. Кто-то радовался, что община пополнилась двумя здоровыми мальчиками, другие воротили нос, утверждая, что отец новорожденных не сможет прокормить еще два рта, были и такие, что удивлялись с кривой усмешкой мужеской силе тщедушного Серопа. Мало кто отпускал замечания в адрес Сатен, а если и отпускал, то только чтобы напомнить о приступах падучей, хотя они и остались в прошлом, побежденные чудом материнства.
– Кто бы мог подумать, что у этого Газаряна будет такая милая семья? – говорило большинство.
Малышам желали доброго пути в жизни и надарили кучу подарков, согласно традициям общины. Каждый из подарков был в двойном экземпляре: две баночки ароматного базилика, две пары носочков ручной вязки, два медовых пряника с корицей, две наволочки с одинаковыми вышитыми уточками и другие недорогие вещи, подаренные от всего сердца. Саак, мальчик-посыльный, принес букетик свежих полевых цветов.
Земляки передавали подарки матери, а Сероп разливал в стаканы мосхуди, знаменитое ахейское вино.
– Чтоб они росли здоровыми и сильными! – все весело поднимали тост.
Луссиа-дуду, повитуха и женщина, которая вырастила Серопа, принесла две золотых монеты, так называемые куруш Османской империи, которыми провела по ступням, ладоням, лбу и наконец в области сердца каждого из новорожденных.
– Золото там, где ходишь, золото – то, что трогаешь, золото – то, что думаешь, золото – тот, кого любишь, – произнесла она дрогнувшим от волнения голосом. Затем крепко обняла родителей, положив оба куруша в руку Сатен.
– Луссиа-дуду, ты вовсе не должна, – сказал Сероп.
– Мы не можем принять их, – запротестовала Сатен.
– У меня нет детей, но это мои внуки, – просто возразила она.
Фитиль зашла к ним как-то вечером с пустыми руками.
– Я женщина бедная и ничего не смогла принести, – оправдалась она.
– Добро пожаловать, – приветствовал ее Сероп.
– Я хочу пожелать вам всего самого лучшего, – добавила она, приблизившись к новорожденным, которые мирно спали в кровати.
Она присела рядом и погладила их с напускной нежностью под недоверчивым взглядом Сатен. Потом медленно взяла их ручки и тихонько приложилась к ним губами.
– Какие хорошенькие, – сказала она, поворачивая ручки ладошками вверх, чтобы прочитать судьбу малюток, как опытная хиромантка, каковой себя считала. – Нет! – вскрикнула она спустя несколько мгновений, чуть не разбудив близнецов.
Сатен вздрогнула.
– Над ними тяготеет проклятие, – объявила старуха, в ужасе прикрыв рот ладонью и выпустив ручки младенцев. – Вижу много боли, – предсказала она, как заправская Кассандра, сквозь длинные вьющиеся локоны, закрывавшие ее лицо.
– Что ты несешь! – вскочил Сероп со стаканом мосхуди в руке, который только что наполнил для нее.
Женщина уже почти выскользнула из дома, но он остановил ее на пороге.
– Отойди, – потребовала Фитиль.
Однако Сероп не тронулся с места, зло сверкнув глазами, пока Сатен, онемев, наблюдала за сценой.
– Ты, – начала Фитиль, тыча пальцем в Серопа, – ты змея, которая пожирает собственные яйца. – И она прожгла его взглядом ровно столько, сколько потребовалось, чтобы до него дошел смысл сказанного.
Сероп отступил, пошатнувшись, и она смогла выйти, но, прежде чем исчезнуть в темноте, разразилась грубым смехом. Это был грудной, злой смех, эхом отдававшийся в голове Сатен всю ночь.
Патры, 2 ноября 1937 года
Дорогая Мириам,
у меня все хорошо, и надеюсь, что у тебя тоже.
С огромной радостью сообщаю тебе о рождении моих детей.
Да, ты правильно прочитала, их двое. По воле Божьей в субботу, 22 октября, я стал отцом близнецов, двух мальчиков. Только ты можешь понять, как гордился бы твой дядя, если бы дожил до этого дня. Роды были сложные. Схватки у Сатен были очень болезненные, как ты себе можешь представить. Но дети чувствуют себя хорошо, и она тоже оправилась довольно быстро. Слава Богу. Как только дети немного подрастут, я отведу их к фотографу и пошлю тебе их портрет, чтобы ты смогла увидеть, какие они красивые.
С работой сложно – то есть, то нет. Ходят слухи, что на фабрике будут увольнения. Вчера я был на манифестации в защиту прав рабочих. Мысль, что я могу потерять работу, пугает меня, особенно теперь, когда надо растить мальчиков. Но Бог всемогущ и, надеюсь, защитит нас…
А как у тебя дела? Дай знать о себе. Я знаю, что ты очень занята, но получить от тебя письмо – это всегда большая радость для нас всех. Ах, почему, дорогая кузина, мы живем так далеко друг от друга? Надеюсь, что судьба позволит нам увидеться еще хоть раз в этой жизни. Я смутно помню тебя и твою улыбку и, чтобы освежить память, часто смотрю на фотографию с твоей свадьбы. Какие вы красивые, ты и Джерри! Передавай ему привет от нас.
Теперь я должен заканчивать, потому что дети проснулись. Сатен шлет тебе нежный привет.
До скорого, надеюсь.
Крепко обнимаю, твой кузен Сероп.
Рождение близнецов полностью изменило привычные будни Сатен и Серопа. Дети постоянно плакали, будто просили что-то, а что – родители не могли угадать. Но радость от двойного чуда, ниспосланного с Небес вместо одного, была такой сильной, что компенсировала любые жертвы и неудобства.
Лачуга Газарянов неожиданно наполнилась. В ней не было ни одного свободного угла. На кровати хранилось огромное количество вещей, да и сама кровать теперь выполняла несколько функций. Сероп смастерил люльку из досок, но она была рассчитана на одного ребенка, двоим в ней было тесно. Тем не менее дети с самого начала дали понять, что не позволят никому разделить их. Как только мать брала одного из них на руки, тут же оба начинали отчаянно плакать, заставляя ее положить младенца обратно, рядом с братом. И только снова почувствовав близость, ручку одного на животике другого, носик, упирающийся в щечку, ножку, застрявшую между ножек брата, они успокаивались и с самыми милыми улыбками снова засыпали.
– Кто из них первый? – спросил однажды Сероп, которому никак не удавалось различать близнецов. Он только что вернулся с ночной смены и, не переодеваясь, сел рядом с Сатен на кровать, глядя на спящих детей.
– Тот, у которого губы тоньше, – ответила она.
– Этот?
– Да нет же, другой!
– Мы должны дать им имена.
– Ты все равно не сможешь узнать, кто первый, а кто второй, – сказала жена, посмеиваясь.
– Метки какие-нибудь придумаю, справлюсь.
– Хорошо, какие имена?
– Первого мы назовем Торос-ага в честь моего отца.
– А второго?
– В честь твоего.
Сатен с сомнением покачала головой:
– Не подойдет, мы должны дать им такие имена, которые отражали бы их особенность.
– То есть?
– Ну, что они родились вместе, что похожи как две капли воды.
– И где же мы найдем такие имена?
Сатен вздохнула:
– Не знаю таких два имени, чтобы, зовя одного, не мог бы не думать о другом.
– Что-то очень сложно… – проворчал Сероп, поднимаясь.
Она проводила его взглядом. Ей показалось, что он еще больше похудел, плечи еще больше согнулись, лицо постарело. Вот уже несколько дней дети не давали ему спать, а Серопу очень нужно было отдохнуть после тяжелой работы на фабрике.
– Будешь суп? – спросила она, вставая с постели.
Один из мальчиков проснулся и заплакал, тут же за ним последовал и второй. Мать закатила глаза к небу, смирившись, и посмотрела на мужа, который уже сидел за столом, ожидая ее.
– Кажется, подошло время кормления, – сказала она и снова села на кровать.
Он только покорно проворчал что-то себе под нос.
Сатен высвободила груди и, взяв близнецов, приложила их к соскам.
– Мои ангелочки, – прошептала она.
Сероп отвел взгляд, засмущавшись от вида обнаженной груди жены, но в то же время его тронула эта сцена материнства в самом естественном ее проявлении. Сатен, как львица, неприкосновенная и гордая, со своими детенышами, прильнувшими к сосцам. И вся комната наполнилась нежностью и любовью.
– Придумала! – вдруг воскликнула она с довольной улыбкой.
Сероп поднял голову и вопросительно посмотрел на нее.
– Имена, я придумала имена!
Сероп все еще удивленно смотрел на нее и медленно жевал кусок хлеба.
– Одного мы назовем Микаэль, – сказала Сатен, наклоняя голову направо, – а другого – Габриэль, – добавила она, показывая на ребенка слева.
Муж остался безучастен к этому заявлению и лишь слегка приподнял брови.
Сатен нахмурилась.
– Тебе не нравится? Это имена двух архангелов, – обиделась она.
Он покачал головой, собирая пальцами крошки со стола.
– Да-да. Зови как хочешь, все равно их не покрестят, пока год не пройдет, – ответил он, думая о расходах на крестины. Потом резко встал и, отдернув портьеры, вышел из дома.
– Садитесь, господин Газарян.
Сероп поискал глазами стул. В кабинете господина Марангопулоса, куда его неожиданно вызвали, был только один свободный стул напротив письменного стола из красного дерева.
– Вы говорите по-гречески, полагаю, – начал Марангопулос.
– Я практически вырос в Патрах, – ответил Сероп, уставившись на его двубортный костюм в мелкую полоску.
– Отлично. – Хозяин поднес руку к лицу и приложил пальцы к губам с задумчивым видом, будто собирался начать серьезный разговор.
Он был уже немолод, высок и худ, с изнуренным лицом, и, если бы не дорогой костюм, никто бы не подумал, что это самый богатый человек города.
– Я знаю о твоих семейных делах, о рождении близнецов, о том, как тяжело поднимать их, и все остальное. Но запомни: я не позволю, чтобы это стало оправданием твоей халатности на работе, – сказал он, барабаня по столу пальцами, унизанными перстнями, один из которых был украшен крупным сапфиром.
Сероп густо покраснел.
– Твой начальник цеха доложил, что ты опаздываешь на работу и, что еще хуже, спишь тайком. Он застал тебя однажды. Это правда?
– Это… это… я… – начал, заикаясь, Сероп.
– Что «это»?
– Это случилось только один раз, – наконец выдавил он.
Марангопулос вздохнул.
– И одного раза хватило бы, чтобы уволить тебя. Но я великодушен и дам тебе еще один шанс. Но будь уверен, это первый и последний раз, – произнес он и театральным жестом дал понять, что аудиенция закончена.
Сероп встал и попятился к двери, чтобы не поворачиваться к хозяину спиной.
– Газарян! – окликнул его последний, когда тот уже открывал дверь.
У Серопа похолодело внутри.
– Чуть не забыл, – произнес Марангопулос и положил на стол две монетки, которых не хватило бы даже купить хлеба на неделю, – это наш подарок твоим детям.
Сероп вернулся с опущенной головой, робко, почти испуганно протянул руку и уже взял было монетки, когда ладонь хозяина упала на его руку, пригвоздив ее к столу.
– Я делаю это не из симпатии и не из жалости, – сказал он, кивая в сторону медяков, – а чисто из чувства долга, – закончил старик, прищемив Серопу мизинец перстнем с сапфиром.
– Спасибо, – прошептал тот, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от боли.
Сатен устроила себе маленькую паузу и сидела напротив Луссиа-дуду, потягивая кофе и наслаждаясь кусочком печенья. Повитуха зашла к ней, по обыкновению. Она была одной из немногих женщин, которые помогали Сатен, и всякий раз приносила что-нибудь полезное для семьи: немного хлеба, сыра, свои котлеты и даже печенье. И тот день не был исключением. Сначала Сатен покормила малышей, потом подогрела воду, и они искупали близнецов в металлической раковине. Затем насухо вытерли их, высушивая полотенцем рыжие волосики, одели в ползунки и, спев любимые колыбельные, уложили в постель. Одного рядом с другим, как всегда.
Сатен должна была еще прибраться в доме, приготовить ужин и постирать белье. Луссиа-дуду обещала помочь ей, если сначала они выпьют по чашечке кофе.
– Хорошо ли ты ешь, милая? – спросила повитуха с искренним беспокойством, заметив, как Сатен похудела после родов. – Ты должна хорошо питаться, а то молоко обеднеет и совсем пропадет.
– Да, я стараюсь, но чувствую какую-то слабость.
– Прошло совсем мало времени. Вот увидишь, скоро станет лучше.
Сатен поставила чашку на стол.
– Я хотела тебя спросить, но стесняюсь… – потупилась она.
– Детка, со мной можешь говорить спокойно, ты же знаешь…
Девушка заерзала на кровати.
– Речь о моем муже. Он настаивает, чтобы мы занимались любовью, а я… – И она замолчала, покраснев от смущения.
Подруга молча слушала ее, дуя на горячий кофе.
– Знаешь, пока малыши спят с нами, но сейчас он мастерит двойную кроватку и поставит ее там, – показала Сатен на свободное место между кроватью и глиняной стеной. – Вчера вечером мы поругались, он говорит, что с тех пор, как родились близнецы, я на него больше не смотрю.
– Какой поганец! – воскликнула Луссиа-дуду, как возмущенная мать, которая выслушивает жалобы своей дочери на мужа.
– Ты же знаешь, каких сил и боли мне стоило родить этих двоих, – добавила Сатен, ласково поглядев на близнецов. – В последний раз, когда он попробовал, мне было очень больно, но я все снесла и не протестовала…
Повитуха покачала головой, всем своим видом показывая, как она солидарна с подругой.
– Я очень люблю его, – продолжила молодая женщина, – и понимаю, как он устает на фабрике, и с тапочками, и вообще. Я не хотела бы отказывать ему в том немногом, что жена может подарить мужу, – пожаловалась она.
Луссиа-дуду взяла ее руку и приложила к сердцу.
– Ты молода, но Бог наградил тебя доброй душой и мудростью. Не падай духом. Когда вы будете в постели, – зашептала она с видом человека, поверяющего большой секрет, – старайся быть с ним рядом… но по-другому. Рассказывай ему о твоих мечтах, твоих фантазиях, о том, что тебе хотелось бы с ним делать. Заворожи его, шепча на ухо ласковые и нежные слова. «То самое» – не самое важное, оно вообще перестает быть важным, если между супругами нет взаимопонимания.
Янтарные глаза Сатен вновь засветились.
– А пока, – продолжила повитуха, – я приготовлю тебе мазь, которую будешь наносить туда до тех пор, пока все не станет, как прежде. Это произойдет совсем скоро, вот увидишь, – заговорщически улыбнулась она.
– Ах, моя дорогая Луссиа-дуду, я искала тебя на небесах, но нашла на земле! – воскликнула Сатен, крепко обнимая ее в порыве искренней благодарности.
* * *
– Мой маленький паша, – сюсюкал Сероп, наклоняясь над ребенком и целуя его в животик.
Малыш засмеялся, открыв беззубый ротик, полный слюны и остатков молока. Рядом с ним брат уставился на отца, словно ожидая тех же ласк и для себя.
– Это кто? – спросил Сероп, показывая на него пальцем.
– Габриэль.
– Тот, что родился первым?
Жена покачала головой и улыбнулась. Ее забавляло, что муж до сих пор не различает близнецов. Конечно, они были совершенно одинаковые, по крайней мере физически, но Сатен различала в них те крохотные детали, те незначительные особенности, которые, наверное, только мать могла заметить: чуть другая гримаса плачущего малыша, лишняя диссонирующая нотка в смехе, более длинный волосок в брови.
Сероп выпрямился, подошел к столу и открыл ящичек.
– Что ты делаешь? Малыш обиделся и сейчас заплачет, – упрекнула его жена.
– Сейчас вернусь, – ответил он, копаясь в алюминиевой банке, где хранились цветные тесемки для сшивания тапочек. Затем он приблизился к детям, держа в руке две катушки. – Красная – для Микаэля, зеленая – для Габриэля, или как там мы их окрестим в конце концов! – радостно произнес он.
Затем он оторвал по кусочку от каждой катушки, взял ручку одного ребенка и пару раз обвернул тесьму вокруг запястья, затем завязал узелок, наклонился и откусил лишний хвостик. Малыш улыбнулся, явно радуясь новой игре, которую придумал папа.
– Вот так! – сказал Сероп и сделал то же самое с ручкой второго младенца.
– По-твоему, это нормально? – Сатен собралась было возражать, но кто-то позвал ее снаружи.
– Кто там? – спросил Сероп, дав знак жене замолчать.
– Почтальон.
Сероп, отодвинув портьеру, выглянул наружу.
Юноша в форме держал в одной руке коричневую коробку, а другой махнул в знак приветствия.
– Это вы господин Сероп Газарян?
– Да, – прохрипел Сероп, у которого перехватило дыхание от удивления.
– Вам пакет из Америки, господин.
Сероп взял коробку, но почтальон остановил его:
– Минутку, господин. Сначала распишитесь.
– Тогда заходи, а то холодно, – пригласил его Сероп. – Выпей мосхуди, согрейся, – добавил он, наливая в стакан, не дожидаясь ответа.
– Какие красивые малыши, – сказал почтальон, поднимая стакан в знак тоста.
Как только он ушел, муж и жена нетерпеливо развернули пакет довольно внушительных размеров. Когда они открыли его, комнату наполнил чудесный аромат, напоминавший смесь ванилина и шоколада. Сероп глянул на улыбающуюся Сатен, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Тогда он начал вынимать содержимое коробки и складывать все на столе. Сначала появились два элегантных и теплых пальтишка из синей и коричневой шерстяной ткани, потом пара махровых ползунков разного цвета, затем, в тонкой оберточной бумаге, две стопки микроскопического нижнего белья из тончайшего хлопка, на каждого брата. Но это было еще не все, потому что в коробке также лежала шкатулка, обтянутая красным бархатом, с надписью: «Barney’s deluxe chocolates»[12].
Сероп слегка встряхнул ее, и из глубины шкатулки донесся глухой звук.
– Ах, какой запах! – прошептала Сатен, завороженно глядя на шкатулку.
– Подожди, тут еще что-то есть! – воскликнул Сероп, вынимая две банки сгущенного молока и две коробки яичного порошка. Затем он провел рукой по дну коробки, думая, что она уже пуста, но нащупал книгу. – The Daring Young Man on the Flying Trapeze, – прочел он, неправильно произнося слова, – by William Saroyan[13].
Он посмотрел на обложку, на ней был изображен контур мужчины, повисшего на трапеции, в полете. Сероп перелистал книгу несколько секунд, прежде чем положить на стол с явным разочарованием: он не понимал ни слова из текста.
Затем он перевернул коробку вверх дном и потряс. На детскую одежду, разложенную на столе, упал заклеенный конверт. «Для Серопа», – было написано на нем круглым красивым почерком. Он вскрыл его и стал читать письмо:
Пасадена, Лос-Анджелес, 7 декабря 1937 года
Дорогой Сероп,
мы с радостью узнали о рождении твоих детей! Джерри и я сердечно поздравляем тебя и твою жену.
Прошу тебя, прими эти скромные подарки в знак моей искренней привязанности к вам. Надеюсь, что они вам понравятся. Пальтишки я сшила специально побольше размером, чтобы мои манчук[14] могли надеть их еще будущей зимой.
Дорогой Сероп, ты найдешь в посылке книгу. Это писатель армянского происхождения, Уильям Сароян, его родители переехали в Америку много лет назад. Этот сборник его рассказов пользуется здесь огромным успехом, американцы высоко оценили его человечность и чуткость. Я искала англо-греческий словарь, чтобы положить вместе с книгой в посылку, но, к сожалению, пока не нашла. Надеюсь выслать со следующей посылкой. Мне очень хотелось бы, чтобы ты и твои дети выучили английский язык, он мог бы вам пригодиться.
Желаю, чтобы у тебя все было хорошо с работой. На твоем месте я бы осторожнее относилась к участию в собраниях рабочих, там могут быть доносчики, которые потом все передают хозяину.
На этом заканчиваю и поздравляю тебя и твою семью с Рождеством. Джерри говорит, что ему повезло, что он на мне женился, потому что так он может праздновать Рождество два раза, 25 декабря и 6 января, в день армянского Тзенунд[15].
Мне вас не хватает. Крепко обнимаю,
Мириам.
– Ой, а ведь и правда, почти Рождество, – сказала Сатен, будто только что очнулась от прекрасного сна.
– Да, любимая, – ответил Сероп, обнимая ее и целуя в нос. – С Рождеством!
2
Венеция, 1952 год
Большая группа молодых людей с высоко поднятыми головами энергично шла по мостовой. Она была похожа на темную змею или сороконожку, передвигавшую свои лапки с одинаковой скоростью и в одном и том же направлении. Поднималась на мостики и спускалась, уходила вперед и поворачивала в сторону, но ее форма оставалась неизменной. Никому не позволялось сбиться с шага, отвлечься.
– Мама, смотри! – Маленькая девочка удивленно показала пальчиком.
Мать остановилась. Молодые люди быстро обошли ее, мягко ступая.
– Эти армяне… – проворчала женщина себе под нос, разглядывая каждого, пока они проходили мимо.
Студенты шли колонной по двое. Напомаженные волосы блестели на вечернем солнце. Воротнички рубашек были кипенно-белыми, серые брюки безукоризненно отутюжены, со стрелкой. На бортах синих пиджаков отличного покроя красовалась золотая эмблема.
– Что там написано? – поинтересовалась девочка.
Женщина наклонилась и прямо посмотрела в ее зеленые глаза, нетерпеливо желающие все знать и понимать. А та улыбнулась, показывая молочные зубы и дырку от выпавших резцов.
– Это название их школы, детка, «Мурат-Рафаэль».
– Муратафаэль, Муратафаэль… – запела девочка.
Мать подняла голову и указала взглядом на монаха в начале колонны, который с трудом поспевал в ногу:
– Видишь падре, того, что в шляпе? Это один из их преподавателей.
Девочка наморщила носик, будто ей что-то не понравилось.
От ледяного порыва ветра зарябила водная гладь канала, окрасившись в цвет старинного серебра. Лодка заскрипела об опору, к которой была привязана. На севере край неба покрывался темными облаками.
Женщина поспешно поправила шарфик на шее у девочки.
– Все, теперь пойдем! – сказала она. – Скоро совсем стемнеет. – И потащила девочку прочь, взяв ее за руку.
– Бакунин!
Микаэль повернулся к товарищу, который звал его по прозвищу, полученному в колледже. Ему нравилось прозвище, потому что это было имя его любимого философа, и потом, он уже привык. В сущности, здесь у всех были прозвища. Например, парень, который его позвал, был известен как Азнавур, и, уж конечно, не из-за своего красивого голоса. Азнавур, при рождении Эмиль Мегоян, был сыном богатого владельца ресторана в Марселе. Сейчас они возвращались из кинотеатра в Санта-Маргерите, где обычно проводили воскресные вечера. Как всегда, их сопровождал отец Кешишьян, преподаватель языков и богословия. Он учил их армянскому, обязательному в колледже языку, а также итальянскому, английскому и французскому. Благодаря ему большая часть студентов хорошо изъяснялась на нескольких языках.
– Спорим, он вор, – зашептал Микаэлю Азнавур, кивая головой на Дика, их товарища, шедшего впереди.
Дик был долговязым юношей, мускулистым и проворным, как атлет. Он был сыном армянского промышленника из Детройта, впрочем, все они были армянами, отпрысками семей, желавших вырастить их в уважении к своим национальным традициям.
– Спорим? – настаивал Азнавур.
Микаэль скривил рот.
– Смотри, мы почти у цели! – тихо предупредил его друг.
В нескольких метрах впереди была лавка зеленщика с двумя выставленными снаружи лотками. Они были полны свежих фруктов и овощей, аккуратно разложенных и манящих. Студенты проходили мимо и уже почти миновали входную дверь в лавку, в глубине которой хозяин обслуживал клиента, когда Дик протянул руку, молниеносно схватил яблоко из корзинки и спрятал себе в карман.
– Ты видел? Я же тебе говорил, – зашептал Азнавур, толкая локтем в бок Микаэля.
Дикран-вор продолжал идти как ни в чем не бывало, сохраняя свое место в строю. Фыркнув, он откинул назад вечно падавшую на лоб прядь светлых волос, одернул пиджак, затем оглянулся и заговорщически подмигнул двум приятелям. Все произошло так быстро, что никто, кроме них, ничего не заметил.
– Ты дурак, – сказал Микаэль, краем глаза наблюдая за лавкой, не спохватился ли хозяин и не бежит ли за ними вслед.
– Fuck you, – ответил «вор» в своем любимом стиле. Он часто пользовался этим выражением, особенно когда не находил среди товарищей солидарности, на которую рассчитывал.
– На этот раз я тебя не буду покрывать, предупреждаю, – проворчал Азнавур. Высокий и коренастый, с лицом, испещренным прыщами, он отличался покладистым характером и лояльностью. Дик знал, что он никогда бы не выдал его.
Отец Кешишьян внезапно остановился. Его «антенны» уловили волнение в конце строя. Он пригрозил рукой, и все юноши опустили головы и продолжили путь, затаив дыхание.
– Я этого Дика убью, – прошипел Азнавур, когда они уже были в нескольких шагах от входной двери колледжа.
* * *
Колонна остановилась напротив внушительного здания в стиле барокко со строгим белесым фасадом под номером 2596 в Дорсодуро[16]. Под штукатуркой, сильно облупившейся в нижней части фасада, виднелись кирпичи блекло-розового цвета. Выходившие на улицу большие окна украшали мраморные карнизы и кованые фигурные решетки. Четыре колонны поддерживали центральный балкон, под которым на вывеске крупными буквами было написано: «Армянский колледж “Мурат-Рафаэль”». Главные ворота, выкрашенные в черный цвет, были почти всегда закрыты, за исключением особых случаев, и все обычно входили через запасной вход с левой стороны здания.
– Все здесь? – спросил, вздохнув, отец Кешишьян, проходя вдоль шеренги студентов и внимательно всматриваясь в их лица.
Он только что закончил считать, когда Дик достал из кармана яблоко и надкусил с таким громким хрустом, что воспитатель мгновенно повернулся в его сторону. Дик буквально окаменел с набитым ртом, спрятав руку с яблоком за спину. На колокольне церкви Кармини пробило пять ударов.
– Входите, – приказал воспитатель с мрачным лицом.
Студенты послушались. Молния осветила затянутое черными тучами небо. «Вор» замешкался, осмотрелся и попытался пройти последним. В этот момент Микаэль увидел, как он избавился от яблока, с удивительным проворством выбросив его в канал. Яблоко сначала скрылось под водой, но скоро появилось на поверхности и, подхваченное течением, поплыло, как лодочка, по гладкой поверхности канала, начинавшей рябить от первых крупных капель дождя.
– Покупаю гостиницу и два дома.
– Сто пятьдесят плюс… Ты мне должен двести тридцать тысяч долларов.
В общей гостиной студенты играли в «Монополию». Гостиная располагалась на первом этаже, сразу после холла, и окнами выходила в сад, усаженный розами. В центре зала стоял стол для игры в пинг-понг, а под окнами примостились широкие удобные диваны, хотя и немного потертые. Сбоку от входа стоял книжный шкаф из красного дерева, с полками, набитыми книгами на всех языках: религиозные монографии, учебники по истории, классические романы, томики поэзии, греческие трагедии, философские трактаты, архитектурные и географические журналы. Рядом с книжным шкафом стоял рояль. Микаэль иногда играл на нем, тщательно настроив. Стены украшало множество гравюр, на одних были виды Венеции девятнадцатого века, на других – сюжеты современной армянской истории – «славной армянской истории», как подчеркивали все время монахи.
– Эй, я тебя видел! – Керопе, тщедушный юноша с щетинистыми волосами, набросился на Дика-вора.
Отец Кешишьян посмотрел на них поверх своих очков для чтения.
– Да ты бредишь, приятель! – ответил Дик.
– Ты лгун, ты украл гостиницу! Да это и Бакунин видел, правда же, ты видел?
Юноша обратился к Микаэлю таким тоном, будто умолял его сказать правду.
Дик уставился на друга, пока тот не отвел взгляд.
– Ничего я не видел, – проворчал Микаэль.
Издевательская улыбочка скривила губы «вора». Керопе пнул его ногой в голень, но тот даже не обратил внимания.
– Тише, Волк идет!
Азнавур заметил, что отец Кешишьян поднялся со своего места и направился в их сторону. Волк – это прозвище дали ему студенты. Вполне оправданное, подходящее его проницательности, а точнее, безошибочному «нюху».
– Дик, что ты еще натворил? – спросил он невозмутимо.
– А что я-то, почему всегда я? – запротестовал юноша. У него здорово получалось притворяться, и те, кто его не знал, легко попадались и верили в его невинность. Он еще не закончил фразу, когда господин Беппе, привратник колледжа, появился на пороге зала.
– Отец Кешишьян, – громко позвал он, – тут один господин хочет вас видеть.
Волк обернулся, и приличного вида мужчина с седыми, аккуратно зачесанными волосами сделал шаг вперед. На нем был темно-зеленый фартук, завязанный на поясе, и он постоянно теребил его рукой, вероятно, из-за смущения и волнения. У него были мокрые башмаки и отвороты брюк. Волк удивленно уставился на него, спрашивая себя, какая нужда могла привести в колледж этого человека.
– Тот юноша, вон тот блондин, украл яблоко в моей лавке, – произнес мужчина спустя несколько секунд.
В первое мгновение отец Кешишьян хотел было заверить мужчину, что тот ошибся. Но зеленщик без тени сомнения указывал пальцем на Дика-вора.
– Сегодня вечером мяса не будет, как обычно по воскресеньям. Это мое наказание за то, что вы скрыли грехи вашего товарища Дикрана, – объявил директор, отец Айвазян. Это был пожилой человек с лицом, которое никогда ничего не выражало, в какой бы ситуации он ни оказался. – Теперь садитесь и помолимся.
Он подождал немного, пока студенты заняли свои места на лавках, и потом начал:
– Благословен Ты, Господь, Владыка Вселенной, питающий нас по доброте своей…
У него был хриплый голос с носовым звуком, который раскатистым эхом отскакивал от голых стен столовой. Молодые люди сосредоточились в почтительном благоговении. У них были мокрые волосы из-за проливного дождя, и кое-кто даже позволил себе чихнуть. Чтобы попасть в столовую, надо было пройти через двор, так что в плохую погоду легко было промокнуть.
– Аминь, – завершил молитву директор.
Он сделал пригласительный жест рукой, и три монашки начали обходить столы и разливать по глиняным плошкам картофельный суп. Острый запах жареного лука вызвал приступ тошноты у Микаэля, но он совладал с собой.
– Сестра Валентина, мне совсем чуть-чуть, – взмолился он, благодарно натянуто улыбнувшись.
Бормотание в зале покрыл звук колокольчика, это был сигнал к тишине.
Отец Сирапян по прозвищу Габиг, то есть обезьяна, названный так за густую волосатость, встал.
– Микаэль, пожалуйста, – сказал он, – сегодня вечером твоя очередь читать нам отрывок из «Чистилища». – И подвинул вперед черный томик, лежавший перед ним. Во время ужина студенты должны были читать по очереди отрывок из специально выбранной для этого случая книги.
Микаэль на мгновение замешкался, потом встал и пошел к большому столу, за которым ужинали все девять монахов колледжа. Темные одежды, выделявшиеся на фоне белых стен зала, делали их похожими на летучих мышей или по крайней мере на создания из потустороннего мира. Азнавур глянул на Микаэля, когда тот перешагивал через лавку, и ему не понравилось угрюмое и неопределенное выражение лица друга. Он проводил его взглядом, пока тот шел по проходу, и заметил, что Микаэль немного пошатывается. Азнавур даже забеспокоился, чтобы тот вдруг не упал.
– Итак, – начал отец Сирапян, – мы выбрали псалом «Помилуй, Боже». Нам показалось это целесообразным после известных событий сегодняшнего вечера.
Микаэль хотел было сказать что-то в защиту Дика. Он хотел объяснить монаху, что тот и не думал красть, а только хотел показать ловкость, свои навыки почти состоявшегося фокусника. Словом, это было просто ребячество, а вовсе не настоящая кража. Но неподвижное лицо директора, его ленивый и отсутствующий взгляд заставили юношу изменить свое решение. Сидевший рядом Волк окинул своего ученика проницательным взглядом. Микаэль взял книгу и направился к винтовой лестнице, которая вела к деревянному амвону. Стараясь не потерять закладку, он поднялся и неопытным жестом положил книгу на пюпитр, хлопнув ею в унисон с разразившимся в этот момент за окнами громом.
Затем он откашлялся и начал читать:
– «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей…»
Суп в плошках остывал. Никто не осмеливался есть его из опаски. Только директор зачерпнул ложкой бульон и втянул его, не беспокоясь о сопровождавшем этот жест звуке.
– «По множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое…»
– Святые отцы!
Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Беппе, возбужденный больше обычного. Дождевые потоки стекали у него по щекам, и видно было, что он с усилием старается не закрыть глаза. Директор перестал есть и так и застыл с ложкой на полпути ко рту.
– Святые отцы, случилось что-то ужасное. Студента Дикрана нет… Он исчез, – заикаясь, проговорил привратник.
Молния осветила розовый сад, и Микаэль вздрогнул, но губы его продолжали двигаться самостоятельно, будто и не слушались его вовсе:
– «Ибо в беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мати моя…»
– Микаэль, прервись, – приказал ему директор, поднимаясь. – Господин Беппе, прошу вас, постарайтесь объяснить нам понятнее, что вы только что сказали, – обратился он к привратнику, силясь сохранять спокойствие.
В голове моей перемешались образы, такие реальные, что дух захватывает, и я знаю, что это симбиоз, который нас связывает. Это как если бы один глаз продолжал видеть обычные ежедневные сцены в колледже: накрытые столы в столовой, товарищей, сидящих за партами, классные доски с каракулями на латинском, тела отдыхающих студентов на железных кроватях в палатах. Словом, послушный и укрощенный глаз. А другой, взбунтовавшийся и почти шизофреничный, видит реальность, которой я не знаю и в которой никогда не мог бы жить. Мне очень страшно, я чувствую, что что-то ужасное должно произойти. Но я молчу, потому что, если заговорю, мне никто не поверит и как минимум сочтут сумасшедшим.
– Спускайся, разве ты не видишь, что все уже ушли? – вернул его к реальности Волк.
Микаэль несколько минут стоял не двигаясь у пюпитра, с устремленным куда-то в одну точку взглядом, бледный как полотно, но, услышав голос преподавателя, вздрогнул и опустил глаза.
Отец Кешишьян был очень встревожен его странным поведением.
Открытый замок висел на дужке в дверной петле. Кто знает, почему Дик оставил его там, прежде чем отправиться в свободный полет, может быть, чтобы напомнить всем, насколько он ловок и хитер, или просто как сувенир.
В тот вечер монахи решили закрыть парня в кладовке на третьем этаже. Только однажды она была использована для наказания студента, у которого под матрасом нашли порнографический журнал. Это была тесная комнатка, полная коробок с моющими средствами, и, как только закрывалась дверь, в ней наступала кромешная тьма.
– За что вы закрыли его здесь? – спросил полицейский директора.
– За плохое поведение.
Полицейский, пузатый и лысый, покачал головой и передвинул швабры и ведра, словно надеялся, что Дик спрятался за половыми тряпками.
Толпа молодых людей запрудила коридор, пока монахи с трудом старались сдерживать их и держать подальше от места расследования. Любопытство брало верх. Как Дику удалось так легко высвободиться?
– Вы утверждаете, что видели парня, когда тот сбегал, – обратился полицейский к привратнику.
Господин Беппе посмотрел на директора.
– Ну да, я видел его со спины из окна. Он бежал как сумасшедший под дождем к библиотеке. – И он указал в направлении здания, стоявшего за садовым мостиком. – Я даже позвал его. Я крикнул: «Микаэль!» – потому что думал, что это другой студент, на нем был зеленый френч Микаэля.
Отец Айвазян пошевелил губами, будто хотел что-то сказать, но промолчал.
Полицейский сделал привратнику знак, чтобы тот продолжал.
– Ну вот… Я решил пойти за ним и остановить его, но потом, проходя здесь, увидел, что дверь распахнута настежь, замок открыт, и я сразу понял, что это был Дикран. Тогда я стал искать его повсюду, дождь лил как из ведра, в общем, я добежал до нижней ограды, там, в глубине… – Наступило краткое молчание, за время которого каждый сделал свои выводы.
Затем полицейский попросил, чтобы его проводили на первый этаж. Отец Айвазян и Волк пошли впереди него к мраморной лестнице, и все трое спустились вниз в молчании и задумчивости. Проходя по Зеркальному залу, полицейский замедлил шаг и, подняв голову, восхищенно разглядывал потолок, украшенный фресками. Затем они вошли в узкий коридор без окон.
Директор остановился напротив двери.
– Это моя комната, – сказал он, взявшись за дверную ручку. – Замок был взломан.
Обстановка в комнате была скромная, но вполне достойная. Совсем мало мебели и кое-какие предметы: кровать у стены, два стула, шкаф, письменный стол, много книг. Окно выходило во дворик, на подоконнике стоял горшок с геранью.
Полицейский осмотрелся в комнате, затем остановил взгляд на открытой металлической коробке, которая лежала на кровати. Он приблизился и изучил ее содержимое, слегка двигая одним пальцем.
– Вы говорили, что здесь ничего не пропало, за исключением паспорта юноши и денег?
Правила колледжа предусматривали, что студенты по прибытии отдавали директору свои документы и деньги, которые имели при себе. Это был хороший способ отвадить от побегов.
– Сколько? – спросил полицейский.
– Семь тысяч двести лир, все деньги моих студентов, – ответил Айвазян.
Все трое еще на несколько минут задержались в комнате. Затем полицейский надел фуражку и сказал:
– Мы уже сообщили данные беглеца в портовое и железнодорожное управления. Но, к сожалению, как я уже говорил, никаких следов Дикрана Саме…
– Самуэляна. Нет необходимости напоминать вам, в каком состоянии мы все тут пребываем, господин инспектор, – сказал Айвазян. – Если у нас не будет новостей до завтрашнего утра, я должен буду поставить в известность родителей в Соединенных Штатах.
– Мы сделаем все от нас зависящее, – заверил его полицейский и удалился.
Директор повернулся к отцу Кешишьяну:
– Приведите Микаэля. Я уверен, что он что-то знает. И если не скажет, то горько пожалеет об этом.
– Можно мне немного воды? – Глаза Микаэля были красные и сонные.
Волк взял графин со стола и налил в стакан воды, заметив, как бледен юноша. Были дни вроде этого, когда он горько сожалел, что стал преподавателем.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
Юноша кивнул.
Отец Кешишьян и директор допрашивали Микаэля всю ночь, заставляя его многократно повторять одну и ту же историю. Юноша клялся, что ничего не знает о побеге, хотя и признался, что видел, как его товарищ украл яблоко.
– А как же быть с френчем? – язвительно спросил отец Айвазян.
Микаэль не смог этого объяснить и растерял всю свою уверенность, что в глазах директора было очевидным свидетельством его причастности к побегу Дика.
А бедный Микаэль просто терялся в догадках: зачем друг взял его френч? Может, надеялся, что тот принесет ему удачу, или в спешке схватил первое, что ему попалось под руку?
– Потрудись объяснить нам, почему ты сразу же не заявил о краже? – снова настаивал отец Айвазян. – Скажите, отец, я прав или нет? – добавил он, обращаясь к Волку за поддержкой.
– Да, ты должен был прийти ко мне, – согласился Волк, читая в глазах ученика глубокое раскаяние.
В этот момент резко зазвонил телефон, так что все вздрогнули от неожиданности. В квестуре[17] появились новые данные по делу, которые срочно требовалось сообщить директору лично. Айвазян накинул на плечи плащ с капюшоном и, ничего не объясняя, выбежал из кабинета.
Волк заметил, что Микаэля знобило, что он стал еще бледнее, точно вот-вот упадет в обморок.
– Отдохни немного, – сказал он, показывая жестом на кушетку с подлокотниками из вишневого дерева. – Ты сможешь подняться в палату, как только директор вернется, – заверил он юношу.
Молодой человек присел на диван, который совсем не показался ему удобным.
– Возьми это… – Отец Кешишьян протянул ему подушку от кресла.
Микаэль лег. Он был строен, хотя и не высок, у него была светлая кожа, большая редкость для армянина, и волосы с медным отливом, что придавало ему вид одара, чужака. Когда Волк увидел его впервые входящим в класс, то нашел, что юноша напоминает чем-то лорда Байрона, изображенного на литографии, хранившейся в библиотеке на острове Святого Лазаря. У него была прямая походка, приятный тембр голоса и хорошие манеры, что, несомненно, отвечало его социальному статусу. Несмотря на то что отец Кешишьян много лет работал с молодыми людьми и был хорошо знаком с их проблемами, он повторял себе, что в Микаэле было что-то необъяснимое. Казалось, что он ревностно скрывал свой внутренний мир, из которого лишь иногда проступало что-то крохотное или вовсе ничего.
Между тем юноша, изрядно вымотавшийся, заснул в обнимку с подушкой, но Волк заметил, что он весь покрылся испариной. Тогда он встал и приложил ладонь к его лбу. Микаэль даже не пошевелился.
Ты проснулся раньше обычного и, лежа в постели, прислушиваешься к звукам в доме.
Дыхание Микаэля сделалось учащенным. Лицо скривилось в гримасе, грудь вздымалась, пока он тяжело дышал.
Волк встревожился и слегка потряс его за плечи.
– Не трогайте меня, не трогайте меня! – закричал юноша, отмахиваясь вслепую.
3
Патры, 1938 год
В тот вечер Мартирос, так многие звали маклера, заглянул на мануфактуру. Он делал это всегда, когда приезжал в Патры. Крупный, видный мужчина, он всегда носил на голове криво сидевшую соломенную шляпу. На нем был элегантный коричневый костюм, белая рубашка из поплина и шейный платок. Широченные по тогдашней моде брюки перехватывал на поясе ремень, да так высоко, что они казались слишком короткими для его роста.
Сам из семьи армянских беженцев, он вырос в лагере вместе со всеми, но в один прекрасный день вдруг решил переехать в Афины, где судьба улыбнулась ему: он познакомился с влиятельными людьми, греками и армянами, и они помогли ему устроиться. Он занимался коммерцией, и каким бы ни был товар, для него это был лишь источник доходов. Злые языки утверждали, что он был замечен в сомнительных кругах и не гнушался темными делишками, хотя это не сочеталось с его респектабельной внешностью голливудского актера.
– Что ты здесь делаешь? – спросил его охранник, широко улыбаясь. Однажды Мартирос оказал ему услугу, достав пару шелковых чулок для его невесты.
– Пройдусь, поздороваюсь со всеми, – ответил тот, подмигнув сквозь дым сигареты, едва державшейся в уголке рта.
Он направился к оливковому дереву и, сев в тени, стал ждать, когда друг детства Сероп закончит смену. А пока продолжал болтать с охранником, повышая голос, чтобы перекричать шум работавших станков, и вызывая удивление своими рассказами о столичной жизни. Он прервался только один раз, чтобы поприветствовать старых знакомых – уставших и много испытавших рабочих, которые выходили из фабрики.
– Начальник, сигаретки не найдется? – спросил его один из них в надежде получить в подарок всю пачку.
– Ты похож на Рудольфо Валентино, – польстил другой, кинолюбитель, кивнув на отличного покроя костюм.
Наблюдая за убогостью этих людей, Мартирос мысленно возблагодарил Бога за то, что тот уготовил ему другую судьбу, куда лучшую. Если бы он остался в Патрах, то влачил бы теперь такое же существование. Но более всего его поразил внешний вид Серопа, как только он увидел друга, показавшегося на пороге фабрики. Они не виделись всего полгода, но за этот короткий срок тот сильно изменился. На нем было какое-то рванье: рубашка, хотя и аккуратно заштопанная, была сильно поношена и почти просвечивала от частых стирок, потертые и лоснящиеся брюки с видневшимися там и тут заплатами из другой ткани. Но вблизи было еще заметнее, как сильно постарел его друг. Все лицо его было испещрено морщинами, которые придавали ему вечно грустное выражение.
– Эй, что с тобой, стахановец? – Мартирос хлопнул друга по плечу, стараясь скрыть смущение.
Шутка удалась, и на лице Серопа появилось некое подобие улыбки.
– Пойдем, расскажу, – ответил он, с опаской озираясь вокруг.
Мужчины вышли за ворота и направились по пыльной дороге в город.
– Пойдем полями, – предложил Мартирос с детским энтузиазмом.
– Зачем?
– Так просто, чтобы вспомнить времена, когда мы были детьми.
Мальчишками они играли в полях подсолнечника, прятались в цветах, втягивали их сладковатый аромат, грызли несозревшие семечки, по вкусу напоминавшие молоко. А когда шел дождь, они срывали подсолнухи, чтобы прикрываться ими, как зонтиками.
Сероп засмеялся, глядя на узкие, двухцветные башмаки друга, выглядывавшие из-под элегантных брючин.
– Да, но тогда ты бегал босиком, – заметил он, прежде чем скрыться в густых зарослях.
– Какая разница, – ответил Мартирос, бросил окурок, придавил его каблуком и последовал за другом.
– Как дети? – спросил Мартирос, закуривая другую сигарету.
– Хорошо, – ответил Сероп, пожав плечами. – Но тот, что родился первым, прямо злой какой-то.
Приятель ухмыльнулся.
– Он всего лишь ребенок, чего ты?
– Ну и что с того? Факт остается фактом: брат его чистый ангел, а он – дьяволенок…
– Как тебе удается его отличать?
– У него на запястье красная тесемка, а у другого – зеленая, – ответил Сероп, насупившись.
Они шли среди высоких цветов, прокладывая себе дорогу руками, особенно Сероп, который был ниже ростом, – единственное черное пятно на желтом фоне.
– Эй, смотри, какая красота! – воскликнул Мартирос, обернувшись и придерживая рукой шляпу, чтобы ветер не унес ее.
Они дошли до вершины холма, откуда открывался чудесный вид. Солнце на закате, восхитительный огненный шар, едва касалось края моря, позолотив всю бухту. От раскаленной за день земли исходил радужный пар, а в нем дрожали и расплывались контуры всего вокруг. Подсолнухи, сами как маленькие солнца, повернулись к заходящей сфере, чтобы почтить ее последним приветствием сегодня.
– Считаю до двадцати, и его не станет…
Сероп удивленно уставился на друга.
– Солнца, егбаир, брат, – уточнил Мартирос. – Сегодня – это уже вчера, и знаешь, что я тебе скажу? – Он выдержал паузу, чтобы привлечь внимание друга. – Завтра будет другой день! – воскликнул он театральным голосом бывалого комедианта.
Сероп посмотрел на горизонт, и вдруг дрожь пробежала по всему его телу.
– Что с тобой? – спросил Мартирос, заметив этот легкий озноб.
– Давай вернемся, – пробормотал Сероп, отгоняя кружившего вокруг него комара и возвращаясь к прерванному пути.
– На работе что-то не так? – попробовал угадать друг, но не получил ответа. – Живан сказал, что ты хотел видеть меня, – настаивал Мартирос, упомянув общего знакомого, водителя грузовика, который возил товар с фабрики в Афины.
– Да.
– Чем я могу помочь тебе?
Сероп неожиданно остановился.
– На днях меня вызывал к себе начальник цеха. Сказал, что есть излишки рабочей силы и что…
– Что?
– Вероятно, с сентября, после отпусков, меня уволят.
Он произнес эту фразу как-то отрешенно, будто речь шла о чужом несчастье.
– Твоя жена знает?
– Нет.
– Что думаешь делать?
– Обращусь в профсоюз, там меня хорошо знают. Хозяевам это с рук не сойдет, – заявил Сероп уверенно, вырвав подсолнух с такой силой, будто хотел выместить всю накопившуюся злость на цветке. – Пришло время дать им понять раз и навсегда, что они должны уважать права трудящихся.
Мартирос приподнял брови, он никогда не слышал от друга таких речей.
– Надеюсь, ты не стал коммунистом?! – удивленно добавил он.
Сероп выбросил цветок и сменил тему:
– Знаешь, я ведь шью тапочки, мягкие кундуры. Красивые…
– Да, мне сказали.
– Помоги мне продать их.
Мартирос с сомнением посмотрел на него.
– Ты знаешь много людей в Афинах, повсюду, – добавил Сероп. – И я готов заплатить тебе процент…
Мартирос засмеялся.
– Что тут смешного?
– Нельзя разбогатеть, продавая тапочки, друг мой.
– А я и не хочу становиться богатым. – Сероп резко повернулся в сторону бухты и застал то самое мгновение, когда солнце окончательно утонуло в море. – Я хочу растить моих детей, – объяснил он просто, пока последний солнечный луч гас на его лице.
– Понимаю, – ответил маклер с уважением, – но сколько пар тебе надо продать в неделю? Нет, лучше так, сколько ты сможешь сшить за это время? Две, три?
Сероп неуверенно покачал головой.
– К сожалению, я не могу тебе помочь, но я дам тебе совет… – Мартирос далеко отбросил окурок. – Знаешь итальянский квартал?
– С другой стороны порта? В Сан-Дионисио?
– Да. Пойди туда и поговори с Капуто, у него большой обувной магазин. Итальянцы умеют ценить красивые вещи. Если твои тапочки понравятся Капуто, он хорошо заплатит тебе за них. Можешь сказать, что тебя прислал я.
– Капуто?
– Да.
Они уже подходили к городу.
– Куда ты теперь? – спросил Сероп, смахивая со лба капельки пота.
– Вернусь в Афины девятичасовым поездом.
Сероп кивнул.
– Возьми, вытри их, – сказал он, протягивая платок и указывая на башмаки.
– А, спасибо. – Мартирос наклонился и вытер кончики башмаков, испачканные в глине. – Ладно, – завершил он. – Пойду здесь, так быстрее.
– До скорого.
– Если тебе что-то понадобится…
– Конечно…
Мартирос чуть приподнял поля своей шляпы и повернулся к огням, сверкавшим в полумраке. Сероп стоял, глядя, как тот исчезает среди узких немощеных городских улочек. Он подумал: «Какое, должно быть, счастье иметь возможность сесть в поезд и уехать куда-нибудь подальше от ежедневных забот».
«А если я не вернусь домой?» – спросил он себя, когда первая вечерняя звезда показалась на небе.
– Я тебя ждала, – сказала Сатен с ноткой упрека и повышая голос, чтобы перекрыть шум в комнате.
Сероп только что отодвинул портьеру в свою лачугу и чуть не оглох от крика детей. Сидя на кровати, его жена тщетно пыталась успокоить одного из близнецов, который громко и безутешно плакал, пока Луссиа-дуду занималась другим сорванцом, который резко и раздраженно протестовал.
– Что тут случилось? – спросил Сероп, приближаясь.
– От тебя пахнет мосхуди, ты пил? – Сатен помахала перед носом рукой, чтобы развеять неприятный запах.
– Что случилось? – повторил он, повысив голос.
– Да так, детские стычки, – вмешалась повитуха. – Один сделал больно другому, – добавила она, стараясь смягчить ситуацию.
– Кто?
Обе женщины выразительно посмотрели друг на друга.
– Микаэль, – ответила Луссиа-дуду, показав на ребенка, которого держала за руку. Сероп заметил красную тесемку на запястье.
– Что еще он натворил?
– Он уколол своего брата иглой, – ответила Сатен с напускным равнодушием.
– Иглой?
– Да, я сшивала носки тапочек… – Она кивнула в сторону швейной машинки на столе.
– Ты все время упрямо пытаешься работать одна! – закричал Сероп, покрывая крики детей.
Сатен вздрогнула от испуга.
– Это была моя идея. Я хотела помочь ей, – скромно вступилась Луссиа-дуду.
– Молчи! Замолчите все!
Впервые в жизни Сероп позволил себе неуважительно отнестись к той, что вырастила и воспитала его. Он был вне себя. В порыве ярости он вырвал Микаэля из рук повитухи и поднял его в воздух, сильно встряхнув пару раз.
– Ты злой! Злой! – кричал он с выпученными глазами, не замечая, что бельевая веревка, натянутая через всю комнату, оказалась под подбородком ребенка, пока он тряс его.
– Ты задушишь его! – вскрикнула испуганно Сатен и соскочила с кровати, бросив другого малыша.
– Не двигайся, женщина, – остановил ее Сероп, оттолкнув.
– Силы небесные, прекратите вы оба! – вмешалась Луссиа-дуду. – Стыдитесь! – Затем без лишних слов взяла свою хозяйственную сумку из пеньковой веревки, ту самую, которую обычно наполняла продуктами для них всех, и ушла.
Дети наконец-то уснули в люльке. Сатен и Сероп лежали в кровати, уставившись в жестяной потолок.
– Прости меня за сегодняшнее, – прошептала Сатен.
Сероп фыркнул.
– Ты много работаешь, и нервы у тебя на пределе… – добавила она, повернувшись к мужу, который упорно молчал. – Почему ты не разговариваешь со мной? Я твоя жена, ты должен полагаться на меня…
Сероп подавил смех.
– Что ж, если тебе так этого хочется, я поговорю с тобой. Посмотрим, можешь ли ты мне помочь…
Сатен вытянулась в кровати с довольным видом, поправила на плече лямочку от ночной сорочки и сложила руки на животе, готовая слушать.
– Меня уволили. Что ты думаешь теперь делать? – неожиданно с вызовом выдал Сероп, приподнявшись на локте и приблизив почти вплотную свое лицо к лицу жены. – Так что? Послушаем! – жестко произнес он.
Сатен онемела от растерянности и удивления.
– Это все, что ты можешь мне сказать? – произнес он с издевкой, взяв ее за руку, будто хотел встряхнуть от оцепенения. – И знаешь, по чьей вине? – Он повысил голос. – Вот его, Микаэля, он приносит несчастья.
Сатен покачала головой, сначала медленно, потом все сильнее, как в эпилептическом припадке.
– Вчера утром, когда меня выставили за дверь, он разбудил меня. И даже поцарапал руку… видишь? – говорил он все более возбужденно, показывая жене красный след на руке, не обращая внимания на боль, которую ей причиняли его слова.
– Прошу тебя, – взмолилась Сатен, едва сдерживая рыдания.
Сероп был необразован, склонен к суеверию, к поверьям, устоявшимся среди таких же малограмотных бедняков, как и он, выросших в нищете.
С самых родов, когда он с ужасом увидел, как пуповина Микаэля душит второго близнеца, он уверился в том, что этот ребенок – зло во плоти и принесет только несчастья, будто малыш делал это специально. С тех пор его уверенность усилилась не без помощи некоторых банальных совпадений, которые Сероп расценил как зловредное влияние ребенка на судьбу семьи.
И все-таки он никогда не говорил об этом жене так открыто. Сатен была подавлена, потрясена, и Сероп, как только прошли первые мгновения ярости, понял, что зашел слишком далеко. Ему было больно видеть жену в таком состоянии, он всегда старался защищать ее, заботиться о ней.
– Перестань, прошу тебя. Я погорячился. Найду другую работу, – сказал он, стараясь успокоить ее, но она продолжала всхлипывать, уткнувшись в подушку.
Он погладил ее длинные волосы, разметавшиеся по грубой льняной наволочке.
– Не плачь, – прошептал он.
Сатен вздрогнула, и он прижался к ней, охваченный неожиданным и страстным желанием. Несколько недель из-за тяжелых рабочих смен он не прикасался к ней.
«Люби твою жену, как нежный и редкий цветок…» – Совет, данный покойным отцом, эхом пронесся в его голове. Тщетно.
Он грубо подмял ее под себя, задрал сорочку и, держа за плечи, овладел ею с первого же раза, легко скользя благодаря испарине, которой покрылось ее тело.
– Нет!.. – застонала Сатен, поддавшись этому непривычному жесткому натиску, но в то же время испытав удовольствие.
– Скажи, что любишь меня, – потребовал Сероп.
Она молчала, не двигаясь под грузом его тела.
– Скажи, что любишь, – настаивал он.
Ничего.
Сероп отстранился от нее, давая понять, что не намерен продолжать, если прежде она не заверит его в своих чувствах. Он подождал несколько секунд и затем, так и не получив ответа, повернул ее на бок, лицом к себе. В темноте он увидел ее глаза, два янтаря, сиявшие как никогда.
– Так ты любишь меня? – спросил он снова, но на этот раз умоляюще.
– Я не могу любить тебя, если…
Сатен не закончила фразу, потому что Сероп прижал ее к себе и стал целовать с безудержной страстью. Он нежно кусал ее язык, губы, затем раздвинул ее ноги, поднял их и положил себе на плечи. Запах женщины опьянил его, ошеломил. Он слегка дотронулся до ее влажной кожи и, не сдержавшись, наклонился, чтобы «вкусить» запретный плод, а она изогнулась, вздрагивая от наслаждения.
Она первой услышала слегка свистящее дыхание. Повернув голову, она различила в темноте контур одного из детей. Он стоял в люльке, держась за край, и смотрел на нее, не двигаясь.
– Господи помилуй! – воскликнула она.
Оттолкнув от себя мужа, она бросилась на кровать, схватила влажную и мятую простынь и завернулась в нее.
– Что случилось? – запротестовал Сероп, сбитый с толку.
Он вытирал с губ капельки наслаждения Сатен, когда заметил краем глаза ручку с красной тесемкой на запястье.
Патры, 27 июля 1938 года
Дорогая Мириам!
У нас все хорошо, надеюсь, что и у вас тоже.
Наконец-то мне удалось сделать семейную фотографию. Видишь, какими славными стали дети? Все говорят, что они похожи на меня. На стуле сидит Сатен, у нее такой красивый цвет глаз, но здесь не видно. Разумеется, мужчина за ее плечами – это я. Я одолжил костюм и шляпу у друга.
Спасибо за пять долларов, что ты нам прислала с последним письмом, ты нас балуешь. К сожалению, у нас не получится отметить крестины детей этим летом. Мне бы хотелось устроить праздник, ты же знаешь, как важна для нас эта традиция, но нам не хватает для этого денег. С работой совсем плохо, меня уволили. Чем буду заниматься? Пока не знаю.
Благодарю тебя за твое приглашение приехать в Америку, но, дорогая моя кузина, меня это пугает. Я не говорю на языке и никого не знаю, даже тебя, в том смысле, что я тебя очень давно не видел. Помню, как тяжело было привыкать здесь, в Греции, учить язык, заводить знакомства… Думаю, если мне придется ехать куда-нибудь, то только чтобы вернуться на родину, в родную Армению. В страну моих прадедов, где все говорят на моем языке, молятся теми же молитвами и понимают меня прежде, чем я заговорю. Слышал, что сейчас, когда она стала частью Советского Союза, там живут хорошо, там равенство, там нет больше ни хозяев, ни батраков. Все вместе строят лучшее будущее, говорят. Может быть, мне надо было уехать уже в тридцать шестом, с караваном остальных беженцев. Но я надеюсь на Бога и терпеливо жду.
С наилучшими пожеланиями тебе и твоему дорогому мужу.
Еще раз спасибо,
твой кузен Сероп.
P. S. Сатен и дети шлют тебе множество поцелуев.
Молодая женщина, постучавшаяся в дом к Газарянам, привлекла внимание Фитиля с вечно застрявшей между зубов семечкой. Женщина была стройная, одета по-европейски, утонченно, даже изысканно. Она подождала некоторое время, но, не получив ответа, отодвинула портьеру.
– Госпожа Газарян? – позвала она с легким иностранным акцентом.
Фитиль нагнулась вперед насколько могла, но так больше ничего и не услышала, потому что, как только появилась Сатен, незнакомка заговорила с ней очень тихо. Обе женщины задержались лишь на несколько мгновений на пороге, а потом Сатен пригласила незнакомку войти в лачугу.
– Присаживайся, Лузинэ, – пригласила хозяйка дома, указывая на единственный стул.
– Люси, – уточнила гостья. Она смущенно улыбнулась, быстро осмотрелась вокруг и села, разгладив одной рукой свое шелковое платье.
– Как видишь, у нас тут не так много места, и, к счастью, ты пришла в тихий час! – сказала Сатен, указывая на люльку.
Люси вскочила.
– Да они близнецы? – спросила она, сделав шаг вперед.
Дети спали в обнимку, один из них положил ножку поверх ножки братца, будто хотел зацепиться за него, вернуться в те времена, когда они были неразлучны в утробе матери.
– Какие красивые! – восхищенно воскликнула девушка.
– Спасибо.
– Сколько им месяцев?
– Восемь… Хочешь? Их только что собрали. – Сатен подвинула ближе стоявшую на столе тарелку со свежим инжиром.
– Сейчас нет, спасибо. Может быть, позже.
– Ты сказала, что твои родители знали Розакур?
– Моя мама ходила вместе с ней в школу в Адапазары.
– Но ты родилась в Лондоне?
– Да, мои родители познакомились и поженились в Англии.
Сатен покачала головой, не понимая причины этого неожиданного визита.
– Понимаете, – продолжила Люси, заметив ее сомнение, – я должна получить новое назначение в вашем городе. АБС[18], Армянский благотворительный союз, основанный в Соединенных Штатах, предложил мне место преподавателя в Патрах, начиная с сентября. Вы слышали, наверное, о средствах, выделенных на расширение школы в коммуне?
Сатен отрицательно покачала головой.
– Я уже несколько месяцев как почти никого не вижу и практически не выхожу из дома, – пояснила она. – Когда моя приемная мать преподавала, она мне все рассказывала. Она была высокообразованная женщина. – В ее тоне слышалась гордость.
Комок подкатил к горлу Сатен, когда она заговорила о Розакур. С тех пор как она сама стала матерью и узнала не понаслышке, как тяжело воспитывать детей, она часто вспоминала женщину, которая пригрела ее и вырастила с любовью и заботой, как настоящая мать.
– Видишь? – добавила она, показывая на украшения, которые носила на запястье. – Это ее браслеты. Она подарила мне шестнадцать, но сейчас их осталось десять, несколько нам пришлось продать…
Люси заметила горькую улыбку на лице Сатен и сменила тему.
– Все очень ценят то, что Розакур сделала для коммуны, для детей беженцев, и благословляют ее память, – подчеркнула она. – Без ее усилий многие так и остались бы неграмотными.
– А ты тоже будешь учить армянскому языку? – перебила ее Сатен.
Девушка засмеялась:
– Нет, что вы!
– Давай на «ты», я ведь моложе тебя.
– Как хочешь. Я преподаю английский, а мой армянский слишком слаб.
Они помолчали, сидя напротив друг друга. Сатен почувствовала запах роз и корицы, которым наполнилась комната с появлением Люси.
– Я хотела узнать, – снова заговорила девушка, откашлявшись, – не осталось ли у тебя школьных книг, которыми пользовалась Розакур на своих уроках? Я бы хотела взглянуть на них. Было бы неплохо следовать той же методике в изучении английского языка, чтобы ученики могли воспринимать одновременно на двух языках одни и те же понятия и слова.
– Если не ошибаюсь, что-то должно было остаться, – ответила Сатен, – я все сложила в одну коробку.
Она встала и, наклонившись, пошарила под кроватью.
– Наша жизнь в одной коробке… – пробормотала она, вытаскивая на свет шкатулку, обтянутую красным бархатом.
– «Barney’s deluxe chocolates», – прочитала Люси.
– Вот. Все, что осталось, находится здесь, – сказала Сатен, открывая шкатулку. – Посмотри сама, – предложила она.
Девушка на мгновение замешкалась, потом стала перебирать бумаги, среди них свидетельство о смерти Розакур, свидетельство о браке Сатен, некоторые домашние работы, так и не востребованные учениками, и в самом низу учебник по грамматике армянского языка.
– Вот он, – воскликнула она и стала жадно перелистывать, задерживаясь на заметках, оставленных на полях рукой учительницы. – Великолепно… – прошептала она.
– Там должны быть еще и фотографии, – вмешалась Сатен. – Посмотри получше.
– Неужели Розакур читала Сарояна на английском? – удивилась Люси, достав из коробки книгу.
– Нет. Это подарок из Америки. Ее прислала кузина моего мужа. Говорит, что очень интересный писатель. Ты его знаешь?
– Прекрасный, ты обязательно должна прочитать эту книгу, – ответила девушка, тут же покраснев от неловкой фразы. – Прости, я не хотела…
– Ничего… Скажи, о чем она?
Люси вздохнула:
– Ничего особенного. Просто рассказы, но язык великолепен.
– Но должна же быть какая-то история? – настаивала Сатен.
– Ну конечно. Скажем, рассказ, название которого носит вся книга, – это история молодого писателя в период Великой депрессии, которая поразила Соединенные Штаты почти десять лет назад. Помнишь? – спросила она снова слишком поспешно. – Она трогательная, увлекательная, и ты не можешь оторваться от книги, пока не дочитаешь все до конца.
– А как она называется? – спросила Сатен, показывая на обложку.
– «The Daring Young Man on the Flying Trapeze» – «Отважный молодой человек на летающей трапеции».
– Что такое «трапеция»?
– Это акробатический снаряд в цирке, палка, подвешенная на канатах под самым куполом, – попыталась объяснить гостья, рисуя рукой в воздухе.
– А при чем здесь это?
Люси задумалась на минуту. Подняла глаза и заметила висящую на натянутой через всю комнату веревке мокрую майку, с которой еще капала вода.
– В конце писатель умирает от голода…
– Умирает?
– Да.
– И что?
– Думаю, что Сароян, автор рассказа, сравнивает возбуждающую магию полета на трапеции с психозом, который предшествует смерти…
Сатен слушала ее затаив дыхание.
– Это грустная история, – пробормотала она.
– Да, но очень поэтичная.
– Ты счастливая, что прочитала ее. Что смогла… Почитай мне начало! – вдруг взмолилась она.
– Сейчас? – спросила Люси и засмеялась, не в силах сдержаться.
– Прошу тебя!
– Но мне придется переводить на ходу…
– Разве ты не преподаешь английский? – тут же парировала Сатен.
Девушка заерзала на стуле и открыла книгу. Запах типографской краски смешался с ароматом роз и корицы.
– Первый абзац, – сказала Сатен.
– Хорошо, первый.
Учительница откашлялась и тихо прочла первые слова, затем подумала какое-то мгновение и начала по-армянски:
– «Сон. Бодрствование в горизонтали на вселенских просторах, смех и радость, сатира, конец всему…» – Она резко положила книгу на колени и недовольно покачала головой. – Нет, так нельзя, я убиваю текст, я должна хорошо обдумать, – пожаловалась она.
Один из мальчиков зашевелился во сне, и она, воспользовавшись ситуацией, встала.
– Уже поздно, я не хочу мешать, – сказала она. – Можно я возьму это? Обещаю, что верну, – попросила она, показывая на старый букварь Розакур.
Сатен немного подумала.
– Да, – разрешила она, – при условии, что…
Люси подняла голову и посмотрела ей в глаза.
– …при условии, что ты расскажешь мне историю с трапецией, переводя слово в слово. Ты сделаешь это для меня?
Молодая женщина посмотрела на нищенские условия, в которых жила Сатен: на люльку из четырех сбитых гвоздями досок, в которой лежали, обнявшись, близнецы, на майку и ползунки на бельевой веревке, с которых капала вода, на умывальник с надписью «калимера», на сшитые наполовину тапочки на кровати, на шкатулку из-под конфет рядом с инжиром, на муху, жужжащую над ними.
– Почему бы и нет? Мне кажется, это хорошая идея, – ответила она с напускной легкостью. Затем она взяла обе книги и попрощалась, махнув изящной рукой. – Я скоро вернусь, – пообещала она, прежде чем исчезнуть за портьерой.
4
Ереван, Армянская ССР (Советский Союз), 1952 год
В западных кварталах Еревана начинался необычно жаркий для этого времени года день. Солнце еще не взошло, но петухи уже нетерпеливо предвещали его появление. Гора Арарат, мрачная и внушительная, выделялась на фоне еще темно-синего неба, где блеск звезд слабел в такт порывам свежего ветра, волновавшего позолоченные кроны деревьев. Желто-красные трамваи с трудом и скрежетом тащились по блестящим, недавно проложенным рельсам. Это была Новая Себастия, строящийся квартал для репатриантов, для агбер, братьев, как местные жители называли их с сарказмом. В последнее время их прибыли тысячи из Европы, Америки, со всего света. Кампания по возвращению, хитро организованная Церковью с одобрения самого Сталина, убедила их, что для армянина нет будущего за пределами Родины, «славной любимой» Армении.
Высокие бетонные здания возникали тут и там, подавляя немногие сохранившиеся домишки из лавового камня. Скоро уже совсем исчезнут огороды, гумна и курятники. В долине, по ту сторону холма, за городом, множество труб выбрасывали в воздух дым и пар.
Уже давно улицы были запружены толпами людей, по большей части рабочих, спешивших к началу смены. На остановке на бульваре Оханова красные огоньки сигарет нервно поблескивали в темноте, прежде чем очередной трамвай уносил прочь эти измученные души.
Они избегали смотреть друг на друга, смотреть в лицо было запрещено.
В квартире Газарянов было еще темно. Габриэль проснулся раньше обычного и, лежа в постели, прислушивался к звукам в доме. Часы из обсидиана на буфете в гостиной тикали в унисон с отцовским храпом. Габриэль любил понедельники, единственный день, когда вся семья собиралась за завтраком. Он и сестричка Новарт садились за стол, как принц и принцесса, пока отец, у которого в этот день не было утренней смены, доставал молоко, а мама разогревала хлеб и резала сыр.
Новарт в соседней кровати вздохнула во сне. Габриэль поднял голову и ласково посмотрел на сестру. Он любил ее больше всех на свете, четырехлетнюю пичужку с копной черных кудряшек, одна прядь которых теперь выглядывала из-под одеяла. Газаряны недавно приехали в Армению, и, хотя это может показаться странным, у них не было друзей в городе. Те немногие люди, с которыми их связывала искренняя привязанность, решили остаться в Греции, не доверяя обещаниям, которыми пропагандисты размахивали у них перед носом.
Однажды юноша подслушал разговор под дверью спальни, где родители ругались вполголоса: мама говорила, что скучает по дому и что приезд в Армению был ужасной ошибкой…
Резкий визг тормозов снаружи заставил его вздрогнуть. Затем послышался жесткий скрежет и сухой удар закрываемой с силой автомобильной дверцы.
Габриэль задержал дыхание, спрыгнул с кровати, выглянул в окно и зажмурился от яркого солнечного света, ударившего в глаза поверх домов. Машина кремового цвета стояла поперек дороги напротив подъезда. Он успел заметить трех мужчин, которые заходили в дом. Он замер и несколько секунд так и стоял босыми ногами на холодном полу, прислушиваясь к шуму в подъезде. Кто бы ни были эти трое, они не вызвали лифт, а поднимались по лестнице, перескакивая через ступеньки. Прямо как он, когда возвращался из школы.
Он бегом вернулся в кровать и зарылся под одеяло. Сердце билось все сильнее – с каждой новой пройденной ступенькой. Страх сковал его, стало не хватать воздуха, и показалось, что он задыхается. Рядом безмятежно спала Новарт, он почувствовал, как ее дыхание пахнет розами. Ее имя по-армянски означало «розовый бутон». Он взял ее за ручку и, когда в дверь их квартиры громко постучали, сильно сжал ее в своей.
Не дожидаясь, пока кто-то откроет, трое выбили входную дверь ногами, и она с грохотом распахнулась. Запах потной формы распространился по дому.
– Новарт-джан, – прошептал Габриэль сестренке, чувствуя, как бешено пульсирует вена на шее.
Он услышал приглушенные голоса родителей в соседней комнате.
– Сероп Газарян, встаньте, – приказал отцу по-русски незнакомый голос.
– Что… Что происходит? – пробормотал тот, прежде чем послышался звук упавшего тела.
Мама слабо сопротивлялась:
– Прошу вас, позвольте, я разбужу детей.
Отца взашей выпихнули в гостиную.
Габриэль ждал, затаив дыхание, пока в комнату не вошел человек.
– Мальчики, вставайте! – гаркнул он и включил свет.
Это был молодой еще человек, высокий и крепкий, на голове его была серовато-коричневая фуражка с красной звездочкой в центре околыша.
Габриэль выпустил ручку сестренки и вскочил на ноги на кровати. Мужчина попытался схватить его.
– Не трогайте меня, не трогайте меня! – закричал юноша, отбиваясь ногами от чужака.
Новарт тут же проснулась и заплакала, будто от страшного сна. Потом она запрыгнула на кровать и спряталась за спиной Габриэля.
– Агбарик, братец, – хныкала девочка с лиловым от напряжения лицом и испуганными глазами.
Габриэль закрыл ее собой, как щитом, продолжая брыкаться ногами, пытаясь держать подальше от незнакомца. А тот, устав от его жалких наскоков, обошел вокруг кровати и, схватив в охапку девочку, с силой сдернул ее. Новарт взвизгнула и вцепилась ногтями в спину брата, в ужасе от того, что их сейчас разлучат.
Габриэль словно помешался, он не выносил, если кто-то трогал Новарт. Он был на одиннадцать лет старше и всегда и везде защищал ее. Он схватил с ночной тумбочки чугунную лампу и обрушил ее на голову мужчины. Тот скривился от боли, из носа его потекла кровь, но после первого мгновения оторопи он вскочил на кровать. Фуражка его почти доставала до потолка. Габриэль увидел мерзкие сапоги и следы грязи на маминых кипенно-белых простынях, прежде чем мужчина скрутил его и приподнял.
– Вот гаденыш! – сказал он и сбросил парня с кровати.
Новарт попятилась. На мгновение она подумала, что ее брат умер.
– Зовите меня Дмитрием, – сказал человек с проседью, не выпуская изо рта сигарету.
На старике, к которому он обращался, был старый халат в красных и черных квадратиках с обтрепанным воротником апаш и застарелыми пятнами от мыльной пены для бритья на груди. Ему было не меньше девяноста лет.
– Товарищ Аганян, присаживайтесь, – добавил Дмитрий, провожая его в квартиру Газарянов. – Вы должны только сидеть и смотреть. И ничего больше, ясно? – По его акценту можно было догадаться, что он из Еревана.
Аганян устало сел на стул посреди гостиной и слезящимися глазами посмотрел на соседей. Все четверо, тесно прижавшись друг к другу, уместились на диване, стоявшем под окном. Они оказались в ярких лучах солнца, которые, как нарочно, освещали именно этот угол комнаты, оставив все остальное в потемках.
Дмитрий был единственный в гражданской одежде, двое других, помоложе и явно не армяне, носили форму сотрудников министерства государственной безопасности.
– Имя? – спросил Дмитрий, повернувшись к главе семейства.
– Сероп.
Дмитрий сделал запись на сером бланке.
– Фамилия?
– Газарян.
– Дата рождения?
Сероп нахмурился, будто припоминая:
– Август 1910-го.
– День?
– Не знаю.
– Место рождения?
– Адапазары, Турция.
– Имя отца?
– Торос-ага.
– Имя матери?
– Не знаю, – сказал он после минутного замешательства. Сирануш, Нежная любовь, – слишком красивое имя, чтобы трепать его при таких обстоятельствах.
Мужчина испепелил его взглядом.
– Никто никогда не говорил мне его, – солгал Сероп.
Дмитрий постучал ручкой по столу. Слишком много неточных данных.
– Что указано в твоих документах?
– Неизвестная.
Дмитрий выдохнул сигаретный дым кольцами и продолжил:
– Имя жены?
– Сатен.
Чтобы заполнить бланк, потребовалось полчаса. Когда они закончили, Дмитрий обратился к Аганяну:
– Товарищ, вы знаете этих людей?
Старик посмотрел на диван. Он увидел маленькую Новарт, прижавшуюся к матери и продолжавшую тихонько хныкать. Несмотря на катаракту, заметил синяки на лице Габриэля и выражение ужаса во взгляде Сатен. Конечно, он их знал. Аганян жил в квартире напротив. Сатен единственная во всем доме стучалась к нему в дверь. «Дадиг, дедушка, я выхожу, тебе нужно что-нибудь?» – спрашивала она. Габриэль, возвращаясь из школы, приносил ему лекарства. Новарт, малышка, дарила ему свои рисунки, которые он развешивал на стенах. Сероп часто приглашал его в холодные зимние вечера разделить с ними горячую тарелку супа. Газаряны заботились о нем и старались унять его горе. Он, вдовец, репатриант из Румынии, остался совсем один, после того как его единственный сын был сослан в Сибирь.
Еще бы он их не знал!
Газаряны были его семьей в некотором смысле.
Его замутненный взгляд блуждал по их лицам. Сероп слегка наклонил голову, и старик ответил ему тем же.
– Да, я их знаю, – сказал он наконец.
Дмитрий кивнул, и двое в форме начали обыск. Они рылись в ящиках и шкафах. Вынимали и высыпали все из банок и коробок. Вспарывали матрасы и стеганые одеяла. Даже туалет разгромили, срывая трубы и сбивая плитку. Потом они вернулись в гостиную и бросили на пол все, что нашли в ящиках. Обыскали книжный шкаф и пересмотрели письма, присланные из Греции. Полностью разобрали швейную машинку Сатен. Шум переворачиваемой мебели и падающих предметов разносился по всей квартире, заставляя всякий раз вздрагивать девочку в объятиях матери. Габриэль наблюдал за отцом, надеясь, что тот повысит голос, станет сопротивляться этой бессмысленной разрушительной ярости. Но он ошибался. Сероп молчал.
Иногда сотрудники приносили Дмитрию результаты обыска и с надеждой показывали ему: кукла Новарт, гармошка Габриэля, шелковые тапочки Сатен, импортный крем для бритья Серопа.
– Может, это? – спрашивали они.
Дмитрий качал головой.
– Продолжайте искать, – приказывал он.
В полдень он потянулся и опять обратился к Аганяну с подобием улыбки:
– Энкер[19], не волнуйся. Сейчас закончим, вот увидишь.
Его подчиненные удивленно переглянулись, вытирая со лба капли пота.
– Можно мне стакан воды? – Габриэля мучила жажда, но ему не разрешали ни пить, ни есть. В наказание за то, что он сделал. На лбу у него вскочила шишка, верхняя губа была рассечена, и из нее сочилась кровь.
Дмитрий строго посмотрел на него.
– Да пожалуйста, чувствуй себя как дома, – издевательски пошутил он, и его люди засмеялись. – Возвращайтесь на кухню, – прогремел он, погасив очередную сигарету в пепельнице, полной окурков. – Чего ждете?
Затем он неприкрыто зевнул, и у него заслезились глаза. Было ясно, что он томится. Когда Габриэль вернулся на свое место, тот встал и прошелся до середины гостиной, вероятно, чтобы размять онемевшие ноги. Он был невысок и немолод, хотя мускулист и крепок.
– Так, понятно, придется самому, – пробормотал он.
Присоединившись к своим людям на кухне, он резкими и решительными движениями начал вышвыривать тарелки и ломать полки. Затем он выбросил столовые приборы и раскидал белье. Открыл подвесной шкафчик и стал шарить внутри, достав три стакана из цветного стекла и две банки для продуктов. Он открыл их, понюхал содержимое, затем простучал стенки, обтянутые бумагой. Приподнял дно шкафчика и что-то вытащил. Его лицо просветлилось.
– Вот то, что мы искали! – воскликнул он, торжествуя.
Все с интересом посмотрели на него. Даже Аганян нагнулся вперед, стараясь понять, что тот держал в руке.
Это была обложка книги.
– «The Daring Young Man…» – с трудом прочитал он по-английски. – Литература, и к тому же американского писателя. Молодец! – объявил он с сарказмом, размахивая обложкой и приближаясь к Серопу. Его молодчики последовали за ним.
– Ты можешь объяснить, что это такое? – спросил он, ткнув обложкой ему в лицо.
Сероп покраснел.
– Мне повторить вопрос? Что это за мусор? – Дмитрий резко повысил голос.
Габриэль увидел, что отец опустил голову, как мальчишка, на которого накричали. Его угнетало, что у отца не хватало смелости произнести имя автора, которого он всегда очень высоко ценил. Сколько раз он читал ему его рассказы, садясь после ужина на тот самый диван, где теперь теснились они все. Габриэль знал наизусть целые абзацы, самые красивые фразы, самые насыщенные: «Он с легкостью полетел бы, отважный молодой человек на летающей трапеции».
– Это обложка книги, – ответил юноша, не сдержавшись.
Сатен пронзила его взглядом, а Новарт подумала, что ее брат герой.
Дмитрий присел на корточки напротив юноши, прикусил губу и покачал головой.
– Отлично, спасибо, что ты меня просветил. Могу поспорить, что ты ее читал, а?
– Конечно читал, – вмешался сотрудник, которого мальчик ударил лампой по голове. Из ноздрей у него выглядывали кусочки ваты, поскольку из носа все еще сочилась кровь.
– Мой сын тут ни при чем, – заговорил наконец Сероп. – Это книга, которую я привез из Греции.
– Это всего лишь рассказы, прошу вас… – взмолилась Сатен, нервно ерзая на диване.
– Не надо держать меня за дурака, гражданочка, – остановил ее Дмитрий. – Я прекрасно знаю, кто такой Уильям Сароян, и знаю, о чем он пишет. Мы хорошо проинформированы и знаем, что вредит нашему народу и угрожает ценностям, в которые мы верим. – Он сделал глубокий вдох и добавил: – Так значит, вы храните обложку от книги вместе с мукой и рисом, как пищу для ума, что ли? Но сам текст где?
– Выбросил. Там все обтрепалось, сгнило… – ответил Сероп.
Дмитрий выпрямился, сделал шаг в его сторону и ударил по лицу с такой силой, что тот запрокинул голову назад. Новарт в ужасе уткнулась в широкий халат матери. Габриэль почувствовал боль отца и вздрогнул. Он хотел было ответить, но Сатен вовремя остановила его красноречивым взглядом.
– Это чтоб ты знал: не сметь, никогда не сметь лгать родине, матери-России, – заорал Дмитрий с красным от злости лицом.
– Прошу вас, товарищ, – вмешался Аганян тихо. – Эта книга принадлежала моему сыну, это я одолжил ее им. Видите ли, у меня не было ничего другого, чем я мог бы отблагодарить за доброту и заботу, с которой они ко мне всегда относились, – закончил старик, кашляя и тяжело дыша.
– Заткнись, убогий, – с презрением сказал Дмитрий. – Твой сын плесневеет в ледниках, а ты, надеюсь, уже завтра сдохнешь, – сказал он и сплюнул на пол.
* * *
Уже смеркалось, когда Серопа и Габриэля увезли на машине кремового цвета, что стояла у подъезда.
Целый день они отвечали на самые разные вопросы, а Дмитрий заполнял несметное количество бланков. С утра у них не было маковой росинки во рту, но и отец, и сын не чувствовали голода. Старый Аганян подписал-таки заявление, в котором подтверждал, что присутствовал при обыске в квартире Газарянов, который проходил согласно букве закона, без насилия, угроз или превышения власти.
– Простите меня, – пробормотал он, еще держа перо в руке, после того как поставил свою подпись.
Затем уполномоченные надели наручники на отца и сына и, забрав единственный крамольный предмет – поблекшую обложку книги Уильяма Сарояна, – вышли, хлопнув дверью.
– Куда вы их увозите? – крикнула Сатен, выбежав на лестничную площадку. – Когда я смогу их увидеть? – напрасно спрашивала она, пока кое-кто из соседей украдкой наблюдал в глазок своей двери.
– Садитесь.
Раненый сотрудник открыл дверцу машины. Сероп послушался.
Резко похолодало, на небе стали собираться серые тучи. Габриэль замешкался на мгновение, с жадностью вдыхая свежий колючий воздух. В этот момент перед ним пролетели чередой сценки из ежедневной жизни, которые теперь имели для него совсем иное, особое значение. Красивая девушка с сосредоточенным лицом, выходящая из трамвая, женщина в подъезде дома напротив, пытающаяся достать письмо из почтового ящика, мальчишки, бегающие по стройплощадке рядом с домом, пара старичков, переходящих дорогу и делающих вид, что не видят его, наконец, темное пятно черных волос Новарт, высунувшейся из окна, – все это пронеслось перед его взором в одно мгновение, прежде чем он опустил голову и сел в машину.
Когда машина тронулась и стала набирать скорость на бульваре, Габриэль обернулся и постарался запечатлеть в памяти эту последнюю фотограмму жизни, которая, как он догадывался, навсегда ускользала от него.
Ночь они провели в одной из камер, предназначенных для политзаключенных в подвале министерства государственной безопасности, на улице Налбандяна, в центре Еревана. Это было трехэтажное здание с парадной лестницей на фасаде, которую Габриэль сразу же узнал, как только они подъехали. Во время воскресных прогулок они, случалось, проходили мимо, и он видел другие машины кремового цвета, стоявшие у входа, пока кто-то в спешке подталкивал людей к лестнице. Он вспомнил, что отец, видя эти сцены, всегда ускорял шаг, мама переводила взгляд на кончики своих туфель, а ему не хватало смелости, держа за руку Новарт, спросить, что это за место.
На заре легкий дождик спрыснул каплями окна здания. Серопа и Габриэля привели в кабинет следователя. За письменным столом сидел худощавый человек с мертвенно-бледным лицом. Отец и сын молча ждали, пока он аккуратно складывал бумаги и закуривал одну сигарету за другой, тут же забывая их в хрустальной пепельнице. За его спиной в рамке на стене доминировала над всеми фотография «отца народов», товарища Сталина.
– Садитесь, – наконец сказал он, не поднимая головы. – Я прочитал ваше дело и с сожалением узнал, что среди нас есть личности, которые хотят совратить сознание нашего народа, – продолжил он.
– Но… – попытался оправдаться Сероп.
Человек остановил его, подняв руку.
– Слушайте, товарищ… – он поискал в документах, – Газарян, я подготовил заявление, в котором вы признаете свою вину и…
– Но я ничего не сделал, вы нашли всего лишь обложку от старого сборника рассказов.
– И этого вам кажется мало? Это мусор, язва на здоровом теле нашей партии! У вас дети, – он показал на Габриэля, который не сводил с него глаз, – вы обязаны воспитывать их в духе наших ценностей и идеалов. – Тон его был спокойным, но сразу становилось ясно, что он не примет никаких возражений.
Сероп замолчал.
– Итак, как я уже сказал, вы должны подписать это заявление. – И он положил лист бумаги и ручку перед Серопом, предлагая ему прочитать документ.
– Я, нижеподписавшийся, Сероп Газарян, перед лицом советского народа признаю себя виновным в том, что читал и распространял книги и статьи антикоммунистического содержания с целью навредить Советскому Союзу и его великому народу. Заявляю, что глубоко раскаиваюсь в содеянном, в том, что вел себя как враг народа, и желаю искупить вину перед Родиной за вред, который ей причинил.
– Что скажете?
Сероп покачал головой, не зная, что ответить.
– Значит, вы подпишете этот документ. К нему будет приложен другой, который мы подготовим вместе здесь и сейчас, то есть рапорт об обыске в вашем доме. Как вы понимаете, мы даем вам возможность, хотя вы ее и не заслуживаете, прояснить раз и навсегда, как такое могло случиться.
Неожиданно тело Серопа содрогнулось от сдерживаемого рыдания, и Габриэль посмотрел на него с удивлением.
– Папа… – тихо сказал он.
Следователь не понял, хотел ли юноша выразить свое сочувствие или же призывал отца к сдержанности.
– А ты, юноша, сколько тебе лет – пятнадцать, шестнадцать? Надеюсь, что ты отдаешь себе отчет во всей серьезности ситуации, – сказал он и закурил очередную сигарету.
Габриэль внимательно посмотрел на него, и вдруг перед ним раскрылась вся сущность этого человека: бюрократ, оказавшийся в слишком большом для него мундире, сидящий за письменным столом в кожаном кресле, полученном благодаря бог знает каким компромиссам, гнусностям и подлостям. Он обратил внимание на пожелтевшие от никотина дрожащие тонкие пальцы и испугался, что сигарета вот-вот выпадет из них. Он посмотрел на это осунувшееся лицо, на восковой цвет кожи, тонкие губы, сквозь щель в которых можно было заметить несколько золотых зубов.
– Тебе же хуже, – наконец сказал следователь, будто почувствовав презрение, которое испытывал к нему Габриэль. Он нажал на кнопку, и резкий трезвон эхом прокатился по коридору за кабинетной дверью. Почти сразу же на пороге появился молодой сотрудник. – Напечатай его признание, – обратился он к вновь прибывшему, показывая на подготовленное заявление Серопа.
Молодой человек замялся.
– Это невозможно, – наконец выдавил он.
– Почему?
– Наша машинка сломалась, сегодня к вечеру ее должны починить.
– Возьми пока другую, со второго этажа.
– Нельзя.
Следователь встал, и небрежно наброшенный китель соскользнул с его плеч.
– Не понимаю… – сказал он.
– В той машинке нет ленты.
– И что с того? Вставьте ленту из нашей.
Молодой сотрудник покачал головой:
– Мне жаль, но она не подходит, это разные модели, товарищ майор.
5
Венеция, 1952 год
– Намыливайтесь!
Крепко держась за кран, синьор Беппе командовал подачей воды с воодушевлением полководца. Только он и никто другой мог включить водопровод, основной кран которого находился рядом с коридором общих душевых. На стене слишком высоко для мальчиков крепилась длинная труба с множеством душевых леек. Оттуда вода брызгала во всех направлениях, но, что хуже всего, она была ледяной. Стоял ноябрь, и мыться в душе каждое утро было сродни пытке. Все энергично растирались мыльной пеной, надеясь хоть немного согреться.
– Споласкивайтесь! – послышался приказной окрик привратника, который, кажется, развлекался, глядя, как мальчики дрожат под ледяной струей. Кто-то прыгал, кто-то кричал, стараясь увернуться, а кто-то просто отходил в сторону, отказываясь мыться как следует.
– Бррр… Это все равно что в Сибири, даже хуже, – шутил Азнавур, ополаскиваясь с удивительной быстротой. – Что ты застрял? Шевелись!
Микаэль неподвижно стоял под душем, лицом к стене, с опущенной головой. Вода стекала по его спине, смывая мыльную пену с плеч и спины.
– Эй, я с тобой говорю! Ты что, заснул? – Азнавур дернул его за руку, и наконец Микаэль повернулся. – Тебе что, не холодно? Стоишь там, как кукла! – продолжал друг.
– Мне что-то грустно, – пробормотал Микаэль.
Вода в старых и ржавых трубах урчала, как зверь в клетке.
– Что ты говоришь?
– У меня сердце разрывается.
– Вытираться и прочь отсюда! Уже семь часов, – прогремел голос синьора Беппе, и привратник выключил воду.
Облачки мыльной пены, качаясь на воде, как маленькие айсберги, стекались к сливным отверстиям. Пора было возвращаться в палаты, одеваться и бежать на завтрак, а потом – в классы.
– У нас у всех разрывается, – ответил Азнавур. – Дик правильно сделал, что сбежал, а сейчас, кто знает, может, нежится в каком-нибудь хаммаме у себя дома. – Он взял размытый кусок мыла и положил в металлическую мыльницу.
Он просто не услышал его и даже толком не разглядел. Если бы он был повнимательнее, то, помимо потоков воды, стекавших по лицу Микаэля, заметил бы слезы, которые, несмотря на все усилия, другу не удалось сдержать.
Шел урок богословия, которое отец Кешишьян преподавал с обычным рвением и способностью привлекать внимание молодых людей даже к весьма неприятным и сложным темам. Несмотря на его строгость, ученики признавали за ним отменную подготовку и значительную харизму. Микаэль, которого особенно интересовала теология, восхищался его образованностью, выходившей за рамки предмета, и интуитивно чувствовал его горячность, его жажду знаний. Да, Волк был действительно особенным человеком. В этот момент он говорил о Халкидонском соборе и диспуте о природе Христа, пользуясь древнегреческой терминологией.
Слушая звучание античных терминов, Микаэль смотрел в окно, выходившее в сад колледжа. Его взгляд скользил поверх ограды из кованого железа и дальше, за романтический мостик, соединявший два зеленых холмика, потом вдоль тропинки, выложенной булыжником, и наконец задержался на неоклассическом фасаде Казин, библиотеки колледжа.
Микаэль вспомнил, как впервые увидел это здание. Он только что приехал из Греции после долгого путешествия по Адриатическому морю. Войдя через небольшую боковую дверь, он на минуту поставил свои чемоданы на пол и через окна холла увидел его. Элегантность этого сооружения напомнила ему родину. На мгновение ему показалось, что Казин – это Парфенон, и он просто выглянул в окно, чтобы полюбоваться на красоту Акрополя. Весь остаток дня он страдал от ужасной ностальгии, такой сильной, что испытывал буквально физическую боль. И ему захотелось схватить свои чемоданы, сбежать в порт и ждать на пристани, когда вернется «Канарис», греческий пароход с красной трубой и множеством иллюминаторов, чтобы сесть на борт и отправиться в родную сторону.
Прошлой весной, за несколько недель до конца учебного года, однажды утром в понедельник священник армянской диаспоры отец Петросян позвонил в дверь дома Делалянов.
– Тикин[20] Делалян, не уделите мне полчасика? – спросил он у Вероники, матери Микаэля. – Я хотел бы обсудить с вами очень важное дело.
Тикин Веронику не удивил этот визит, священник часто заходил в гости. Весь вид Петросяна говорил, что дело срочное, но, несмотря на это, она сначала приготовила кофе, подала его на серебряном подносе вместе со стаканом холодной воды и только потом выжидательно устроилась в кресле.
– Я слушаю вас, – сказала она с улыбкой.
На ней было черное платье. С тех пор как умер ее муж, она все время носила черные платья и собирала в традиционный пучок седые с голубоватым отливом волосы.
– Я хорошо знал вашего мужа, доктора Харутюна, царствие ему небесное, – начал священник. Вероника поправила заколку для волос, чтобы скрыть волнение, которое по-прежнему охватывало ее при упоминании имени мужа, хотя после его смерти прошел уже год. – Я также знаю, как много он сделал для диаспоры, истинная опора для нашего народа, – продолжал он. – Его преждевременная кончина опечалила нас всех, это невосполнимая потеря.
Вероника отвела взгляд. Небо за окном сияло, как бирюза.
– Спасибо, отец Петросян, – тихо сказала она.
– Но жизнь продолжается, мы не должны сдаваться… Поэтому нет смысла напоминать, как важно растить новые поколения, чтобы наши коммуны могли развиваться в странах диаспоры. Мы живем в Греции, ничего плохого, напротив, мы должны благодарить эту страну за то, что она предоставила нам кров и пищу. Но только если наши дети смогут приобщиться к высокой культуре и получить образование, только тогда, говорю я, будет у нас будущее.
Разговор был действительно серьезный. Эта тема не раз поднималась во время многочисленных обеден и проповедей по праздникам. Вопрос, безусловно, насущный, но зачастую трудновыполнимый.
– Чем я могу помочь? – спросила Вероника, подумав, что речь идет об обычном сборе пожертвований для бедных семей или в поддержку начальной школы имени Заваряна в пострадавшем от землетрясения квартале Палия Коккиния. – Мне надо посмотреть, сколько наличных есть в доме.
Отец Петросян улыбнулся:
– Это не вопрос денег, это гораздо больше. Речь идет о Микаэле.
Вероника вздрогнула и прикрыла рот рукой, услышав имя сына.
– Я знаю, что у вас остался только он, что он ваша единственная надежда и опора. Но такие почтенные семьи, как ваша, должны подавать пример, чтобы другие последовали за вами. Видите ли, в Венеции вновь открылся армянский колледж, и там готовы принять наших мальчиков, гарантировать прекрасное образование, подготовить их к успешной жизни и в то же время привить им сознание армянской идентичности.
Женщина выпрямилась в кресле, прикусив губу от волнения.
– Микаэль – юноша редкого дарования, я сразу обратил внимание на его незаурядный ум, когда преподавал в начальной школе. В колледже он сможет развить свои многочисленные способности, например музыкальные, – продолжал Петросян, указывая на рояль, на котором стояли семейные фотографии. Изображение доктора Делаляна в белой рубашке выделялось среди всех остальных. – Я долго молился, прежде чем прийти сюда, и могу сказать без тени сомнения: я уверен, что наш дорогой доктор был бы горд, если бы его сын получил диплом в престижном колледже «Мурат-Рафаэль».
Вероника опустила голову. Она незаметно вытерла слезы вышитым платочком, но не смогла скрыть всхлипывания и дрожь в руке.
Тогда отец Петросян встал и по-отечески погладил ее по плечу.
– Дочь моя, – сказал он, – я знаю, что это непросто, но когда-нибудь вы будете меня благодарить, вот увидите. Подумайте, хорошенько подумайте.
Потом он направился к двери, немного удивленный, что Вероника осталась сидеть в кресле и не проводила его.
* * *
В тот день Микаэль вернулся из школы раньше обычного.
– Что у нас сегодня вкусненького на обед? – прокричал он еще с порога.
Не получив ответа, он вошел в кухню. Его мать хлопотала у плиты. От аромата мантов, больших пельменей с мясом, у него потекли слюнки.
– Ты меня не слышала? – спросил он, подставляя щеку для привычного поцелуя.
Когда Вероника прикоснулась к нему губами, он заметил ее замутненный взгляд.
– Что-то случилось? – Микаэль редко ошибался в определении душевного состояния матери, к которой был очень привязан.
– Мы потом поговорим, сынок, – ответила она, расстилая клетчатую скатерть. Она всегда тщательно накрывала на стол, еще когда муж был жив. Все должно было быть так же, как до его смерти. – Хочешь немного сумаха?[21]
Микаэль кивнул, и она поставила перед ним мисочку со специей амарантового цвета. Оба начали молча есть, но Вероника лишь передвигала пельмени в тарелке.
– У тебя очень отросли волосы, – сказала она, глядя на каштаново-медную шевелюру сына.
Они остались сидеть за столом и после обеда, в ожидании чего-то, что никак не наступало.
– Микаэль, ты знаешь, как я тебя люблю, – наконец выдавила Вероника с большим трудом.
Мальчик насторожился. Он сложил салфетку и положил ее рядом с тарелкой, в которой еще оставалась пара мантов в сметанном соусе.
– Я подумала, что так будет лучше для твоего будущего. – Она прервалась и начала всхлипывать.
– Мама, что происходит? Что ты такое говоришь? – спросил Микаэль, взяв ее руку и крепко сжав.
– Ничего. Я подумала, мы вместе подумали с отцом Петросяном, что ты должен продолжить образование в Венеции, в колледже мхитаристов[22], – ответила она на одном дыхании.
Микаэль не сказал ни слова, оторопев от неожиданности.
– В Венеции? – смог наконец выговорить он через некоторое время.
– Ваше превосходительство Делалян, – ироничный оклик Волка заставил его вздрогнуть, – просветите нас, коль вы так хорошо знаете древнегреческий, как переводится и что означает термин «логос»?
Резко вернувшийся в реальность, юноша сложил руки на парте с сосредоточенным видом, чем немало развеселил Азнавура, и ответил:
– «Логос», от глагола «легейн», означает «смысл», «сознание», «слово», а также «учение». В христианстве слово «логос», глагол, олицетворяет Христа, сына Божьего.
Глаза Волка загорелись. Он был доволен, Микаэль в который раз показал, что обладает блестящим умом. Вне всякого сомнения, этот мальчик подавал большие надежды.
– Что ж, неплохо, – прокомментировал он, сдерживая свое удовлетворение. – Итак, продолжим.
Отец Кешишьян кашлянул, как всегда, когда хотел сосредоточиться.
– Тот, кто страдал, тот хорошо знает цену причастия ко Христу на Кресте. – Он поправил очки, сморщив нос. – Кто страдал, тот знает, как долог, труден и тернист путь, ведущий к этому познанию.
– А если… – Голос Микаэля прервал речь преподавателя, и весь класс повернулся в его сторону. Тогда юноша встал и продолжил без колебаний: – А если, и этот вопрос я задаю всем, этот длинный и сложный путь ни к чему не приведет?
– Поведай нам твои сомнения, – предложил ему учитель, который тоже встал и подошел к нему поближе.
– Если мы обнаружим, что религия просто уничтожает человеческое в пользу божественного? Способствует обнищанию, закрепощению человека в пользу Христа и Церкви?
Волк стоял от него в двух шагах с напряженным лицом и пронизывающим взглядом.
– Это не твоя мысль, ты повторяешь как попугай идеи Бакунина, который, как нам хорошо известно, тебе нравится, – сказал он с укором.
В классе послышались шепот и смешки.
– Я же, как и мы все, хотел бы знать, что ты сам думаешь по этому поводу, Микаэль Делалян? – добавил учитель.
Микаэль сглотнул и сжал сильнее перьевую ручку, которая тут же испачкала чернилами ладонь.
– Вот, – начал он чуть тише, – я думаю, что только через веру человек может стать свободным в этой жизни и только в вере может найти силы, чтобы идти вперед, но…
В полной тишине все ждали продолжения.
Микаэль наклонил голову, а когда снова поднял ее, то было заметно, как заблестели его глаза.
– Иногда меня одолевают сомнения, я начинаю размышлять, но чем больше думаю, тем меньше понимаю, все смешивается, я теряю нить и…
– И?
– Не знаю. Читаю, ищу ответ в Святых Писаниях, у философов, во всем, что могло бы озарить меня, хотя тезисов и различных теорий очень много. И тогда я снова теряюсь…
Азнавур смотрел на него с открытым ртом, восхищенный и тронутый его смелостью.
– Признаюсь, я задаю себе вопросы, – продолжал Микаэль, – потому что считаю, что нужно твердо верить, не иметь сомнений или раскаяний, – закончил он.
В этот момент трижды прозвенел звонок, означавший, что настало время обеда.
Микаэль сидел на деревянном табурете, наклонившись вперед всем телом, и играл на рояле. Его подвижные гибкие пальцы, казалось, едва касались клавишей, перебирая их с удивительной быстротой. У него был сильный и немного хриплый голос. Он пел «Йезебель», популярный в то время шлягер. В общей гостиной кто-то читал, кто-то играл, а многочисленные поклонники Микаэля собрались в кружок вокруг рояля, приплясывая в ритм песни. Если кто-то осмеливался подпевать, другие тут же шикали и толкали его локтями. Никто не должен был портить впечатление от исполнения песни, потому что Микаэль был неоспоримой звездой колледжа. Его идеальный американский акцент и хорошо поставленный голос напоминали Фрэнки Лэйна, Джина Келли и даже иногда самого Фрэнка Синатра. Азнавур с энтузиазмом покачивал в такт головой, вместе с двумя другими товарищами импровизируя и пританцовывая. Микаэль закончил петь на высокой ноте, это был его собственный творческий вклад, который вызвал восторг у поклонников и шквал аплодисментов. Юноша вскочил и поблагодарил легким поклоном всех собравшихся, как заправский крунер[23].
Постепенно все слушатели разошлись. Эти краткие мгновения веселья помогали студентам преодолевать остаток тяжелого дня.
– Слушайте все!
Некоторые молодые люди еще не покинули зал, кто-то разговаривал в холле, некоторые бродили по саду. Голос Габига, преподавателя естествознания, привлек их внимание, перекрыв звон тарелок, которые в этот момент как раз выносили из столовой.
– Подойдите сюда, я не могу кричать, – сказал учитель, размахивая конвертом с американской маркой и цветными полями, разорванным с одного края.
Мальчики собрались в холле, окружив учителя.
– У нас тут письмо от Дикрана Самуэляна, вы помните такого, верно?
Студенты негромко переговаривались, кое-кто криво ухмыльнулся. История с Диком была уже пройденным этапом. Парню удалось вовремя пересечь границу, избежав полицейского контроля, и он добрался до Вены. Оттуда он позвонил отцу, умоляя позволить ему вернуться домой. Он был готов на все, лишь бы не жить в колледже. Господин Самуэлян поверил ему и сразу же выслал деньги, чтобы тот мог вернуться в Детройт.
– Угадайте, кому адресовано это послание? – спросил Габиг, старательно расправляя листок.
Микаэль вздрогнул, догадавшись и начиная чувствовать себя неловко. Публичное чтение писем в случае, если святые отцы считали это целесообразным, стало неприятной привычкой. Но в колледже все было общим, даже секреты.
– Сейчас я вам зачитаю, – продолжал Габиг. – «Дорогой Бакунин, надеюсь, что с тобой все в порядке. Здесь собачий холод, fucking freezing, man, а в Венеции?» – Учитель прервался и обвел всех собравшихся взглядом. – Великая литература, не находите? – проговорил он с сарказмом. – Ну-с, так продолжим: «Простите меня, если я подставил вас своим бегством, но оставаться там у меня уже не было сил. Твой френч я сохраню как память о тебе. В тот вечер шел сильный дождь, а у меня не было ничего, чтобы накинуть на плечи. Пост скриптум. Ничего не добавляю, потому что письмо наверняка вскроют. Но все-таки, даже если колледж жуткая дыра, иногда мне его не хватает. Привет Азнавуру, Бедросу, Керопу, и вообще всем. Вы лучшие друзья, какие у меня когда-либо были. Дик-вор».
Когда он закончил читать, среди молодых людей установилась неловкая тишина, будто искренность Дика тронула их до глубины души. Учитель приблизился к Микаэлю и протянул письмо. Тот схватил его так неловко, что монах покачнулся, потом Микаэль развернулся и бросился бежать вверх по лестнице, что вела в палаты. Гнев стучал в его висках, и все внутри клокотало от унижения.
Где ты? Что это за место? Я ничего не вижу.
Тебя унизили, растоптали твою честь.
Тебя закрыли в темноте. Тебя бросили туда, как животное на скотобойню.
6
Советский Союз, 1952 год
Их было много в темноте товарного вагона, направляющегося бог знает куда. Кто-то сказал, что их везут в Сибирь, но ничего более.
Поезд шел без остановок, и стук колес монотонно отбивал ритм, лишь время от времени прерываемый свистком локомотива. В тишине вагона Габриэль слушал этот стук и представлял, что пишет песню на его мотив. Слова были бы веселые и остроумные, в противовес его душевному состоянию. Он закрыл глаза в надежде заснуть хоть ненадолго.
Его отец подписал признание. Мертвенно-бледный следователь все-таки заставил его, мучая, обзывая, угрожая, пока Сероп не сдался и не признал себя врагом народа. Но в то же самое мгновение, подписывая признание, он бросил в лицо своему мучителю:
– Я не враг никому. Я приехал в эту страну, потому что разделяю ваши идеологические убеждения. Я люблю Армению. Я пошел на жертвы, чтобы выкупить билеты для себя и семьи на пароход, а потом на поезд, который привез нас сюда. Я всегда верил в нее и верю до сих пор. Вы ошибаетесь, это страшная ошибка, умоляю вас, – добавил он тихо.
Потом пришел Дмитрий. Сначала он отпечатал на отремонтированной машинке свой рапорт об обыске, проведенном в доме, подчеркивая, с какой враждебностью он и его люди были встречены семейством Газарян. Затем он описал буйную реакцию Габриэля, который напал и ранил одного из сотрудников чугунной лампой, и предположил, что мальчишка спрятал обложку книги на кухне, когда ходил туда под предлогом выпить стакан воды. Наконец он заявил с явной досадой, поправляя серый чуб, что отец все время покрывал сына самым что ни на есть постыдным и достойным осуждения образом. С такими бунтарями, как Сероп и его сын, было бы трудно строить светлое будущее в Союзе…
– Что ты можешь сказать в свое оправдание? Говори, защищайся, ты еще можешь спасти себя! – кричал мертвенно-бледный следователь.
– Видите ли, эта книга – подарок кузины, Мириам, которая давно живет в Америке, она прислала ее мне вместе с другими вещами много лет назад. Мы тогда еще жили в Греции, а когда мы собрались уезжать, я не мог, то есть мне было жаль оставлять ее там и… – Сероп старался оправдаться, но вконец запутался и замолчал.
Тогда Габриэль, громко и четко произнося слова, сказал:
– Это была моя любимая книга. Тетя прислала ее мне, и я читал ее, несмотря на то что не очень хорошо знаю английский.
Дмитрий и молодой сотрудник переглянулись, а на лице следователя промелькнула едкая улыбочка, пока секретарь на мгновение застыл, но пришел в себя сразу же и продолжил печатать с удвоенной скоростью.
– Отвезите их на вокзал, – была последняя фраза, сказанная следователем.
Прежде чем поставить печать на документе, подготовленном секретарем, он, нахмурив брови, бегло прочитал его, проверяя, все ли в порядке. Потом закурил еще одну сигарету и положил ее тлеть рядом с предыдущими в хрустальную пепельницу.
– Папа! – крикнул Габриэль в темноту вагона.
– Я здесь, – услышал он в ответ из дальнего конца.
Он увидел отца в тот день, когда их сажали в поезд. Он был одним из последних, кого буквально впихнули в вагон, прежде чем солдат закрыл тяжелую дверцу, оставив их в полной темноте.
Юноша полз на четвереньках, раскачиваясь в ритм идущего поезда. Темнота мешала ему ориентироваться, но он должен был добраться до отца. Он продвигался по телам незнакомых людей. Сотня человек разместилась в этом вагоне для перевозки скота. Острый запах навоза, которым был пропитан вагон, смешивался со зловонием грязных тел. Человеческий товар, где бы он ни находился, перевозился в пункт назначения быстро и без потерь.
– Папа! – снова позвал Габриэль.
– Заткнись, – прорычал чей-то злой голос.
Кто-то вздохнул во сне, кто-то пробормотал что-то еле-еле.
Все окоченели от холода и обессилели от усталости.
Они ехали уже несколько дней без остановок. Казалось, что у этого пути нет ни конца, ни места назначения. Невозможно было отличить день от ночи. В узенькие щелки между досками иногда просачивался слабый и обманчивый свет, это мог быть и солнечный луч, и свет от фонаря на рельсах.
– Не могу дышать, мне не хватает воздуха, – простонал мужчина где-то в дальнем конце вагона.
Иногда во всеобщем оцепенении слышались жалобы, сначала громкие, потом они становились все тише. В этот раз Габриэль услышал в голосе ужас человека, который понимает, что умирает всеми брошенный, в одиночестве. Никто не помог бы ему и не остался бы рядом. Он попытался представить себе его лицо, откуда он родом, чем занимался раньше. Этот несчастный незнакомец в нескольких метрах от него, так далеко и так близко, пал жертвой той же судьбы, что и он. Он почувствовал сострадание к нему и стал стучать в стенку вагона.
– Откройте, откройте! – кричал он.
Ему ответил лишь долгий свисток локомотива.
– Если он умрет, то и мы все умрем, потому что окажемся в одном вагоне с трупом. – Он попытался встать, чтобы его было лучше слышно.
Незнакомец задыхался в конвульсиях. Габриэль снова стал стучать в стенку, на этот раз ногами. Так сильно, насколько мог.
– Откройте! – закричал он, набрав в легкие как можно больше воздуха.
Кто-то присоединился к нему. Еще один человек стал стучать.
– Помогите! – теперь кричали они вдвоем.
Вскоре к ним присоединились остальные.
– Откройте! – кричали люди.
Их открыли слишком поздно и вовсе не потому, что услышали. Поезд дернулся и остановился на какой-то станции для пополнения топлива, и солдат открыл дверь. Свет залил вагон, и ледяной воздух принес облегчение от застоявшейся внутри него вони.
– Здесь есть мертвый, – сказал Габриэль, впервые ясно увидев то, что окружало его столько дней: скорченные тела, экскременты.
Солдат вскарабкался на край вагона.
– Здесь. – Мужчина с седой бородой показал на своего соседа, который, казалось, заснул с запрокинутой головой. Габриэль посмотрел на его лицо. Оно было не таким, как он себе представлял. Это был молодой человек, не более чем на пару лет старше его, и смерть сделала его похожим на восковую статую.
– Расступись! – приказал солдат, прикрывая нос и проходя вперед.
Он схватил труп за воротник куртки и потащил его к двери. Потом пнул его каблуком сапога, и тело упало с глухим звуком на припорошенные снегом рельсы.
Габриэль, воспользовавшись моментом, постарался рассмотреть, где Сероп. Он понимал, что скоро они снова окажутся в темноте. Он увидел отца, скорчившегося в нескольких метрах от него, рядом с дверью. Опустив голову к коленям, он сидел не двигаясь с отсутствующим взглядом. Габриэль стал пробираться к нему, но вагон снова закрыли и поезд тронулся. Он продолжил путь в темноте, по инерции, и наконец достиг цели.
– Я здесь, – прошептал он отцу, слегка встряхнув его.
Сероп что-то проворчал.
– Мне очень жаль, папа. Это моя вина, – сказал Габриэль. – Нам надо было сжечь эту книгу, и обложку тоже, ты был прав. – Он помолчал, потом добавил: – Но Новарт не хотела, и я дал ей слово. – И, вздохнув, обнял отца за плечи.
Отец нашел его руку и взял в свою.
КСА, обувная фабрика в Ереване, где Сероп работал, находилась в здании, отделанном плитками из туфа, когда-то здесь располагалась начальная школа. По размерам и объему производства фабрика считалась предприятием малого и среднего сегмента, и внимание ей уделялось весьма скромное. В СССР в то время делали ставку на тяжелую промышленность. КСА располагалась в южной части Еревана, и до нее не доходили трамвайные линии, так что добираться приходилось на автобусе, который отходил каждые полчаса с полустанка на окраине.
Сероп всегда выходил из дома с большим запасом времени, чтобы справиться с любыми возможными неожиданностями и не опоздать. Он считал важным показать начальству, какой он ответственный человек, уважающий правила и ценности, которые всецело принимал, решив вернуться на историческую родину.
Утром он частенько появлялся на фабрике гораздо раньше своих коллег. Это был его выбор. Он надевал фартук цвета антрацита, тщательно расправлял его, зажигал лампочку над рабочим столом и садился. Прежде всего он проверял, все ли инструменты на месте: прошивки, шило, дратва, кривой сапожный нож и рашпиль. Потом он смотрел на часы и, если у него было еще несколько минут времени, надевал очки, раскрывал газету и читал ее с большим интересом.
– Энкер Сероп, ты все время читаешь, тебе надо было стать учителем, – приветствовал его Ампо Селлиан, репатриант из Нью-Йорка.
Ампо был вторым, кто приходил на работу. Высокий и грузный, с одутловатым лицом и огромными от толстых линз глазами, американский товарищ был похож на комика из немого кино. Тогда Сероп складывал газету и душевно болтал с коллегой. Ампо говорил по-армянски с таким смешным акцентом, что казалось, будто рот его набит камешками и ему никак не удавалось выплюнуть их. Они говорили о женах, детях, о ежедневных заботах идеальной советской семьи. Естественно, в разговорах никогда не упоминались Соединенные Штаты, где Ампо родился и вырос, и тем более причины, по которым он оказался в Ереване.
Любой разговор прерывался мгновенно с появлением товарища Раффика. Раффик, начальник производственного цеха, никогда не приходил заранее, но и никогда не опаздывал. Он был всегда очень пунктуален. Не успев снять пиджак, он уже контролировал в реестре присутствие работников цеха. Еще довольно молодой, он слегка прихрамывал, но прежде всего бросался в глаза его длиннющий горбатый нос, который доходил почти до самого рта. В краткие моменты отдыха все, как-то даже не желая того, смотрели на его хобот. Когда он пил чай, то почти всегда попадал в него кончиком носа. Даже если это было очень смешно, никто не смел шутить по этому поводу и тем более смеяться. Товарища Раффика боялись, потому что он был уважаемым членом партии.
– Мы должны сделать шестнадцать пар обуви до конца смены, – объявлял он со своим гортанным акцентом, характерным для ереванского диалекта, к которому Сероп так и не привык.
– Какой размер? – часто спрашивал ответственный за поставку кожи.
– Тридцать восьмой женский, – отвечал Раффик.
– Не получится, у нас мало кожи и коричневой лайки.
– Ты уже сообщил об этой нехватке в центр?
– Месяц назад, товарищ.
– Но мы не можем не выполнить план, – повышал голос Раффик, при этом лицо его краснело от одной только мысли, что план не будет выполнен.
– Даже не знаю, как быть, товарищ.
Раффик поворачивался к окну, будто решение проблемы было написано где-то в небе.
– Будем делать детскую обувь, сделаем тридцать второй и тридцать третий размер. На них материала должно хватить, – предлагал он тогда.
– Не забывайте, что последний раз, когда мы изменили размеры без предупреждения, нам было поставлено на вид, – протестовал снабженец.
– Но мы можем улучшить раскрой, уменьшив отходы материала, – однажды утром вмешался Сероп, став свидетелем одного из подобных споров, которые никогда не заканчивались практическим решением. – Нужно просто переделать шаблоны. Мы так расточительно используем кожу и лайку! – не сдержался он.
Раффик окинул его холодным взглядом.
– Тебя никто не спрашивает, приятель, – сказал он с презрением.
Сероп научился благородному искусству башмачника у отца, Торос-ага, самого известного башмачника в Адапазары, в Турции. У него была самая красивая обувная лавка в центре города с элегантными витринами. На деревянной вывеске было написано: «Алтин Чичек» – «Золотой Цветок». Торос-ага шил обувь прямо в лавке, это были настоящие произведения искусства. Выполнив заказы, в свободное время он шил просто красивые туфли разных размеров и разных цветов, расставлял их на витрине на пурпурном бархатном покрывале, располагая модели разных оттенков с большим вкусом и чувством меры. Часто он выходил из лавки, прятался за ближайшим деревом и некоторое время наблюдал, какой эффект вызывали его работы у прохожих. Если никто не останавливался, Торос-ага возвращался в лавку и расставлял товар по-другому в надежде сделать его более привлекательным, чем раньше.
– Торос-ага, да ты художник, твои туфли так же прекрасны, как розы, – воскликнула однажды Эсме-ханум, жена одного богатея. – И более того, – добавила она, примеряя пасум на позолоченном каблучке, – они даже мягче павлиньих перьев.
Сероп, который наблюдал за сценой, стоя за прилавком, покраснел от гордости. Похвала отцу от турецкой женщины означала высокое признание его искусства.
Сероп начал помогать отцу еще ребенком. По вечерам, после школы, он приходил в лавку, приносил отцу немного фруктов и сыра и оставался там, наблюдая, как шьется обувь. Вскоре он стал подмастерьем, и отец обращался с ним как со взрослым, требуя от него максимального внимания и дисциплинированности.
– Всему этому я научился за долгие годы тяжелого труда, сын мой, – повторял он. – Так что можешь считать, что тебе повезло. Слушай внимательно и запоминай, потому что придет время, когда настанет твоя очередь делать всю работу!
Серопу хотелось плакать от одной только мысли, что однажды отец умрет, и он наклонялся к прилавку, делая вид, что ищет что-то, чтобы не заметен был влажный блеск его глаз. Под прилавком он вдыхал аромат кожи и немецкого клея, от которого кружилась голова, потом снова выныривал наружу и смотрел, как Торос-ага работает. Его умелые руки растягивали и резали, склеивали и били молоточком, сшивали и натягивали подкладку. Как по волшебству из ничего возникала туфля: кусочек кожи, жменя гвоздиков, несколько капель клея. По завершении работы был еще один ритуал, который Сероп очень любил. Торос-ага ставил туфлю на ладонь и нежно поглаживал ее, как отец гладит только что родившегося ребенка.
– Ты должен любить свою работу, любовь движет всем в мире, тянет, как на буксире.
Сероп не до конца понимал эти слова, но все равно внимательно слушал.
– Любовь и уважение. Уважение к природе, к бедным животным, которых приносят в жертву, чтобы заполучить их кожу. Ведь без них ничего этого не было бы. – Торос-ага заглядывал в глаза сыну: – Анадин ме, ты меня понял? – Спрашивал он по-турецки, будто хотел подчеркнуть важность разговора, и садился курить свой наргиле. – А самое главное, экономь. Расточительство – это грех, за который Бог наказывает, – заканчивал он, подкручивая черные усы.
– Нет, ну это ж надо, как он с тобой обошелся-то вчера? Этот Раффик – червь, мнит себя бог знает кем, только потому что у него влиятельные друзья.
Сероп осмотрелся с опаской. Они были одни в цехе.
– Это говеная страна, – комментировал Ампо.
У Серопа перехватило дыхание.
– Жду не дождусь, когда же вернусь в Америку. Воздух свободы!
Ампо подвинул табуретку поближе к Серопу и зашептал ему на ухо:
– Я бы все сделал, чтобы получить выездную визу. Но эти свиньи боятся, что, вернувшись, я разболтаю о всех их проделках Гарри.
– Кому? – прошептал в ответ Сероп еще тише.
– Гарри Труману, приятель, президенту Соединенных Штатов Америки. – Ампо иронизировал, когда хотел. – Я помог бы им в «охоте на ведьм». – И он сделал жест куда-то в сторону, должно быть туда, где собирались «ведьмы» коммунизма.
Сероп понимающе кивнул, постукивая пальцем по газете. Он густо покраснел, сердце его бешено колотилось.
– Сатен просила поблагодарить твою жену Дируи за яблочный пирог. Говорит, что теперь ваша очередь, вы должны обязательно прийти к нам на ужин.
Сероп не хотел, не мог продолжать разговор на политическую тему с Ампо, поэтому он решил поговорить о чем-нибудь вполне безобидном. Приятель выпрямился и смерил его взглядом, в котором сквозило презрение.
– Сатен настаивает, она хочет, чтобы вы пришли в это воскресенье. Приводите Эди, Габриэль будет очень рад. – Сероп намеренно повысил голос, чтобы коллеги, которые постепенно приходили на рабочие места, услышали.
Шептаться в этой стране было запрещено. Слишком подозрительно.
В то воскресенье Сатен поднялась рано. Она прибралась в доме, вытерла пыль в каждом уголке и вымыла пол, Габриэль и Новарт ей помогали. Девчушка с тряпкой в руке протерла каждую вещичку на комоде в гостиной.
Потом Сатен стала готовить ужин для гостей. Ее коронным блюдом, в котором ее никто не мог превзойти, были ишли-кюфта, котлетки из полбы и мяса, и хюнкар-бейенди, баклажанное пюре с мясным гуляшом. К счастью, Серопу удалось купить на рынке немного филе ягненка, без которого эти блюда невозможно было бы приготовить.
Вечером она покрыла стол кружевной скатертью, которую аккуратно выстирала и отгладила накануне. Тарелки и стаканы, правда, были теми же, которыми пользовались каждый день, потому что у них, к сожалению, не было хорошего фарфорового сервиза, так же как и хрустальных бокалов. Но Сатен надеялась, что качество ее стряпни компенсирует этот недостаток.
Селлианы пришли на пять минут раньше, когда Сероп был еще в тапочках. Как только он открыл дверь, Ампо хмыкнул, указывая на их стоптанные носки, выглядывавшие из-под штанин, тем более что в остальном хозяин дома был безупречен, включая галстук. Так что этот воскресный ужин начался с хорошего настроения. Все хвалили стряпню Сатен и пили красное вино «Арени».
– Ты счастливчик! – воскликнул Ампо. – Твоя жена не только красавица, но и прекрасная стряпуха. Смотри, какой стол, все просто чудесно.
Сатен поблагодарила, а после ужина Дируи, взяв ее под руку, уселась с ней на диван немного поболтать.
– Хочу попросить тебя сшить мне платье, я доверяю только тебе, в наших краях портнихи лучше нет, – пожаловалась Дируи.
Ампо смотрел на нее из другого конца комнаты, окруженный облаком сигаретного дыма, – он закурил из предложенной Серопом престижной пачки «Астра», предназначавшейся исключительно для гостей.
– Если у тебя есть ткань, я с удовольствием сошью тебе платье, – заверила ее Сатен, перехватив взгляд и довольную улыбку мужа.
Габриэль тем временем отвел Эди в свою комнату показать баян. Это был подарок отца и, хотя он был подержанный, блестел, как новенький. Серые мехи красиво сочетались с черной клавиатурой.
– Очень красивый. – Эди дотронулся до инструмента, не скрывая зависти. – А ты играть-то умеешь?
– Выбери любую пьесу, – с вызовом сказал Габриэль, указывая на сборник нот.
Эди выбрал самую трудную мазурку Глинки.
Новарт сидела поодаль без подружки, с которой можно было бы поиграть, так что время от времени она ходила среди гостей, привлекая к себе внимание.
– Тебе нравится моя кукла? – спрашивала она, переходя от одного к другому. Все гладили ее по голове и трепали за щечки, но она все равно чувствовала себя одиноко. – Значит, нравится? Я сама сшила ей юбочку, – настаивала она.
В этой группе людей у нее не оказалось роли, она была лишней, и тогда она придумывала что-нибудь, чтобы выставить себя напоказ.
Когда Новарт появилась с томиком в руках, Сатен сразу же встревожилась, будто должно было произойти что-то нехорошее. Сероп закашлялся и не переставал кашлять, даже когда девочка вложила книгу Уильяма Сарояна в огромные ручищи Ампо.
– Дядя Селлиан, ты же умеешь читать по-английски, почитаешь нам рассказы из этой книжки? – спросила она своим нежным и наивным голоском.
Эта сцена неизгладимо запечатлелась в памяти Серопа: заблестевшие глаза Ампо, подмигивание Дируи. И теперь, сидя в товарном вагоне с Габриэлем, направляясь бог знает куда, вероятно в Сибирь, он вспомнил ответ товарища Селлиана.
– Моя дорогая, эта книжка не для таких девочек, как ты, – сказал он Новарт, при этом так выразительно посмотрев на Серопа, что у того все похолодело внутри. В это время из соседней комнаты Габриэль, немного фальшивя, играл не слишком веселую мазурку.
Несколько дней спустя Селлианам была выдана желанная выездная виза, и они вернулись в Америку.
7
Патры, 1938 год
– Господин Капетанаки…
– Зови меня «товарищ».
– Товарищ, меня уволили.
– Я знаю, и многих других тоже уволили.
– Да, но у меня двое маленьких детей!
Профсоюзный деятель кивнул.
– Я думал, может, вы поговорите с хозяином, объясните ему мою ситуацию.
– Хорошо, я поговорю, – обещал тот, – хотя все и так знают твою ситуацию, – добавил он, теребя кончит бородки клинышком.
В зале послышался недовольный ропот. Кто-то выругался.
– Вообще-то я надеялся, что вы уже поговорили.
– Мы все живем в очень нестабильное время, – продолжил прерванную речь профсоюзный деятель, пытаясь перекрыть нарастающий ропот и делая жесты рукой, чтобы успокоить присутствующих. – Ситуация не обещает ничего хорошего не только в Греции, но и по всей Европе.
– Они уволили людей на Вессо и Ладопулос, – выкрикнул какой-то тип, еще более худой, чем Сероп.
– Товарищи! – Оратор повысил голос и ударил кулаком по столу, требуя внимания. – Наступают тяжелые времена! Этот наш брат – яркий пример того, что нас ждет. – И он ткнул пальцем в Серопа, стоявшего рядом с небольшой группой людей.
– Долой капитализм, за здравствует марксизм! – прокричали некоторые из них.
Всего в тот вечер в подвале фабрики, в тесном и мрачном помещении, насквозь провонявшем плесенью и средством от мышей, собралось около двадцати рабочих, впрочем, как и каждую последнюю пятницу месяца. Сероп посмотрел вокруг, спрашивая себя, что он там делает.
Пару лет назад к нему подошли у выхода из фабрики. «Вместе мы победим, – сказали ему тогда, словно пароль. И добавили: – Ты больше не будешь один, вместе мы преодолеем все трудности и будем бороться за право на труд». Слишком много красивых обещаний, много убедительных слов. И он пожертвовал часть своего ценного времени, чтобы участвовать в собраниях, ходить на манифестации и митинги, ничего не прося взамен. Чаще всего он садился в уголок и молча слушал рассказы о том, как изменится мир. Он слышал разговоры на прекрасные темы, о справедливости и равенстве, и замечал, что, в сущности, эти разговоры не сильно отличались от того, что всегда говорил ему Торос-ага. Но сегодня, стоя в этой орущей грубой и вульгарной толпе, он понял, что это была всего лишь болтовня и никакой конкретной помощи ждать не приходилось. Он не понимал, зачем эти лозунги, эти крепкие слова, эти оскорбления, летающие в воздухе.
Он должен был просто кормить семью и хотел знать, как теперь ему это делать…
– Извините! – закричал он, впервые возмутившись. – Я думал, что вы меня защитите. Другие рабочие, которых уволили, – пожилые, у них уже большие дети. Мне всего лишь двадцать восемь лет! – пожаловался он.
– Хозяева – звери! – закричал рядом с ним толстопузый тип с пожелтевшей от курения бородой. И тут же целый хор голосов присоединился к нему, клеймя и обзывая владельцев и управляющих фабрики. Впрочем, в такое время они могли это делать без опаски: в три часа утра начальство спокойно спало у себя дома.
Когда голоса утихли, глубоко опечаленный Сероп взял свой мешок, висевший на спинке стула, перекинул его через плечо и, извинившись перед соседями, стал пробираться к выходу.
– Куда ты идешь, товарищ? – окликнул его профсоюзный деятель, когда он был уже у двери.
– Мне нужна работа, господин Капетанаки, – ответил он, обернувшись, – а все остальное – что справедливо, а что нет – я и так знаю.
Он пошел к морю по дороге, освещенной серебряным светом полной луны.
Прошел мимо старинных оливковых садов с уродливо скрученными деревьями, так сильно склонившимися к земле, что казалось, будто они лежат. В стволе одного дерева он заметил дупло, похожее на улыбающуюся маску сатира.
Под веткой, полной олив, он остановился, сорвал две и положил в рот. Они были еще не очень приятные на вкус.
«Земля и солнце», – подумал он, пытаясь определить привкус неспелых оливок.
Он подержал косточки во рту, время от времени трогая их языком, и пошел дальше, обойдя огород с помидорами и баклажанами, а потом поля инжира, миндаля и апельсинов.
– Бог велик, и дары Его неиссякаемы, – сказал он, осеняя себя крестным знамением. Затем он поднял голову и поверх крон деревьев увидел купола церкви Святого Андрея, сверкавшие под лунным светом.
Эту церковь, настоящую жемчужину города, самую красивую и богато украшенную, вторую по красоте после Святой Софии в Константинополе, Сероп хорошо знал. Он часто ходил туда помолиться, вставая на колени перед иконой, на которой был изображен святой с белой бородой, распятый на деревянном колесе. Сероп вздрагивал от одной мысли оказаться там, где принял мученическую смерть этот человек, и долго стоял так, не двигаясь, рассматривая обеты, оставленные верующими за полученную милость: изображения ноги, глаза, тела.
– Святой Андрей, – взмолился он, глядя в небо, – помоги мне!
Он попытался было залезть во двор церкви и подождать, когда откроют тяжелые двери, чтобы впустить пришедших в город паломников, в том числе и иностранных, которые обычно спали во внутреннем дворике. Но ночной воздух заворожил его, эта свежая бодрящая влага толкала его вперед, поэтому он повернул направо и вдоль моря направился к кораблям, чьи очертания нечетко просматривались в тумане зарождавшегося утра.
В тот час в порту было полным-полно народу.
Серопа удивило, что люди были отнюдь не сонные: на самом деле они еще и не ложились спать. Два шлюпа и один парусник с высокими мачтами стояли на якорях у центральной пристани. Шеренга грузчиков, потных и уставших, передавала друг другу деревянные ящики. Кто-то напевал в ритм работе.
«Эй, вира, эй, майна», – слышалось отовсюду в порту.
Сероп остановился, чтобы посмотреть. Молодой парень, почти еще ребенок, работал энергично и старательно. Он легко подбрасывал ящики, будто они были пустые, но, как только они попадали в руки следующему грузчику, сгорбленному тщедушному старику, казалось, они неожиданно наполнялись доверху. Один из ящиков выскользнул у него из рук и упал в море. Бедняга завыл, как собака. Грузчики остановились, смотритель выругался и, подойдя к старику, ударил его несколько раз плеткой, которая обычно торчала у него за поясом. Старик, как две капли воды похожий на Святого Андрея с его белой бородой, покачнулся и осел на землю.
– Справедливость и равенство! – горько улыбнулся Сероп.
Возмущенный этой сценой и в то же время подавленный, он пошел дальше куда глаза глядят. У него не было определенной цели, он просто бродил по своему городу, страстно желая получше его рассмотреть. Уже несколько лет он не позволял себе обыкновенной прогулки.
В конце концов он углубился с преувеличенной уверенностью в давно забытые узкие и длинные, как кишки, переулки старого города. Неясные тени скользили по углам, останавливались под портиками и шептали слова, которые у него не хватило бы духу повторить, вызывая отвращение, но в то же время искушение. Женщины и мужчины предавались жарким объятиям без стеснения, заставляя его краснеть от стыда. Ему никак не удавалось принять равнодушный вид, и тогда Сероп спрятался в первом попавшемся кабаке. Его встретили печальные звуки бузуки[24].
В кабаке было полно народу, теснившегося за немногими грязными столами. Мужчины курили, дружески хлопали друг друга по спине, смеялись во весь голос и говорили женщинам пошлости. В глубине зала была небольшая сцена, на которой молодой музыкант терзал свой бузуки, а рядом с ним красивая и пышная девушка в облегающем платье выводила рулады сильным и чистым голосом.
– Моя нежная пташка, ты сводишь меня с ума, – пела она, постукивая бубном по туго обтянутым бедрам.
– Маноула моу еси, лакомый кусочек мой! – закричал какой-то мужчина, бросив блюдо к ее ногам. Вокруг нее и без того уже было полно осколков разной посуды, которую, по греческой традиции, бросали к ногам артиста, дабы выказать свой восторг.
Сероп вздрогнул.
– Посторонись! – толкнул его официант с множеством тарелок в руках.
Сероп замер в центре зала, принюхиваясь к ароматному дымку от мусаки[25]. Он почувствовал, что устал и голоден. Он был на ногах и без крошки хлеба во рту уже целые сутки.
– Сероп! – позвал его кто-то.
Он, щурясь, осмотрелся по сторонам и сквозь туман табачного дыма разглядел осунувшееся лицо Живана, водителя фабрики Марангопулоса.
– Что ты здесь делаешь? Садись со мной, – пригласил тот.
– И выпей стаканчик, – добавил чуть позже Живан, наливая ему раки[26].
– Нет, брат, я уже и так выпил лишку мосхуди, – промямлил Сероп.
– Брось, это лучше любого лекарства, дезинфицирует вены, – настаивал тот и, подняв стакан, сунул его под нос Серопу.
Сероп взял, посмотрел на блестящую лысую голову Живана и одним залпом выпил самогон.
– Что, уже лучше, не правда ли?
Сероп кивнул.
– Да, но все-таки это последний, иначе мне не хватит денег заплатить… – с трудом проговорил он, прерываемый икотой.
– Кстати, – Живан неожиданно перешел на шепот и придвинул стул поближе к Серопу, будто собирался открыть ему какой-то секрет, – что тебе сказал Мартирос? Он поможет?
– Ничего важного, – ответил Сероп. С того вечера в подсолнухах он видел его всего раз, когда маклер одолжил ему один из своих шикарных костюмов для семейной фотографии.
– Вот негодяй! – выругался Живан, выдохнув на Серопа дым сигареты. – Только прикидывается крутым, а на самом деле он тряпка. Сказал мне, что поговорит с тобой об одном дельце.
– Да, он назвал мне имя одного итальянца, которому я могу показать мои кундуры.
Живан разразился таким громким смехом, что соседи повернулись в их сторону.
– Какие кундуры?
Сероп постарался сесть на стуле поровнее и посмотрел приятелю в покрасневшие мутные глаза.
– И он ничего не сказал тебе о ребенке? Вот это действительно дельце! – Живан поднял воротник своей куртки, отгородившись от остальных, и прошептал: – Три тысячи драхм, это ж целое состояние. Я мог бы жить пять лет не работая.
– О чем ты говоришь, приятель?
– У тебя их двое, избавишься от одного, все равно он еще слишком маленький, вряд ли ты привязался к нему. И потом, – закончил он с глупой улыбкой, – у тебя с одного раза получается заделать двойню.
Сероп почувствовал, как внутри у него все перевернулось и сжалось. Он едва не потерял сознание.
– Заткнись, идиот, – зашипел он, не сдержавшись.
– Зови меня идиотом! – ответил тот, сплюнув на пол. – Когда вы подохнете от голода, ты, твоя распрекрасная женушка и ваши чудные детки, тогда ты сам поймешь, кто тебе настоящий друг. Я предлагаю тебе выход, потому что с тобой уже все кончено, теперь увольняют повсюду.
Сероп застонал от отчаяния.
«Ты ко мне на коленях приползешь!» – последнее, что он слышал, прежде чем рухнуть в забытьи на стол, опрокинув кофейник и стаканы.
«Только во сне мы можем знать, что еще живы. Только там, в живой смерти, мы можем встретить самих себя и далекие земли, Бога и святых, имена праотцов наших, сущность далеких мгновений».
Люси положила книгу на стол и посмотрела в глаза Сатен. Она не могла понять, был ли взгляд молодой женщины таким отсутствующим под впечатлением завораживающего текста Сарояна или же собственные мысли уводили ее куда-то далеко. Она была знакома с Сатен уже несколько недель. Они вместе провели немало времени, она практически перевела для нее почти весь рассказ (впрочем, это была история всего на нескольких страницах), но так и не могла понять, что творилось в ее голове.
Конечно, Сатен была всегда приветлива и добра, но часто случалось, что взгляд ее становился грустным и она мрачнела, будто нехорошие мысли осаждали ее.
– Все в порядке? Хочешь, чтобы я продолжала? – спросила Люси в тот день.
Сатен с трудом улыбнулась:
– Да, хотя…
Люси взяла ее за руку.
– Поговори со мной, прошу тебя, – попросила она с искренним интересом.
Сатен высвободила руку и прикрыла рот, будто хотела запретить ему произносить какие-либо звуки.
– Иногда обмен двумя словами может только пойти на пользу, – настаивала подруга.
– Я так несчастна, – неожиданно сказала Сатен, покачав головой. – Несчастна… – повторила она, всхлипывая.
Люси опешила от такого неожиданного поворота. Она пыталась сказать что-то, но не находила подходящих слов. Тогда она просто обняла Сатен, как сестру. Ей хотелось успокоить ее, дать понять, что она не одна.
Но Сатен вся напряглась: до сих пор ни одна женщина не обнимала ее, и этот жест смутил и встревожил ее. Даже Розакур, которая заменила ей мать и очень любила ее, никогда не позволяла себе лишней ласки.
Она резко отстранилась от Люси, быстро вытерла слезы, вскочила и подошла к раковине. Но сообразив, что там ей нечего делать, обернулась и сделала вид, что проверяет детей, безмятежно спящих в своей люльке.
– Вероятно, я просто устала, – извинилась она, снова садясь за стол.
– Конечно.
– Устала быть одна, – добавила она. – Если бы я могла хоть поговорить с мужем… Ему бы тоже это не помешало, я уверена. Он потерял работу, и думаю, что ему сейчас хуже, чем мне.
– Мне жаль, – тихо сказала Люси, пораженная этим признанием и доверием, которое так неожиданно ей оказали.
Сатен кивнула с горькой улыбкой:
– Вчера он не вернулся домой, всю ночь провел неизвестно где. Я ждала его, волновалась, не могла же я пойти искать его, оставив двух малышей одних? – Она снова сдержалась, чтобы не заплакать. – А когда он пришел, – продолжила она, покачав головой, – он него несло, как от свиньи, и вся одежда была в грязи. Наверняка свалился где-то по дороге, потому что был настолько пьян, что едва держался на ногах. – Она осеклась, живо вспомнив всю сцену. – И как только я спросила, где он ходил, он набросился на меня. «Ты шлюха», – сказал он и дал мне пощечину. «Кто ты такая, чтобы лезть в мои дела?» – кричал он и обзывал меня по-всякому, пока не проснулись дети.
У нее дрогнул голос. Сатен опустила голову и, наконец не выдержав, расплакалась.
– А ты, что ты ему сказала?
– Ничего. Я хотела поговорить с ним, но уважила и промолчала.
– А если бы не промолчала, то как бы ответила тогда?
Сатен посмотрела на маленький умывальник с надписью «калимера», потом отвлеченно провела рукой по кровати, на которой сидела.
– Я бы сказала ему: я засыпаю и просыпаюсь рядом с тобой, я разделяю твои мечты и твои страхи, охраняю каждый твой вдох по ночам, мы становимся одной плотью, когда обнимаем друг друга. Ты мой муж, а я – твоя жена.
Люси слушала молча и с уважением.
– Знаешь, – продолжила Сатен, слизнув слезу, которая задержалась у нее на губе, – когда я согласилась выйти за Серопа, я думала, что моя жизнь изменится. Я надеялась найти настоящего друга. Я всегда была одна, без сестер и братьев, без семьи. Меня не тяготит бедность, но одиночество, обос… – она запнулась.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Младотурки – политическое движение в Османской империи, членом которого был Мустафа Кемаль Ататюрк. В сентябре 1922 года турецкие войска под командованием Ататюрка вошли в Смирну (современный Измир), после чего началась резня греческого и армянского населения города. Тринадцатого сентября в Смирне начался пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший христианскую часть города. В ходе резни и последующих событий погибло около 200 тыс. человек. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
2
Ая-Варвара – город в Аттике, юго-восточной области Средней Греции.
3
Memleket (тур.) – страна, государство.
4
Понт – северо-восточная область Малой Азии.
5
Джара (ит. giara) – глиняный кувшин с двумя ручками.
6
Ориорд (арм.) – старая дева.
7
Бурма (тур.) – крученые ювелирные изделия.
8
Майрик (арм.) – мама.
9
Наргиле – у восточных народов курительный прибор, сходный с кальяном.
10
Пирей – город в Греции, на Эгейском море, административный центр Атики.
11
Эрзерум, или Эрзурум – город на северо-востоке Турции, на территории западной части исторической Армении.
12
Отборные шоколадные конфеты от Барни (англ.).
13
«Отважный молодой человек на летающей трапеции», Уильям Сароян (англ.).
14
Манчук (арм.) – племянник.
15
Тзенунд (арм.) – Рождество.
16
Один из шести исторических районов Венеции. Расположен между центром города и лагуной.
17
Квестура – в Италии территориальное управление полиции.
18
ABGU: Armenian General Benevolent Union (англ.) – армянская некоммерческая организация, основанная в апреле 1906 года в Каире, Египет. С началом Второй мировой войны штаб-квартира организации располагается в Нью-Йорке.
19
Энкер (арм.) – товарищ.
20
Тикин (арм.) – госпожа.
21
Сумах, или сумак – специя из сушеных молотых ягод одного из видов сумаха красновато-бордового цвета с кислым вкусом. Применяется в турецкой кухне для заправки салатов.
22
Мхитаристы – армянский католический монашеский орден.
23
Крунер (англ.) – эстрадный певец, исполнитель сентиментальных песен, придерживающийся принципов свинговой фразировки. Первоначально крунеры выступали в сопровождении биг-бэндов.
24
Бузуки – струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лютни.
25
Мусака – традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.
26
Раки – виноградный самогон.