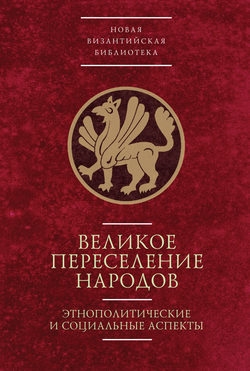Читать книгу Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты - Антон Анатольевич Горский, А. А. Горский, Вера Буданова - Страница 4
Германцы в эпоху Великого переселения народов
Судьбы германских племен на первом этапе переселения
ОглавлениеОпустошительные Маркоманнские войны (166–180 гг.) открывают новый этап конфликтов и столкновений Империи с германцами. Одновременно они явились толчком к массовым передвижениям и их вполне правомерно считать началом Великого переселения народов. Но только ли германцы и они ли втянули в водоворот передвижений фракоиллирийские, сарматские, гуннские, славянские племена? Германцы – начало Переселения, но не единственный его источник, механизм и движущая сила.
Отсчет эпохи Переселения от Маркоманнских войн определяется не только тем, что в ходе этих войн различные племена стали селиться на землях Империи. С этого времени начались необратимые процессы как в самой Империи, так и в варварском мире в целом, в том числе и у германцев. Государственный механизм Империи уже не мог полноценно функционировать без варваров-германцев. Так же и в племенном мире именно благодаря Империи все более рельефно выступало то общее, что объединяло и разделяло племена. Маркоманнские войны справедливо считают рубежом в истории Римской империи, после чего отмечается ее постепенный закат. Угасание Империи длилось на протяжении более чем трехсот лет и сопровождалось периодами военных взрывов и стабилизаций.
После Маркоманнских войн большинство германских племен окончательно потеряло свою независимость. Этот мучительный процесс длился несколько столетий и для различных племен имел свои специфические особенности. С другой стороны, в ходе этих войн шло образование крупных племенных союзов, которые отличались полиэтничностью. С этого времени у германцев начался процесс формирования «больших» племен.
Исследуя Маркоманнские войны, можно видеть, что с конца II в. театр военных действий постепенно перемещается в Центральную Европу. Это вовсе не значит, что передвижения и натиск племен на западе затихают. В целом в этом регионе они становятся для Империи менее ощутимыми, ибо по последствиям Маркоманнские войны, в сравнении со всеми прежними конфликтами, не имели себе равных[153]. Империя выстояла и на этот раз, но победа ей досталась с трудом. В честь этой победы была поставлена 30-метровая колонна Марка Аврелия (сохранившаяся в Риме до сих пор на «Площади Колонны»). На ней в рельефах воспроизведены важнейшие события Маркоманнских войн.
Основные действия развернулись на дунайской границе в районе Паннонии. Одновременное выступление большого числа различных племен расценивалось современниками как подобие заговора[154]. Большинство племен, принявших участие в войнах, обитало в непосредственной близости с Империей у Реции, Норика и Паннонии. Благодаря своему естественному географическому положению эти районы с самой глубокой древности являлись живым перекрестком, где скрещивались, переплетались и наслаивались отдельные этносы. Хавки жили в это время западнее Рейна и в долине р. Везера. Хатты обитали в области Нижнего Майна. Земли Чехии и Моравии занимали маркоманны и квады. Севернее Реции у истоков Эльбы находились гермундуры и наристы. В горах Словакии и по течению ее рек обитали котины, озы и буры. У восточных границ Дакии размещались роксоланы, на северо-востоке Дакии – костобоки. Устье Дуная занимали бастарны и певкины. Виктуалы, асдинги, лакринги, лангобарды, убии вели наступление на Империю из нижнего течения Эльбы, Одера, Вислы и районов Скандинавии. Аланы пришли из северокавказских областей[155]. Как видно, этнический состав вторгавшихся был разнообразным. Здесь встречаются сарматские, иллирийские, возможно, славянские племена. Однако по количеству племен, вовлеченных в военные действия, выделяются прежде всего германцы. Главную опасность среди них представляли маркоманны и квады. Особенно упорную войну с ними вел император Марк Аврелий, начав ее в 166 г. и закончив в 180 г. Маркоманны и квады проникли в Паннонию, в 166 г., пройдя Рецию и Норик, они перешли через Альпы и прорвались в Северную Италию. Первым крупным городом, которому угрожало завоевание, оказалась Аквилея, был сожжен Опитергий (нын. Одерцо) и возникла угроза Вероне. Однако римскому полководцу Патерну удалось справиться с варварами и отбросить их за пределы Империи[156].
Серии вторжений подверглись Дакия, Верхняя Мёзия, Норик и Реция[157]. Маркоманнские войны заняли несколько лет. Периоды военных действий сменялись затишьем. Мирные передышки Империя использовала для строительства военных укреплений в различных районах от предгорий Альп и до Понта, а также для проведения мобилизационных мероприятий по набору солдат в два новых легиона[158].
В 166–167 гг. часть германского племени лангобардов и присоединившиеся к ним убии прорвали лимес в районе Нижней Паннонии и вторглись вглубь этой провинции. Однако они были отброшены римскими войсками и вернулись на родину[159].
Отличительная особенность Маркоманнских войн состояла в том, что фронт военных действий переместился в Центральную Европу. Основной удар на этот раз пришелся по провинциям Паннонии, Норике, Реции, которые на протяжении Великого переселения народов довольно часто были «коридором» прорыва германцев в Италию. Обратим внимание и на то, что среди вторгавшихся начинают играть более активную и заметную роль восточногерманские племена, в частности лангобарды.
Согласно преданию, лангобарды имели скандинавское происхождение[160]. Время их миграции к южному побережью Балтийского моря до сих пор остается спорным. Вплоть до V в. н. э. основными районами расселения лангобардов были земли по обоим берегам нижнего течения Эльбы[161]. На северо-западе их соседями были хавки, на западе – ангриварии.
Лангобарды оказали сопротивление войскам Тиберия[161] [162], входили в союз племен Маробода, в войне 17 г. н. э. были союзниками херусков[163].
После того, как лангобарды были выдворены из Паннонии и было остановлено вторжение маркоманнов и квадов в Северную Италию, Империи удалось заключить мир с какими-то одиннадцатью племенами[164]. Несмотря на то, что инициатива исходила от германцев, все же этот мир не принес спокойствия. Паннония продолжала оставаться основным районом германской экспансии. Были разрушены и сожжены некоторые города, в 170–171 гг. уничтожены 20 тыс. солдат верхнепан-нонского войска[165].
В 172 г. Империя развернула наступление, но уже на территории германских племен. Этому рейду вглубь варварского мира была предпослана победа в 171 г. над квадами и заключение с ними мира в 172 г.[166]По условиям мира квады не должны были давать в своей стране убежища маркоманнам, с которыми Империя вела еще военные действия. Они обязаны были вернуть римских пленных. Однако квады выдали не всех пленных, а только тех, которых нельзя было продать или использовать на работе, приняли в свою страну бежавших от римлян маркоманнов и прогнали своего конунга римского ставленника Фурция, избрав конунгом Ариогеза[167]. И прежде квады были одним из наиболее надежных союзников маркоманнов. Видимо, их сближало не только общее свевское происхождение[168]. До Маркоманнских войн квады находились в зависимости от римлян: их конунги утверждались в Риме. Дружеские отношения с Империей зачастую прерывались многолетней враждебностью[169]. На протяжении III–IV вв. вместе с другими племенами квады осуществляли вторжения в подунайские области Империи[170].
Маркоманнские войны втянули в конфликт с Империей не только лангобардов, но и ряд других восточногерманских племен. Так, у северо-западной границы Дакии появились племена вандалов. Ранее они жили в юго-западной Скандинавии и Ютландии. Во II в. до н. э. вандалы пересекли Балтийское море и осели между Нижней Эльбой и Вислой, затем двинулись на юг по верхнему и среднему течению Одера, где и находились с I в. до н. э.[171] Вандалы делились на асдингов и силингов. Силинги располагались на территории нынешней Силезии, асдинги – к востоку от Верхней и Средней Тисы[172]. В 171 г. асдинги просили разрешения поселиться в Дакии. Вначале им отказали, и тогда асдинги, поручив своих жен и детей наместнику Дакии, напали на костобоков и захватили их страну. В свою очередь, лакринги[173], боясь усиления асдингов, напали на них. Остатки разбитых асдингов Империя поселила на северо-западе Дакии [174]. На протяжении III в. вандалы неоднократно устраивали нападения на Паннонию и Рецию. С переменными успехами их вторжения отражали императоры Проб и Аврелиан[175]. В IV в. вандалы расселились в Паннонии и, проживая здесь, поставляли наемников в римскую армию[176].
В ходе Маркоманнских войн одновременно с вандалами против римлян выступили и племена костобоков, этническая принадлежность которых до сих пор остается спорной[177]. В 171 г. эти племена вторглись в Нижнюю Мёзию и, опустошая все на своем пути, прошли через Фракию и Македонию, достигнув Греции. Против костобоков была предпринята карательная экспедиция. Возможно, римские войска тогда достигли верхнего течения Днестра. В Риме в качестве пленных или заложников оказалась семья конунга костобоков[178].
Осенью 173 г. маркоманны были окончательно подчинены Империи, однако маркоманнский этап Переселения на этом не закончился, так как в Верхней Паннонии и Реции шли бои против наристов, небольшого германского племени[179]. И когда они были разбиты, то остатки их в количестве трех тысяч расселились, очевидно, в Паннонии[180]. И еще одно восточногерманское племя приняло участие в финале Маркоманнских войн. Это племя буров, которых Империя победила в 178 г. и вынудила заключить с ней в 179 г. мирный договор[181]. К I в. н. э. это племя размещалось в верховьях реки Одер[182]. До Маркоманнских войн буры поддерживали с Римом дружеские отношения. Было ли случайным их участие в войне, или они были «прижаты» к римской границе передвижениями своих сородичей готов, сказать трудно.
Вскоре на рубеже 179/180 гг. вспыхнул конфликт между квадами и маркоманнами. Основные события происходили на территории этих германских племен. Однако император Коммод вмешался, довольно быстро погасил конфликт и заключил с маркоманнами мирный договор[183]. По условиям мира маркоманны обязывались поставлять Империи солдат во вспомогательные войска[184]. Военнопленные маркоманны в качестве колонов были расселены в районе Равенны[185]. И в дальнейшем в III–IV вв. маркоманны неоднократно вторгались в Норик и Паннонию. Часть их осела в этих местах[186]. Вплоть до середины III в. маркоманны подчинялись власти конунга, избираемого народом, но утверждаемого Римом. Конунг и вожди составляли их племенную аристократию[187]. Маркоманны известны как опытные воины, умелые земледельцы, скотоводы и ремесленники. Со времен Марка Аврелия и особенно после Маркоманнских войн они вели активную торговлю с Империей.
После маркоманнского «взрыва» II в. взаимодействие германцев с Римом значительно расширилось и интенсифицировалось практически по всем наметившимся ранее направлениям. Теперь оно представляло собой уже не мозаику разрозненных явлений, а единое целое – Великое переселение народов. Barbaricum solum и Римская империя функционируют как самостоятельно, так и взаимодействуя между собой в единой системе связей. Основной формой контактов оставалась война, военные столкновения и конфликты. Война, как проявление силы, накладывала отпечаток на характер всех связей. Они определялись и регулировались условиями мирных договоров, выполнение которых жестко контролировалось военными властями Рима. Усилилось значение границы как линии, отделявшей римлян от варваров[188]. Всем племенам запрещалось селиться в пограничной полосе от 8 до 15 км вдоль левого берега Дуная, обрабатывать здесь землю и пасти скот. На отдельных участках лимеса были сооружены крепости, бурги и stationes.
В Маркоманнских войнах приняли наиболее активное участие как раз те племена, которые располагались поблизости от Норика и Паннонии. Эти провинции выдержали значительные удары со стороны германцев. Вряд ли случайно, что именно Норик и Паннония занимают решающее место в торговле с германцами[189]. После Маркоманнских войн торговля с германскими племенами также перешла под контроль военных. Под их же наблюдением находились как военные, так и торговые дороги, которых было к этому времени огромное количество. Германские племена были для Рима объектом импорта бронзовых, стеклянных и керамических изделий, украшений из золота и серебра, вина[190]. Римлянам разрешалось продавать германцам все, кроме железа, оружия, хлеба и соли. Германцы поставляли на рынки Средиземноморья зерно, лошадей, быков, коров, овец[191]. Торговля проходила на границе в определенные дни в специально отведенных для торговых операций местах и в лагерных городах канабах под присмотром легионов. Переходить Дунай по торговым делам в любом месте запрещалось[192]. Но уже к началу III в. торговые дни были отменены и германцам запретили торговать на римской территории. Все торговые операции могли проходить только за пределами Империи.
Римлянам торговля с германцами приносила не только экономические, но и политические выгоды. Торговые контакты позволяли ближе познакомиться и изучить эти племена, присмотреться к этому потенциальному противнику. Римские купцы проникали вглубь варварской земли. При этом немалая часть доходов от торговли концентрировалась в руках варварской знати. В одних случаях это сдерживало стремление варваров к грабежам и вторжениям в римские пределы. В других – стимулировало новые рейды в Империю в поисках добычи. Римские купцы несли германцам не только товары, но и античный менталитет, который постепенно подрывал стабильность составляющих элементов германского мировосприятия, в основе которого лежала иная по своей природе, направленности и функциональному предназначению традиция. Перемены в поступках, обычаях и ритуальной практике суть изменения мышления. Образ мыслей строился на культовых традициях и не мог быть изменен военно-политическим давлением. Мирные торговые контакты диктовали и определяли иные человеческие действия и поступки, постепенно создавая предпосылки для изменения отношения германцев к окружающему их миру, в том числе и к Империи.
Постепенной романизации отдельных германских племен способствовало и принятие их на службу во вспомогательные войска. Чаще всего они служили в коннице или подразделениях сторожевой охраны в римских бургах. Однако самое главное заключалось в том, что после Маркоманнских войн Империя впервые стала в широких масштабах селить германцев на своих опустевших от войн и эпидемий землях[193]. Естественно, что разрушительным воздействиям в наибольшей степени подверглись германские племена, жившие в зоне активных контактов с Империей, непосредственно у ее границ. Но и на более отдаленные племена римлянам удавалось распространять свое влияние, хотя и более гибкими методами. Одним давалось право римского гражданства, другим – освобождение от натуральных поставок в пользу Рима, третьим – римляне сами обязывались поставлять продовольствие и субсидии, очевидно за предоставляемые воинские контингенты[194]. Такое дифференцированное отношение Рима к германцам затрудняло процесс консолидации последних, стимулировало соперничество между племенами и в конечном итоге в будущем явилось источником не одной взрывоопасной ситуации.
Бурный и беспокойный III в. явился ключевой фазой первого этапа Переселения народов. На широком фоне племен всего европейского региона, включавшего кельтские, иллирийские, славянские, сарматские, тюркские этнические компоненты, германский этнический фактор не всегда лидировал. Но к началу III в. германские племена оставались наиболее активной частью варварского мира. В их передвижениях появилось две характерные черты. Первая связана с племенами восточных германцев. Именно они, начиная с III в., действуют как своеобразный камертон миграционной активности, усиливая, или, наоборот, ослабляя, иногда даже полностью пресекая свойственную германцам от природы склонность к энергичным действиям. Восточные германцы позже других вступили в активный контакт с Империей. Однако и в силу того, что Империя была уже измотана, и потому, что свежие силы наносили ей удары на весьма отдаленных от Италии рубежах, натиск восточногерманских племен оказался более эффективным, чем вторжения их западных сородичей.
В динамику Великого переселения германцы вносили разрушительное начало. Но разрушая, они создавали условия для рождения новых народов, новых государств, способствовали созданию нового стиля взаимоотношений небольших этно-потестарных образований с великим государством. Передвижения германцев – это не только освоение ими новых географических пространств. Для данной исторической эпохи миграция представляла собой стимулирующий фактор прогресса в экономической практике, в сфере культурных связей, в динамике этнических процессов.
Второе отличие заключалось в том, что на протяжении III в. германские вторжения в Империю осуществлялись главным образом в двух направлениях: рейнско-дунайский лимес и балкано-малоазийские провинции. Центрально-европейский регион был в это время зоной активных действий в основном сарматских племен. У германцев набирали силу объединительно-разделительные тенденции, которые в дальнейшем завершились образованием «больших» племен. Более подробно об этом будет сказано в следующем разделе. Отметим лишь, что процесс консолидации, коснувшийся аламаннов, лангобардов, франков, саксов, готов, начал подходить к качественно новой стадии. В одних случаях племя, ставшее ядром объединения, силой присоединяло и поглощало мелкие племена, оставаясь по структуре разросшимся крупным племенем; так было у бургундов, лангобардов, вандалов. В других случаях путем добровольной интеграции возникал союз равноправных племен и его название означало не какую-либо однородную племенную общность, а целую совокупность разнородных племен; таковы франки, аламанны, готы[195]. Возникновение более стабильных по сравнению с I–II вв. племенных союзов положило начало образованию устойчивых этнических общностей с особой территориально-политической организацией[196].
Интерпретация событийной стороны миграционных процессов III в. зависит в значительной мере от степени полноты и насыщенности фактическим материалом наших источников. Однако письменные свидетельства скудны и фрагментарны. Этническая атрибуция археологических памятников спорна и противоречива. И все же системное их использование, включая эпиграфический и ономастический материал, дают некоторую возможность исследовательского анализа.
К III в. этно-географическая карта Barbaricum solum выглядела следующим образом. В междуречье Дуная и Рейна и в прилегающих к нему районах обитали аламанны. У границ Реции размещались ютунги. Восточнее их на территории современной Чехии и в некоторых областях Моравии жили маркоманны. Равнины Западной Словакии являлись местом обитания основного ядра племени квадов. У верховьев Тисы размещались вандалы-асдинги и гепиды. В междуречье Дуная и Тисы сосредоточилось многочисленное сарматское население, пришедшее сюда из степей Поволжья и Северного Причерноморья. У северных пределов Дакии размещались племена бастарнов, на северо-западе – свободные даки. У восточных рубежей этой провинции находились карпы, аланы, готы. Сюда же шел приток славянского населения[197].
После Маркоманнских войн угроза нападения на Империю германцев снова реально обозначилась в начале III в. Исходила она от военно-политического союза аламаннов. Это имя впервые встречается при описании германского похода императора Каракаллы в 213 г.[198] и обозначает военно-политический союз германских племен и племенных групп, живших между Дунаем, Верхним Рейном и Майном[199]. В состав аламаннского объединения входили гермундуры, семноны, ютунги, брисигавы, буцинобанты[200]. Сплочение германцев вблизи границ Империи вынудило римлян принять меры по ликвидации потенциальной опасности. Каракалла, готовясь к войне, укреплял кастеллы, собирал вексилляции легионов и вспомогательных частей, приведя легион даже из Египта. Объединение аламаннов в то время еще только складывалось, и более вероятно, что победа над ним досталась Каракалле без особых усилий. Аламаннов он разбил, но потерпел поражение от другого германского племени – хаттов и вынужден был откупиться от них[201]. В 233–234 гг. усилились набеги аламаннов на Декуматские поля. Начиная с 231 г., когда часть римской армии ушла с Рейна на войну с Персией, вторжения германцев в этих районах становятся все более массированными и опустошительными. Аламанны причинили немало беспокойств в районе Лугдуна. От их набегов пострадала и Реция[202]. В 235 г. император Максимин Фракиец предпринял поход и нанес аламаннам ряд поражений[203]. После 242 г. растет напряженность на ретийском участке границы, с 254 г. аламанны усилили набеги на Верхнюю Германию[204]. Одновременно начинаются передвижения племен на Нижнем Дунае, связанные с появлением здесь готов.
Готы в начале н. э. жили на южном побережье Балтийского моря и по Нижней Висле. С конца II в. готы начали передвигаться на юг и юго-восток, к границам Римской империи, которых они достигли в начале III в., а также в район Меотиды и в Крым, где готы появились в первой половине III в. Маршрут движения готов с севера на юг до конца не ясен. Их движение к Приазовью шло через Полесье и какую-то область Скифии, называемую Иорданом Ойум[205]. Ее локализация остается спорной. Античные авторы подразделяли племена готов на «визиготов», «остроготов», «грейтунгов», «тервингов» и размещали их в Подунавье, Приазовье, на Нижнем Днестре. Среди готских племен в рассматриваемое время выделялись знатные фамилии Амалов, Балтов, род Гебериха[206]. Отдельные отряды готов, вероятно, могли появиться на Балканах уже в конце II – начале III в.
Данные источников о готах III в. немногочисленны, фрагментарны, зачастую недостаточно конкретны. Одно из первых вторжений военного союза готов в Империю произошло на Балканах. Северо-восточная часть этого региона открыта в сторону причерноморских степей и практически составляла с ними неделимое целое. Эти территории Балкан могли быть местом притока и скопления готов и других пришлых племен. Они являлись исходным пунктом вторжения в Империю многих народов, хотя гораздо удобнее было использовать прибрежные районы. Северо-восточная часть региона, включающая оба берега Дуная, через ряд рек выходила к морскому побережью. Отсюда открывался путь к Эгейскому и Мраморному морям, северо-западным областям Малой Азии и южному побережью Понта. Это была стратегически важная область для вторжений в Империю и готы не замедлили ею воспользоваться. По сравнению с другими германскими племенами отношения Империи с готами развивались стремительно. Уже в 242 г. они в составе вспомогательных войск принимают участие в войне с персами[207]
153
SHA. у. Маге. 17, 1. Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае. I–IV вв. н. э. М., 2000. С. 105.
154
SHA. у. Маге. 22, 1; Чаплыгина Н.А. Население Днестро-Карпатских земель и Рим в I – начале III в. н. э. Кишинев, 1990. С. 67–68.
155
SHA. у. Marc. XXII. 1; v. Did. Jul. I. I. 7–8; Dio Cass. LXXI. 3, la; 11, 6; 12, 1; Колосовская Ю.К. Паннония в I–III веках. M., 1973. С. 217–218.
156
Dio Cass. LXXI. 3, 2; Amm. Marcell. XXVIII. 6, 1.
157
Dio Cass. LXXI. 3, 1; 13, 3; 20; SHA. v. Marc. 14, 1–3; 27, 10; Amm. Marcell. XXIX. 6, 1; Krüger В. Innergermanische Stammesauseinandersetzungen und Einfälle in das römische Provinzialgebiet // Die Germanen: Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. Berlin, 1976 (далее – Die Germanen). Bd. 1. S. 536.
158
Колосовская Ю.К. Паннония в I–III веках. С. 218; Petersen L. Überblick über Entstehung und Entwicklung der römischen Provinzen am Rhein und an der oberen Donau im 1. und 2. Jahrhundert // Die Römer an Rhein und Donau. Berlin, 1975. S. 57–58.
159
Dio Cass. LXXI. 3, la: Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen. München, 1934. S. 103; Bona I. Der Anbruch des Mittelalters: Gepiden und Langobarden im Karpatenbecken. Budapest, 1976. S. 22.
160
Fredeg. III. 65; Paul. Hist. Lang. I. 1. Мнение о скандинавском происхождении лангобардов остается спорным. Подробнее об этом см.: Klebel Е. Langobarden, Bajuwaren, Slawen // MAGW. 1939. № 69. S. 41 ff.; Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der frühmittelalterlichen gentes. Köln, Graz, 1961. S. 485–487; Bollnow H. Die Herkunftssagen der germanischen Stämme als Geschichtsquelle // BS. 1968. N.F. 54. S. 14–25; Werner J. Die Langobarden in Pannonien // Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Klasse. Abh. N.F. Hf. 55 A. München, 1962; Hachmann R. Die Goten und Skandinavien. Berlin, 1970.
161
Tacit. Germ. 40. Wegewitz W. Die Langobarden an der Niederelbe // Reinerth H. Vorgeschichte der deutschen Stämme. Berlin, 1940. Bd. 2. S. 744–826; Idem. Stand der Langobardenforschung im Gebiet der Niederelbe // Problemi della civiltä e del Г economia Langobarda. 1964. R 19–54.
161
Tacit. Germ. 40. Wegewitz W. Die Langobarden an der Niederelbe // Reinerth H. Vorgeschichte der deutschen Stämme. Berlin, 1940. Bd. 2. S. 744–826; Idem. Stand der Langobardenforschung im Gebiet der Niederelbe // Problemi della civiltä e del Г economia Langobarda. 1964. R 19–54.
162
Strab. VII. 290; Veil. II. 106, 2.
163
Tacit. Ann. II. 45 f. После Маркоманнских войн основные контуры судьбы лангобардов выглядят следующим образом. В V в. они начинают движение на юг в северные районы Норика, где и обрели места для расселения (см., например: Mitscha-Märheim Н. Dunkler Jahrhunderte goldene Spuren. Wien, 1963; Hampl F. Die langobardischen Gräberfelder von Rohrendorf und Epersdorf. NÖAA. 1965. № 37. S. 40–78). До 512 г. находились под властью герулов (Paul. Hist. Lang. I. 20; Procop. BG. II. 14, 10–22). В первой половине VI в., проживая в Паннонии, лангобарды приняли христианство в арианском толковании. В 567 г. в союзе с аварами они уничтожили Гепидское королевство (см., например: Schwarz Е. Germanische Stammeskunde. Heidelberg. 1956. S. 103; Bona I. Op. eit. S. 36). Возглавив объединение германских и негерманских племен, их конунг Альбоин увел лангобардов на завоевание Северной Италии (Paul. Hist. Lang. II. 26; Mar. Avent. a 569; Greg. Tur. Hist. Franc. IV. 41). В Верхней и Центральной Италии было создано Лангобардское королевство со столицей Павией. Наряду с ним существовали лангобардские герцогства Сполето и Беневент (Красновская Н.А. Процессы формирования малых периферийных этносов в Италии // Романия и Барбария. М., 1989. С. 76–80). В VII в. ариане-лангобарды перешли в католичество. В VIII в. имел место конфликт с Византией. В 773–774 гг. Лангобардское королевство было завоевано Карлом Великим.
164
SHA. V. Marc. XIV. 2–4; v. Ver. IX. 9; Dio Cass. LXXI. 3, 1.
165
Колосовская Ю.К. Паннония в I–III веках. С. 221.
166
Zwikker W. Studien zur Marcussäule. Amsterdam, 1941. S. 202–204.
167
Dio Cass. LXXI. 11, 2–3; 13, 2–4; 14.
168
Gutenbrunner S. Volkstum und Wanderung // Schneider H. (Hrsg.) Germanische Altertumskunde. München, 2 Aufl. 1951. S. 10; Schwarz E. Zur germanischen Stammeskunde. Aufsätze zum neuesten Forschungsstand. Darmstadt, 1972. S. XXIV.
169
Tacit. Hist. I. 2; Eutrop. VIII. 8, 2.
170
Herodian. VI. 7, 2 ff.; Eutrop. IX. 8, 2; Oros. VII. 22, 3; Amm. Marcell. XVI. 10, 20; XVII. 12, 1. В начале V в. часть квадов вместе с вандалами и аланами уходит в Испанию, где участвует в создании Свевского королевства, просуществовавшего до 585 г. Остальные квады подчинились власти Аттилы (Schwarz Е. Der Quadenund Wandalenzug nach Spanien // Sudeta. 1927. T. 3. S. 1-12; Idem. Zur germanischen Stammeskunde. Aufsätze zum neuesten Forschungsstand; Fitz J. Quadi // Der kleine Pauli. Stuttgart, 1972. Bd. 4. Col. 1281–1283).
171
lord. Get. 26 f; Tacit. Germ. 2; Plin. Nat. Hist. IV. 14, 99; Schwarz E. Germanische Stammeskunde. S. 68. Cp.: Hachmann R. Op. eit. S. 205; Anm. 105.
172
Dexipp. Fr. 24; Chron. Gall. V. 557, 564; Schmidt L. Op. eit. S. 101–105.
173
Буданова В.П. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности и средневековья. М., 1993 (далее— Этнонимия). С. 126; Она же. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000 (далее – Варварский мир). С. 264.
174
Колосовская Ю.К. Дунайские племена и их войны с Римом // История Европы. М., 1988. Т. I. С. 620; Schmidt L. Op. eit. S. 103–104.
175
Dexipp. Fr. 7; SHA. v. Prob. 18, 1 ff.; v. Aurelian. 18, 2; Zosim. I. 67 f; Schmidt L. Op. eit. S. 105–106.
176
Diculescu C.C. Die Wandalen und die Goten in Ungarn und Rumänien. Leipzig, 1923. Cp.: DiesnerH.-J. Das Vandalenreich. Leipzig, 1966. В 406 г. вандалы вместе с аланами и свевами двинулись в поисках лучшей судьбы на запад, перейдя Рейн и пройдя всю Галлию; в 409 г. временно осели в Испании: асдинги в восточной Галлеции, силинги— в Бетике (Zosim. VI. 3; Oros. VII. 38, 40; Greg. Tur. Hist. Franc. II. 2; Schwarz E. Der Quaden und Wandalenzug nach Spanien. S. 1-12; Schmidt L. Geschichte der Wandalen. München, 1942). Здесь вандалы приняли христианство в арианском толковании. В 418 г. в ряде сражений с везеготами вандалы-силинги были почти полностью уничтожены. Остатки их подчинились асдингам (Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. С. 72). В 429 г. все они ушли на завоевание Северной Африки. Здесь в 40–50 гг. V в. было создано Вандальское королевство. Флот вандалов господствовал в это время на Средиземном море. В 455 г. вандалы разграбили Рим, захватили Балеарские острова, Сардинию и Корсику. В 534 г. Вандальское королевство было завоевано Византией (Courtois Chr. Les Vandales et PAfrique. Paris, 1955; Diesner H.-J. Op. eit.; Wolfram H. Geschichte der Goten. München, 1979. S. 382–383).
177
Буданова В.П. Этнонимия. С. 121–122; Она же. Варварский мир. С. 259; Колосовская Ю.К. Некоторые вопросы истории взаимоотношений Римской империи с варварским миром // ВДИ. 1996. № 2. С. 155.
178
Paus. X, 34, 4; Кудрявцев О.В. Вторжение костобоков в Балканские провинции Римской империи // ВДИ. 1950. № 3. С. 92; Колосовская Ю.К. Дунайские племена и их войны с Римом. С. 610.
179
Колосовская Ю.К. Паннония в I–III веках. С. 223–224; Krüger В. Op. eit. S. 536; Буданова В.П. Этнонимия. С. 148; Она же. Варварский мир. С. 299.
180
Dio Cass. LXX. 21.
181
Dio Cass. LXXI. 18, 1.
182
Tacit. Germ. 43.
183
Dio Cass. LXXII. 2, 1–4; SHA. v. Commod. 3, 5; Herodian. I, 6, 4–9; Колосовская Ю.К. Паннония в I–III веках. С. 225.
184
Dio Cass. LXXII. 2.
185
И до, и особенно после Маркоманнских войн северные области Италии традиционно были тем географическим ареалом, в котором на протяжении нескольких столетий обосновывались отдельные группы германских племен. В конце III в. Проб на незаселенных землях поселил бастарнов, гепидов и готов (SHA. v. Prob. 15, 6). Магистр римской конницы Феодосий в 370 г. поселил в долине р. По побежденных аламаннов, а позднее император Грациан разместил на землях Северной Италии готов и тайфалов (Amm. Marcell. XXVIII. 5, 15).
186
Aur. Victor. Caes. XXXIX. 43; Claud. Claudian. In Rufin. II. 26 ff.; Zosim. I. 29, 2. В 433 г. живущие в Паннонии маркоманны оказались под властью гуннов и участвовали в походе Аттилы в Галлию (Paul. Diac. Hist. Rom. XIV. 2). В начале VI в. они переселились в Баварию и вошли в созданный баварский союз племен.
187
Veil. II. 108, 2.
188
Petersen L. Op. eit. S. 52–59; Колосовская Ю.К. Некоторые вопросы истории взаимоотношений Римской империи с варварским миром. С. 157.
189
Wielowiejski J. Kontakty Noricum i Pannonii z ludami pölnocnymi. Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1970; Wol^giewicz R. Der Zufluss römischer Importe in das Gebiet nördlich der mittleren Donau in der älteren Kaiserzeit // ZfA. 1970. № 4. S. 222–249.
190
Gabler D. Zu Fragen der Handelsbeziehungen zwischen den Römern und den «Barbaren» im Gebiet östlich von Pannonien // Römer und Germanen in Mitteleuropa. Berlin, 1975. S. 87-108.
191
N.D. Ос. XXXIX. 4, 11; Dio Cass. LXXI. 11, 2; 16, 1–2; SHA. v. Prob. 14, 3.
192
Колосовская Ю.К. Паннония в I–III вв. С. 230–231.
193
Dio Cass. LXXI. 11, 4; 21; LXXII. 3, 2.
194
Ibid. LXXI. 19, 1–2; Колосовская Ю.К. Паннония в I–III вв. С. 225.
195
Дряхлов В.Н. Войны германских племен с Римом в III в. и их влияние на развитие древнегерманского общества на Рейне // ВДИ. 1987. № 2. С. 156.
196
Колесницкий Н.Ф. Этнические и политические образования у германцев I–V вв. // СВ. 1985. Вып. 48. С. 16, 26.
197
Ременников А.М. Борьба племен Северного Подунавья и Поднестровья с Римом и ее роль в падении Римской империи. Казань, 1984. С. 5.
198
Dio Cass. LXXVIII. 13, 4, 6; 14, 2; Aur. Victor. De Caesarib. XXI. 2.
199
Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderungszeit. Die Westgermanen. München, 1938 (далее— Die Westgermanen). S. 4 ff.; Schwarz E. Germanische Stammeskunde. S. 168–176.
200
Подробнее об этих племенах см.: Буданова В.П. Этнонимия. С. 52, 57, 76–77, 180, 223; Она же. Варварский мир. С. 128–129, 171, 175, 198, 349, 415.
201
Johne К.Р. Die Kriese des 3. Jahrhunderts (193–306) // Die Römer an Rhein und Donau. Berlin, 1975. S. 67–68; Дряхлов B.H. Указ. соч. С. 158.
202
Johne K.P. Op. eit. S. 69–75; Дряхлов B.H. Указ. соч. С. 158.
203
Herod. VII. 2. 1 ff.; SHA. v. Max. 11, 7, 9; Дряхлов B.H. Указ. соч. С. 158; Johne К.Р. Op. eit. S. 75–80; Schmidt В. Alamannen // Die Germanen: Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. Berlin, 1983 (далее— Die Germanen). Bd. II. S. 338.
204
Roeren R. Zur Archäologie und Geschichte Südwestdeutschlands im 3. bis 5. Jh. n. Chr. // JRGZM. 1960. Bd. 7. S. 214–217; Demougeot E. La formation de l’Europe et les invasions barbares. T. I. Paris, 1969. P. 486–487; Дряхлов B.H. Указ. соч. С. 159.
205
lord. Get. 27. Топоров B.H. Oium (Getica, 27–28) и гото-славянские связи в северо-западном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984. С. 128–142; Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991. Т. 1. С. 116–117, 148; Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. С. 74; Она же. «Ойум» в судьбе германских племенных элит // Элита и этнос средневековья. М., 1995. С. 19–27; Она же. «Желанная земля» в духовной традиции германской элиты // Переходные эпохи в социальном измерении. М., 2002. С. 13–21.
206
Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. С. 62, 88, 118; Wolfram Н. Op. eit. S. 23–31; Strzelczyk J. Goci – rzeczywistosc i legenda. Warszawa, 1984. S. 46, 67–68, 110.
207
Baily H.W. Parthian Reference to the Goths // English and Germanic Studies. 1961. № 7. P. 82–83.