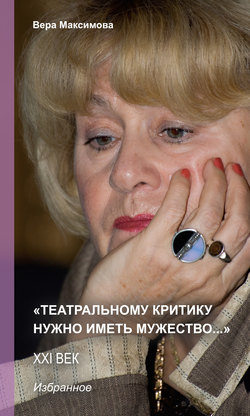Читать книгу «Театральному критику нужно иметь мужество…» - Вера Максимова - Страница 6
Критические статьи, рецензии, размышления о театре
Здесь счастья нет
ОглавлениеДУМАЮ, что друзья и близкие «Современника» после памятного скандала с пьесой екатеринбургского драматурга и режиссера Николая Коляды «Мы едем, едем, едем…» уговаривали Галину Волчек в другой раз (третий – если вспомнить еще и «Мурлин Мурло») с автором «не вязаться». Тем более – не звать Коляду постановщиком его же собственной пьесы «Уйди-уйди» (по имени дешевой детской игрушки-пищалки).
Можно заранее представить, что скажут, напишут (повторят) на этот раз о нем – дружно поносимом, но постоянно востребованном не только знаменитым «Современником», но и другими российскими театрами. Физиологичен. Груб. Откровенен до бесстыдства. Нынешний сленг – жаргон, уличную, далекую от приличий «ненормированную» лексику жалует. Особо привержен колориту «чернухи», эстетике и географии «углов».
Но ведь почти то же самое можно сказать и обо всей нашей драматургии последнего времени. И еще добавить, что это драматургия реплик и реприз; и что авторский слух и глаз в ней сильней проникновения и осмысления. Что ситуации и характеры здесь быстро читаемы и повторяемы. Что «чернуха» – как антитеза советской «гладкописи», лживой книжности, теперь превратилась в прием. Кажется, что и Коляда – самый способный и самый известный из нынешних драматургов (симптоматичный, типичный), умеющий «строить» сюжет и интригу, пишет не многие, а одну — бесконечную пьесу, в которой все те же «новые» и по захолустным углам забытые русские; одинокие женщины и «недостаточные» мужчины.
Однако столь прочную привязанность театра к автору, который успеха не гарантирует, а скандал – почти наверняка, не стоит объяснять упрямством худрука, человека сильного, упрямого и серьезного. Без современной драматургии «Современник» и прежде, и теперь существовать не может.
Направление Петрушевской, влияние которой новые драматурги испытывают, которой вольно или невольно подражают; направление Петрушевской, с его эстетикой уродства, анатомически беспощадным отношением к человеку, с концепцией искаженного, «неполного» человека, жалкого, но не вызывающего сострадания, снижено до буквализма, до поверхностной копировки. Цельность мрачных миров Петрушевской с их полюсами трагедийного и смешного сменилась мозаичностью и дробностью отдельных наблюдений и деталей. Фантастизм уже не пугает, став безобидным и произвольным, иногда дурновкусным сочинительством. И даже ошеломлявший при своем появлении новый язык драм Петрушевской оказался растиражирован, доступен каждому, кто пробует себя в сочинительстве для сцены. Не только географически, но и по смыслу, духовно, территория новой российской драмы сужена.
Первое впечатление от спектакля «Современника»: очень громко и очень пестро. Военные марши гремят. Солдаты ходят строем. Бабка со второго яруса койки басом поет советские песни. Два куска прозрачного пластика громыхают под ударами солдатских кулаков и с треском поворачиваются на горизонтальной оси. Ветродуй с воем гонит бумажный снег на первые ряды зрителей. Сверкают медные трубы оркестра и золотая («елочная») бахрома розового, со стеклянными «глазками» платья героини. Желтым и белым светятся хорошо видимые за искусственным стеклом голые мужские тела. Там, в глубине и темноте, – солдатская баня (художник – Владимир Кравцев). В спектакле Николая Коляды всего много. В том числе – и «театрального сора» (вот когда вспоминаешь, что екатеринбургский драматург, журналист и главный редактор журнала «Урал» как режиссер – лишь «полупрофи», а самоограничение и отбор есть удел и истинная свобода профессионалов).
Как чувствуют себя в этом перенасыщении актеры «Современника», прежде всего – главные исполнители, Елена Яковлева и Валентин Гафт? Как обходятся с откровениями и грубостями, «обнажениями» (в прямом и переносном смысле); с разговорами о шприцах, спринцовках, марганцовках в холостяцком «жениховском» саквояже героя; с «наползаниями» дембеля-деревенщины на дочку-«кесаренка» – Анжелочку, чтобы «поиграть» с нею в койке; с рассказами героини о бабках, старшая из которых все тащит под себя и ходит под себя?
Актеры «Современника» – вот первое, о чем следует говорить.
В шумном, застольном акте «смотрин» на Гнилых Выселках Гафт – пожилой искатель невест и домашнего очага по газетным объявлениям, в клетчатом «пиратском» платке до бровей, с серьгой в ухе, улыбчив, немногословен и чуть театрален, следуя придуманной им самим маске – краснодарского домовладельца и завидного жениха.
Всю первую половину спектакля Гафт загадочен, потому что играет не враля и не проходимца (о чем настырно предупреждает практичный солдат-дембель). А играет фантаста, фантазера. Такого же загнанного и обделенного, как женщины в «Уйди-уйди», еще и с больничкой-«дуркой», где уже успел побывать, – но фантаста, отогревшегося, разомлевшего, расположившегося вальяжно в чужом тепле и вообразившего, что краснодарский «рай» и шестикомнатный дом с крытой террасой, и сад с виноградником и экзотическими плодами фейхоа – все у него есть, и выбирать жен он имеет право, – лысоватый, но вполне достойный, видный мужчина. Лишь мимолетная гримаса боли, наплывающая на загорелое лицо, и горькая (как у самого Гафта) складка губ тревожат и смущают.
Но первый акт – не его. Здесь он – великолепный партнер Елены Яковлевой, внимающий ее невероятным словесным каскадам и фиоритурам.
Здесь всем владеет, все собой заполняет, переполняет она, чья эмоциональная и физическая выносливость, космические скорости роли даже пугают. Талантливая актриса драматической сцены и «звезда» нового отечественного кино, Яковлева умеет играть этих женщин с обочин жизни, с городской окраины, из российской глубинки, искательниц счастья и шанса в несчастливой судьбе. Люду Ромашкину из Гнилых Выселок где-то на севере России она играет в природе фантастического по насыщению, по интенсивности жанризма, наверное, – неправильного, даже беззаконного, но с невероятной силой воздействия на зрительный зал. Карикатурно одетая в розовое и золотое, она с одинаковым вдохновением лжет (еще одна фантастика в спектакле) и тут же рассказывает самую что ни на есть беспросветную правду о себе и своем «бабьем» семействе. Захлебывается в словах, заговаривая то ли себя, то ли судьбу, то ли явившегося наконец в ее одинокую женскую жизнь «мужчину-избавителя». И вдруг срывается с места и, опустившись почти на четвереньки, подняв к небесным хлябям тощий, обтянутый атласом зад, стремительно передвигается вдоль рампы пестрой «каракатицей», промокает тряпкой пол.
У актеров есть свой не театроведческий термин – «честная игра», то есть до полной траты сил! Так исступленно и безжалостно к себе, держа свой первый профессиональный экзамен, иногда играют дебютанты или перед уходом со сцены и из жизни, прощаясь, корифеи-мастера. Яковлева – в зените возраста, славы, творческих сил и красоты. И так не жалеть, так до конца отдавать себя! Вживание в роль, присоединение к роли простолюдинки, провинциалки Люды столь абсолютно, что всплывает в нашем зрительском сознании страх: насколько хватит актрисы после этой исступленной игры и как она будет играть своих леди и королев – Элизу Дулиттл и Марию Стюарт? Ведь нет-нет да и сегодня внешне изысканную, элегантную, утонченную Яковлеву критика поругивает за «простотцу», за говорок, которые вдруг возникают и проступают в образах, где им быть не положено.
Нужно совсем не любить театр, не чувствовать актера, чтобы не оценить этой игры на пограничье жизни и смерти, уже не персонажей, а исполнителей; чтобы в привычных поношениях автора и театра, который упрямо Коляду зовет, не заметить того, что могут сделать и делают на «территории» такой, подобной драматургии большие актеры Галины Волчек.
Текст в пьесе может быть и груб, и вульгарен, и пошл, но – не они. Рискуя, обостряя, балаганя, освобождая и сгущая энергию драматического (у Коляды менее выраженную, чем комедийное начало). Гафт и Яковлева ни разу не выходят из границ искусства. Благодаря актерам почувствовали мы, какой живой автор этот Николай Коляда, яркий и азартный, не только остроумный, остроязычный, но – умный.
Во втором, тихом акте – цельном и лучшем в спектакле – мелькание, сверкание и шум почти исчезают. Наступает пора признаний и прощания. Ясно, что Валентину, герою Гафта, до отчаяния не хочется уходить из этого убогого дома. Ясно, что его, больного, полубезумного, боящегося одиночества и пустоты, – не может оставить у себя Люда-Яковлева, но столько жалости, горечи, ласки, почти любви вкладывает она в простой житейский совет – «опохмелиться» перед дорогой.
«Я не проходимец!» – говорит герой Гафта. Он – человек. И доказывает это, скрутив и бросив наземь юного солдата, хама и труса. (Неудачно – «изображая» – играет эту существенную в спектакле роль молодой Олег Феоктистов.)
И она, Люда, которая, почти плача от счастья, благодарит своего первого за всю жизнь заступника, – тоже человек. И человек – дочка Анжелочка, нелепая, смешная, порой страшная, как истукан (в исполнении одаренной дебютантки – выпускницы Щукинского училища Ульяны Лаптевой), – с тоской по любви, неутолимым «желанием», длинным и странным (как бы и не женским) монологом о красивых мальчиках, которые повсюду вокруг и которых хочется «трогать».
«Мы – как люди, не как собаки», – с укором неведомо кому тихо говорит Яковлева. «Не хочу умирать!!!» – с отчаянием и мукой кричит Г афт. В словах и поверх слов, через подтекст, в котором природно сильны актеры – психологи «Современника», слышен ход неостановимого времени. Оно истекает, близится к финалу для этих людей, так и не узнавших счастья.
Вопреки мозаичной, осколочной пьесе здесь, во втором акте, жестокое и трезвое общее суждение вступает в спектакль – о недостаточности, оскопленности сегодняшней нашей жизни, и не в Гнилых Веселках только.
Спектакль «Современника» в новом качестве показал Москве и Коляду-режиссера, в куда более сложном и объемном (нежели только создателем народных, балаганных представлений).
Театральность Коляды в «Современнике» получила иную функцию и душевное человеческое наполнение. Открытая театральность, условность некоторых эпизодов уничтожают бытовую тяжесть, выводят спектакль из «угла» буквализма и натурализма. Как та очаровательная и смешная сцена то ли драки, то ли танца, когда, застукав «жениха» с дочкой-соперницей, героиня кричит в мегафон: «Здесь живет б…дь!» – и гоняет солдата, Анжелочку и Валентина белым шлангом от пылесоса, а те от ударов не без балетного изящества ускользают, взявшись за руки, словно «друзья» из знаменитой песни Окуджавы и из юности «Современника», – «чтоб не пропасть поодиночке».
Начальную и финальную пластическую мизансцену – заставку в «Уйди-уйди!» можно было бы представить кукольным действом, в котором персонажи-манекены выходят к рампе и, выстроившись лицом в зал, механическим движением прижимают каждый правую руку к левой части груди, потом протягивают к зрителю ладонь, потом закрывают глаза и складывают руки крестом на груди. Так именно многие и сыграли бы этот ритуал прощания (вроде финального выхода масок в «Турандот»), благо кукольность и манекенность ныне на драматической сцене в моде. Но Гафт, Яковлева, девочка-актриса Лаптева в эффектной, ритуальной, безмолвной мизансцене продолжают жить, чувствовать, страдать. Вот Г афт с отчаянием и стыдом взглянул на собственную ладонь, протянутую словно за милостыней, и опустил веки, чтобы слезы не пролились. Высокий, статный, но уже старый и как бы неживой, которому – все поздно. И смиренно, отбушевав, замерла рядом тоненькая Люда-Яковлева, которая больше не молит судьбу, смотрит слепо и руку тянет по инерции, вслед за другими. Не «чеховская женщина», она будет жить, потому что – нужно жить, нужно жить…
«Независимая газета», 1 ноября 2000 года