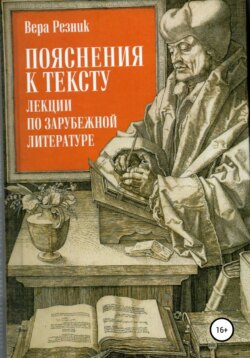Читать книгу Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе - Вера Резник - Страница 10
О писателе Томасе Манне и некоторых его произведениях (1875–1955)
Роман «Доктор Фаустус»
ОглавлениеЧерез день после окончания «Иосифа» Томас Манн начинает просматривать материалы к «Доктору Фаустусу», а 23-го мая 1943 года садится писать и пишет его четыре года, до 1947-го. Этот роман вкупе с «Игрой в бисер» Германа Гессе считается самым высокоумным романом для избранных. Писатель Юрий Трифонов написал некогда пользовавшуюся большой популярностью у столичной публики повесть под названием «Обмен» (имелся в виду квартирный обмен), в этой повести одна из героинь неизменно являлась родственникам и знакомым с «Доктором Фаустусом» под мышкой, она его читала вечно. Это был особого рода знак, роман в ее руках означал, что человек принадлежит интеллектуальной элите.
Кроме того, что писатель не дал себе никакой передышки, вторая трудность состояла в том, что Манн себе предрек, что в 1945-ом году умрет. Но он не умер, а заболел, я говорила уже об операции. Сам писатель считал, что именно его тяжкий роман повинен в болезни. Манн пишет роман, когда ему уже 70 лет. Вообще, знаете ли, есть известный физиологический принцип: не работающий орган отмирает… У людей, систематически умственно напрягающихся, и склероз позже и медленнее развивается.
Кстати, заболев, он написал об этом целое сочинение, он и вообще писал очень интересные сочинения о том, как он писал свои интересные сочинения. В процессе работы над романом Манн читал мемуары знаменитого русского композитора Игоря Стравинского и книгу воспоминаний о Ницше. В разгар работы он вдруг получает по почте посылку из Швейцарии, в посылке рукопись, позже скажу, чья и какая, – Манн читает рукопись и произносит загадочную фразу: «Всегда неприятно, когда тебе напоминают, что ты не единственный». Но об этом позже.
Что же представляет собой это сочинение, которое столь трудно далось его автору? Это роман об уделе нового искусства и судьбе его творца, современного художника, но косвенно это еще и роман о судьбе Германии, история немецкой гордыни и кары немецкому народу за высокомерие. Сама история, рассказываемая от лица скромного филолога-классика, латиниста Серенуса Цейтблома, происходила несколько раньше, но рассказывает ее Цейтблом, можно сказать, прямо под перо Манну, в 1943–1944 годах, в то самое время, когда приходит конец нацистскому рейху.
Многие в Адриане Леверкюне, а так зовут главного героя, видели немецкого философа Фридриха Ницше, нигде в тексте ни разу не упоминаемого. Манн не имел привычки упоминать на страницах своих произведений какие-либо реальные имена: в Тонио Крегере он не упоминает Шиллера, в «Будденброках» Шопенгауэра, в Фаустусе композитора Шенберга, хотя совершенно очевидно, что речь идет об их произведениях. Но считать, что прототип Адриана Леверкюна – Фридрих Ницше уж слишком большая натяжка, да и вообще так считать – значит сильно сужать проблематику романа. Адриан – самостоятельная и независимая фигура, образ, который Манн очередной раз одушевил, хотя действительно воспроизводятся многие эпизоды из жизни Ницше – я уже говорила, что метод одушевления, коллаж и цитация – это принципы манновского письма, этакое встраивание в нужный писателю мир и переналаживание взятого материала – творческий метод Манна. Как видите, сюжет снова связан с архетипическим мотивом. Напоминаю, архетип есть фигура события, человека или чудовища, повторяющаяся на протяжении истории, регулярно возникающая там, где свободно живет и дышит человеческая фантазия. Архетип – это итог огромного опыта бесчисленного ряда предков, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа, в каждом из архетипов кристаллизовалась частица человеческой психики и человеческой судьбы, множества переживаний множества предков, переживаний, принявших один и тот же ход, ручейков, потекших в результате по одному глубокому руслу.
Таковой архетипический сюжет Томас Манн заимствовал из народной литературы Средневековья, в которой были распространены и пользовались исключительной популярностью легенды о чернокнижнике докторе Фаусте. У меня нет времени рассказывать о том, что сами эти легенды восходят к дуалистическим мифам противостояния света и мрака, луны и солнца, правого и левого и т. д. Упомяну только о народной книге о докторе Фаусте и «Фаусте» Гете.
У Манна, напрямую подхватившего тему народной книги о Фаусте, сюжет сведен к проблеме взаимоотношений дьявола и его жертвы, причем их он сводит в одном времени и в одном пространстве. (А вот, например, в «Мастере и Маргарите» дьявол и персонажи обитают в разных временных планах.) Как бы то ни было, обыгрывается сделка с чертом, заключающаяся в том, что за определенные блага, определенные выгоды персонаж продает свою душеньку дьяволу. Конкретно дело обстоит так: некто Адриан Леверкюн (а Леверкюн входит в когорту всех этих крегеров, ашенбахов, заблудших бюргеров, гордецов, лелеющих собственное дарование и тоскующих по обычной человеческой жизни, Леверкюн человек сугубо сдержанный, привыкший к ледяной трезвости и сосредоточенности, но вначале замкнутый, необщительный юноша) выбирает себе жизненный путь, карьеру, и останавливается, в конце концов, на музыке. К музыке у него большая склонность и незаурядные способности, хотя, сперва он хочет уклониться от своего призвания и поступает на богословский факультет, но потом все же возвращается к тому, к чему он с детства тянется и чем успешно занимается.
В сущности, сюжет в романе очень незамысловатый: Адриан выбирает себе профессию, становится композитором, пытается со временем посвататься к одной девице, но неудачно, сдруживается с одним молодым скрипачем, но тот погибает, обожает маленького ребенка, а тот умирает, но главное, параллельно этим немногим жизненным событиям, он пишет, пишет и пишет музыку. Смолоду несильного здоровья – у него мучительные головные боли, – Адриан заболевает какой-то странной, по-видимому, венерической болезнью, сходит с ума и умирает в зените славы в сумасшедшем доме.
Вот на таких нехитрых событийных скрепах держится роман-биография композитора-авангардиста Адриана Леверкюна, на этой основе взращиваются, как сказал бы сам Леверкюн, «осмотические цветы» размышлений о судьбах современного искусства. Я позволю себе задержаться только на тех эпизодах, которые мне кажутся особенно показательными.
У Адриана есть любимый учитель, органист Вендель Кречмар (с еще одним любимым учителем музыки мы встретимся, разбирая роман Гессе). Обдумывая профессии, Адриан пишет ему письмо, объясняя отчего его выбор пал на сочинительство, отчего не может он стать ни концертирующим пианистом, ни дирижером.
Дело в том, – утверждает Адриан – что его тошнит от звезд музыкального исполнительства, а равно от самой необходимости представать перед публикой во фраке с палочкой или вскидывать шевелюрой над клавиатурой – пошлость это и безвкусица. Ему не нужно эмоциональное единение со слушателями, он презирает «коровье тепло», у него от этого рвотные спазмы, как у герцога Альбрехта от народной любви. И потому, раз у него есть склонность к сочинительству, он намерен стать композитором.
Но впоследствии выясняется, что и с композиторством та же, по сути говоря, проблема. Пошлость это невыносимая – повторять за великими все их ловкие и возвышенные находки, ходы и приемы, когда того времени, в которое это произведения создавались, как не бывало. И вот, описывая музыку, предположим, симфонию Брамса, Адриан говорит, что он, как все нормальные люди, в самом патетическом месте переживает, и у него тоже рыдания подступают к горлу… но еще ему смешно, потому что он-то прекрасно знает, как ловко это сделано, и как часто этот прием с тех повторялся, и до какой степени он затертый и изношенный.
Что с этим-то делать человеку высокомерному и брезгливому, не желающему притворяться и, в сущности, мошенничать? Что делать, если все сюжеты вытвержены, а музыкальные приемы приняты к сведению и оприходованы? Как писать, как и каким способом, чтобы это была не пошлость (напоминаю: пошлость – это то, что много ходило и все по одному месту, набившая оскомину обыкновенность), выражать реально имеющиеся мысли и чувства? Ведь известно, что фонтаном произведения струятся исключительно из графоманов, а может ли бить ключом вдохновение из такого требовательного к себе, придирчивого и трезвого, ненавидящего пошлость человека, как Адриан Леверкюн? Ясное дело, нет. У таких флоберовские муки творчества.
И тогда-то на помощь Манн вызывает черта; сделка с чертом, являющимся Леверкюну, в том и состоит, что черт сулит Адриану двадцать лет неукротимого вдохновения за душеньку его. Небольшое условьице, впрочем, тоже надо соблюсти, а потом уж не обессудьте.
У меня, к сожалению, нет возможности детально сравнивать две чертовщины: полемику с чертом, происходящую в воспаленном мозгу Ивана Карамазова, и полемику с чертом Адриана Леверкюна, которой дается сходное физиологическое обоснование (возможно, Адриан бредит, поскольку болен). Доводит препирательства с чертом до сведения читателей «Доктора Фаустуса» позднее обнаруживший Адриановы записки его верный друг тишайший Серенус (обратите внимание на имя) Цейтблом. Разумеется, литературоведы обычно указывают на то, что леверкюновский черт очень внимательно читал Достоевского. Это, конечно, так. Центральная сцена «доктора Фаустуса», сцена соглашения с чертом, – архетипическое ядро повествования. И уж совсем монолитным это ядро становится от того, что эта сцена – еще и сознательный перифраз сцены из едва ли не главного романа девятнадцатого века, романа на почве которого, можно, сказать, взошла вся мировая литература века двадцатого, «Братьев Карамазовых» Достоевского. Я уже говорила о том, что в процессе письма Манн подкреплял себя чтением мемуаров Стравинского, но разве не так обыгрывал сам Игорь Федорович Стравинский в своей музыке цитаты из музыки Петра Ильича Чайковского? Это сознательная культурная игра, это снова «Apres nous le deluge» в устах Аменхотепа Четвертого, это перекличка отражений в зеркалах культуры, в зеркалах, о которых так настойчиво будут говорить аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес и русский писатель Владимир Владимирович Набоков.
Ну а пока возвратимся к тому маленькому условьицу, которое выставил Адриану черт, оно таково: пиши свою музыку и не возлюби – снова возникает манновский мотив холода всякой творческой личности, обделенности теплом, этого неминучего «или… или». И вот, приняв эти условия, Адриан начинает творить.
Обнаруживший записки Адриана его жизнеописатель Серенус Цейтблом, я говорила, не очень уверен в том, не больная ли это фантазия его друга, издавна страдавшего головными болями. Но, вероятно, к головным болям присоединяется еще кое-что, ибо случается с Адрианом такой эпизод, он частично сам рассказывает его Серенусу Цейтблому: шалые студенты богословы некогда завлекли ничего не понимающего гордого и холодного Леверкюна в публичный дом…
Общеизвестно, что Ницше страдал такими головными болями и что преходящие параличи и сумасшествие в финале были – это весьма дискутируемая возможность – следствием не излеченного сифилиса. Так в романе дается физиологическое медицинское обоснование вдохновенной одержимости, с которой творит Леверкюн.
Но, все-таки, самое важное для нас разобраться в том, какую музыку вдохновенно при пособничестве черта пишет Адриан? А такую, какую только и можно писать в двадцатом веке: серьезно-пародийную. Почтительно играя с классическим материалом, с музыкальными архетипами, осуществляя, как выражался Адриан, не экстракцию, но «терапию корней»; слишком трагические темы получают в ней комическое решение, а комическое начинает внушать уважение. Это такая музыка, в которой Аменхотеп Четвертый всегда словно бы говорит: «Apres nous le deluge». У Манна есть замечательно точное определение деятельности, которой занимается Адриан Леверкюн: «Это игра с формами, из которых ушла жизнь». Это та ортегианская дегуманизация, о которой у нас уже много раз шла речь. Это веласкесовские «Менины», переписанные Пабло Пикассо. Не знаю, как у Леверкюна, а у самого Манна такая игра здорово получалась, и снова архетипы наполнялись светом и смыслом, – что с того, что это были смыслы других времен. Как бы то ни было, пломбирует и лечит классику Леверкюн вдохновенно и с большим успехом. Надо сказать, что ни одному писателю до Манна не удавалось, хотя немецкие романтики очень старались, так слышно описать музыку. Самый в этом смысле знаменитый опыт – «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, тоже история жизни одного немецкого композитора, не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Манн. У Манна особую достоверность этому описанию звучания, которое мы видим глазами, но не слышим, а кажется, что слышим, так вот, достоверность придает специфическая техническая оснастка, кухня музыкального мастерства изнутри, которую способен описать только сугубый профессионал. Не переживания зрителя и картинки, предстающие его умственному взору (так, кстати говоря, происходит только с очень неопытным слушателем), а технологический процесс музыкального сочинительства, собственно музыкальные структуры. Откуда это? Я вам уже говорила, что Манн всегда пользовался советами только из первых рук, и здесь его консультировал очень известный немецкий философ и музыковед, невероятный человек, ибо не было на свете ноты, которой бы он не знал – имя его Теодор Адорно. Философ Франкфуртской социологической школы, известный своими работами по современной музыке. Это с помощью Адорно была написана лекция, которую читает, кстати говоря, заика, учитель Леверкюна Вендель Кречмар, она посвящена анализу последней знаменитой 32-ой сонаты Бетховена. Кстати сказать, с помощью Адорно в романе при описании музыки Леверкюна используется действительно тогда только недавно разработанная музыкальная додекафоническая, т. е. двенадцатитоновая система музыкального письма и утверждается, что это детище Адриана Леверкюна. На самом деле систему разработал реально существовавший очень известный композитор-авангардист, принадлежавший к т. н. нововенской школе, Арнольд Шенберг. Шенберг возмутился тем, что его имя нигде не упоминается в тексте, и предъявил права. Имела место ссора, но Манн снизошел только до того, что сделал приписку после последних строк романа, что де, мол, музыкальная додекафоническая система – детище господина Шенберга. А в сам роман имя вводить не стал, потому что, я уже говорила, вслед за Гете был убежден в том, что имеет право, поскольку то, что взял и переналадил, ввел в новое окружение, то – мое, говорите спасибо, что оказал честь.
Ну а как обстоят дела с запретом на человеческое тепло, с обетом, данным черту? Плохо обстоят дела. Первая попытка Адриана прорваться к человечности через сватовство, между тем как свататься он отправляет друга, для того чтобы не выглядеть комично в этой уж слишком архетипической ситуации, кончается плачевно: выясняется, что невеста симпатизирует как раз Адрианову посланцу. Вообще эпизод воспроизводит историю сватовства Ницше к Лу Андреас Саломе через Пауля Рее.
Второй эпизод связан с фигурой скрипача Руди Швердтфегера, способного музыканта и довольно обаятельного молодого человека, добившегося расположения выдающегося композитора и пустившего в ход все свое обаяние, чтобы совратить Адриана с его ледяного пути. И он добивается того, что Леверкюн переходит с ним на «ты» и посвящает скрипичный концерт, начиная привязываться к скрипачу (западные исследователи вволю потешили свою душеньку, обсуждая «гомосексуальный» мотив), но волею судеб Руди убивает в трамвае выстрелом из пистолета его бывшая возлюбленная, с которой он намерен порвать. И Адриан считает, что это он виноват в смерти скрипача.
Третий эпизод относится к маленькому мальчику Непомуку Шнейдевейну, внуку хозяйки дома, в котором живет Адриан. Это эльфическое дитя, списанное с внука самого Томаса Манна Фридолина, и воспроизводящее все его смешные словечки и манеры. К нему-то и привязывается всей душой Леверкюн, но тот заболевает менингитом и в муках умирает. Следует страшное описание агонии малыша. Нужно сказать, что Катя Манн и родственники не очень скоро простили дедушке такую выходку. Вообразите, во время писания Манн устраивал еженедельные сеансы чтения в домашнем кругу. Смерть мальчика окончательно убеждает Адриана в том, что это все происки дьявола, и что это он, кому было сказано: не возлюби, – губит всех, к кому привязывается. И тогда, окончательно потеряв голову, а головные боли у него к этому времени усиливаются, Леверкюн произносит знаменательную фразу: «Я ее отниму!» Композитора спрашивают, что именно он собирается отнять, и Адриан говорит: «Девятую симфонию».
Имеется в виду, быть может, самая знаменитая в мире музыка, Девятая, последняя симфония Людвига ван Бетховена, заканчивающаяся шиллеровской одой «К радости», симфония, являющаяся символом человеческого единения и потому своеобразным гимном Организации Объединенных Наций. Принято считать, что Девятая симфония с ее темой судьбы, пробивающейся через страдания к радости, воплощает крестный путь человечества, а равно человеческой личности в этом мире. После трех трагических музыкальных частей следует четвертая, в которой вступает и разрабатывается удивительная, вроде бы очень неприхотливая и простенькая музыкальная тема, тема радости. Потом звучат «фанфары ужаса» (так их назвал Вагнер), и бас (а иногда баритон) запевает: «О братья, довольно печали, будем гимны петь безбрежному веселью и светлой радости…» Вот эту симфонию намерен отнять у человечества Леверкюн, и, чтобы сделать это, он пишет страшную кантату «Плач доктора Фаустуса». Эта кантата с жуткими словами строится на том, что инструментальная часть в ней вокализована, меж тем как человеческий голос совершенно подражает звуку инструментов, тем самым рождая жуткий эффект какой-то обесчеловеченности и дьяволиады.
Адриан сходит с ума, и его помещают в сумасшедший дом. Серенус Цейтблом под звуки бомбежки и разрывов снарядов дописывает воспоминания о своем друге, неизбежно проводя параллели между его горькой участью и судьбой пожелавшей стать выше всего человечества Германии. Последние слова в романе принадлежат смиренному (в отличие от непокорного Леверкюна) Серенусу Цейтблому: «Смилуйся Боже над моим позабывшим в своей необузданной гордыне Бога и милосердие народом и над бедным художником, моим другом».
Да, совершенно очевидно, что Томас Манн в романе (разумеется, мне удалось выделить только один романический лейтмотив, произведение много сложнее, оно изобилует побочными темами) приравнял фашистский эпизод в немецкой истории к судьбе высокомерного, отвернувшегося от рядовых людей авангардистского искусства. С одной стороны, это так, с другой, реальный текст романа, трагическая и масштабная фигура Адриана Леверкюна не позволяют сделать столь однозначных и крайних выводов. Автор романа «Доктор Фаустус» и его персонаж слишком духовно и профессионально близки, чтобы делать такие заключения. К тому же, литература вообще, а великая литература в особенности, не имеет ничего общего с катехизисом, побуждая только к сосредоточенности мысли и души.