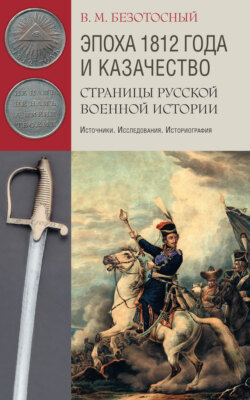Читать книгу Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография - Виктор Безотосный - Страница 5
Источники
Материалы П. А. Чуйкевича[50]
ОглавлениеИмя Петра Андреевича Чуйкевича (1783–1831) ― сотрудника русской военной разведки, военного писателя, переводчика, было хорошо известно в начале XIX в., но уже к концу прошлого столетия стерлось из памяти потомков.
Петр Андреевич Чуйкевич родился в Полтавской губернии в семье небогатого украинского шляхтича, представителя некогда знатного старшинского рода. За отцом его числилось 127 душ крепостных крестьян в Полтавском уезде. Очень рано он оставил родительский дом и поступил учиться в 1-й кадетский корпус, откуда в декабре 1797 г. был выпущен прапорщиком в Кронштадский гарнизонный полк. По тем временам он получил неплохое образование. В его формулярном списке значилось, что он мог читать по-русски, по-немецки и по-французски и знал часть математических наук. Вскоре, в 1804 г., его как образованного офицера перевели в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, орган, заменявший тогда Генеральный штаб. Молодой офицер с отличием участвовал в боевых действиях против французов в кампании 1807 г. и в войне с турками 1806–1812 гг. ― его грудь стали украшать боевые ордена: Св. Анны 2-й степени, Св. Владимира 4-й степени с бантом и прусский «За достоинство». Но 21 марта 1809 г. он первый раз выходит в отставку[51].
Его нахождение вне рядов армии длилось недолго. К этому времени П. А. Чуйкевич уже становится известным как военный писатель. В 1806 г. в Петербурге вышла переведенная им с французского книга «Познание человека», а потом по свежим следам он пишет сочинения на тему военных кампаний, в которых сам принимал участие («Подвиги казаков в Пруссии». СПб., 1807; «Стратегические рассуждения о первых действиях россиян за Дунаем». СПб., 1810). В среде современных ему военных литераторов он первым выступил как последователь идей французского военного теоретика А. Г. Жомини, труды которого только-только стали входить в моду накануне 1812 г.
На работы Чуйкевича обратил внимание недавно назначенный на пост военного министра М. Б. Барклай де Толли. Он искал молодых грамотных офицеров, способных к аналитическому мышлению, а стиль прочитанных книг пришелся ему по вкусу. Поэтому новый министр лично предложил отставному офицеру начать вновь служить в возглавляемом им военном ведомстве. В 1810 г. после столь лестного предложения капитан Чуйкевич снова надел форму и стал трудиться в секретной экспедиции Военного министерства[52]. Это был специально созданный Барклаем в 1810 г. орган, занимавшийся руководством разведывательной деятельностью против самого грозного вероятного противника ― французской империи Наполеона. Среди сохранившихся в архивах документов военного ведомства можно найти очень много бумаг за подписью и с пометками Чуйкевича. Он составлял списки лиц, подозреваемых в шпионаже, направлял агентуру за границу, получал и обрабатывал разведывательные минные со всех концов Европы, писал аналитические записки, делал предложения об «учреждении шпионств» в различных пунктах, рассылал маршруты для передвижения русским воинским частям на западной границе. Его деятельностью, видимо, были довольны, так как уже 15 сентября 1811 г. он в 28 лет получил чин подполковника. И именно ему в начале января 1812 г. поручили составить «дислокационную карту» наполеоновских сил в Германии[53]. По этой карте военный министр и император на основе поступавшей развединформации следили за передвижениями французских корпусов к русским границам.
Весной 1812 г. Чуйкевич отправился вместе с Барклаем, назначенным также главнокомандующим 1-й Западной армии, в Вильно. В начале июня 1812 г. он был командирован в Пруссию с военно-дипломатической миссией и использовал этот предлог для сбора разведданных о сосредоточенных вблизи границы и готовых к нападению войсках Наполеона[54].
Когда начались военные действия, Чуйкевич не стал отсиживаться в Главной квартире. Он отпросился и принял участие в рейде первого партизанского отряда под командованием генерала Ф. Ф. Винцингероде[55]. Затем, с 6 июля, как опытный штабной работник, он был назначен обер-квартирмейстером в казачий корпус М. И. Платова, к которому присоединился на марше в Старом Быхове. Командуя казачьими полками, участвовал во многих арьергардных делах при отступлении до Москвы и за отличие 15 августа 1812 г. по представлениям Платова и Барклая де Толли получил чин полковника[56].
Награжденный за Бородинское сражение орденом Св. Владимира 3-й степени, Чуйкевич перед оставлением русскими войсками Москвы, серьезно заболел[57], видимо, сказалось каждодневное напряжение от постоянных стычек и боев, и он удалился из арьергарда. Чуть подлечившись, он сопровождал М. Б. Барклая де Толли в Петербург после его отъезда из армии. В Петербурге Чуйкевич был вынужден, как единственный оставшийся из военных чиновников, 10 января 1813 г. вступить в управление Особенной канцелярией[58] (так стала называться секретная экспедиция в 1812 г.). Более в боевых действиях с французами он не участвовал, так как находился в этой должности до конца 1815 г., а 29 ноября 1816 г. вышел в отставку с мундиром. Но нельзя сказать, что 1813–1811 гг. были спокойными и мирными в жизни Чуйкевича. В 1813 г. он был командирован на усмирение крестьянских бунтов под Новгородом, Вяткой, Вологдой, Арзамасом и Астраханью, где даже получил ранение дробью в ногу[59].
В это время не сидел сложа руки он и как военный писатель. Верный своей привычке писать о важнейших событиях, свидетелем которых он был, Чуйкевич в 1813–1814 гг. опубликовал три книги, посвященные кампании 1812 г. («Покушение Наполеона на Индию 1812 года». СПб., 1813; «Затеи Наполеона в продолжении похода 1812 года». СПб., 1814; «Рассуждения о войне 1812 года». СПб., 1813). Его по праву можно причислять к первым историографам Отечественной войны.
Долго оставаться в отставке Чуйкевич не смог. 21 октября 1820 г. он вновь поступил на службу и был причислен к канцелярии Главного штаба. В 1821 г. его командировали «по особенному поручению» (так в то время часто именовались разведывательные задания) на международный конгресс в г. Лайбах (современная Любляна), а 12 декабря 1823 г. он получил чин генерал-майора. Последняя должность, которую он занимал с 25 октября 1829 г. ― начальник штаба Отдельного Оренбургского корпуса.
Несмотря на служебную занятость, Чуйкевич не оставлял занятий по военной истории. К 1829 г. он успел собрать 44 исторических журналов отдельных воинских частей, в которых содержался огромный по объему материал по боевой подготовке, быту и воинским традициям. Это обширное собрание послужило в будущем толчком для составления «Хроники российской армии». Сам же Чуйкевич не успел уже заняться подобным трудом, так как 17 августа 1831 г. был исключен из списков умершим[60].
Публикуемая записка П. А. Чуйкевича «Патриотическия мысли или политическия и военныя разсуждения…» хранится в Российском военно-историческом архиве (Ф. 494. Д. 14. Л. 1–14). Она была написана им после приезда вместе с военным министром в г. Вильно. По сути дела, этот документ можно рассматривать как обобщающий итог анализа разведданных о наполеоновской армии, накопленных русской военной разведкой в течение длительного времени. Не случайно и то, что автором записки стал Чуйкевич. Незадолго до этого произошла смена руководства главного разведывательного ведомства России ― Особенной канцелярии. Директор этого органа в 1810–1812 гг. полковник А. В. Воейков 19 марта 1812 г. был переведен по инициативе Александра I на должность командира 3-й бригады 27-й пехотной дивизии, поскольку оказался замешанным в деле М. М. Сперанского.
Назначенный на вакантный пост 21 марта 1812 г. полковник А. А. Закревский, до этого находившийся в составе Молдавской армии, вряд ли за короткий срок мог вникнуть во все детали полученной с 1810 г. развединформации. Именно поэтому Чуйкевичу, как единственному офицеру, прослужившему в Особенной канцелярии Военного министерства с начала ее возникновения, было поручено написать аналитическую записку о предстоящей войне с конкретными рекомендациями командованию.
По жанру эта записка относится как разновидность официально-делопроизводственной документации к комплексу проектов военных действий. С 1810 г. до начала войны в адрес высшего русского руководства было подано большое количество планов предстоящей войны с непобедимым доселе Наполеоном. Письменные предложения поступали не только из среды русского генералитета, в этом процессе активно участвовали и иностранцы.
Правда, комплекс предвоенных планов, ставший предметом исследования военными историками, ограничивается несколькими фамилиями: М. Б. Барклая де Толли (план 1810 г.[61]), П. И. Багратиона[62], А. д’Алонвиля[63], К. Толя, П. М. Волконского[64]. С известными оговорками к ним можно причислить предложения Л. И. Вольцогена[65], К. Фуля[66], Л. Л. Беннигсена[67]. Исследователями упоминались проекты Е. Ф. Канкрина[68], А. Вюртембергского[69], Я. П. Гавердовского[70], Ш.-Ф. Дюмурье[71], М. Л. Магницкого, фон Лилиенштерна[72], Фонтона де Верайона[73], К. Ф. Кнезебека и Г.-Ф.-К. Штейна[74]. До настоящего времени практически неизвестными остаются планы генералов И. Б. Барклая де Толли[75], Г. М. Армфельдта, Ф. Ф. Довре[76], Ф. П. Уварова[77], Ф. В. Дризена[78], подполковника барона И. Б. А. Кроссара[79], графа Фолькленда[80], русских офицеров А. И. Полева[81], Жанбара[82], В. И. Крона[83], И. И. Дибича[84] и ряда неизвестных авторов[85]. Можно предположить, что список составителей планов не ограничивается указанными лицами. Их, вероятно, было больше. Анализ же содержания этих проектов, как свидетельство борьбы среди русского генералитета по вопросу о выборе пути и средств к достижению победы, может стать предметом самостоятельного исследования. В то же время большинство предложений служило лишь фоном и не оказало прямого влияния на выработку планов, так как по многим причинам они не могли отвечать требованиям реальной обстановки накануне войны. Подавляющая часть указанных авторов не знала многих важнейших деталей, необходимых для процесса серьезного планирования, так как не была ознакомлена с информацией о состоянии русских сил на границах и не имела доступа к разведывательной документации об армии Наполеона.
Чуйкевич же по занимаемой должности, как никто другой, великолепно знал все разведданные о военно-экономическом потенциале наполеоновской империи, занимался перед войной передислокацией русских воинских частей, был знаком и с большинством указанных нами проектов, которые, как правило, попадали в Особенную канцелярию и хранились в ее архиве. А самое главное, он был близок к военному министру, в чьи обязанности входила окончательная разработка военных планов. Вероятнее всего, молодой офицер неоднократно докладывал свои доводы М. Б. Барклаю де Толли. Но чтобы мнение разведки было учтено на завершающем этапе планирования, глава военного ведомства потребовал представить официальное письменное заключение, каковым и явилась рукопись Чуйкевича.
По своему характеру его записка была интересным эссе по прогнозированию войны, но вряд ли воспринималась современниками как план военных действий, хотя бы потому, что автор не являлся признанным авторитетом и не мог претендовать на это в силу своей молодости и небольшого чина. Ценность записки, на наш взгляд, состояла в убедительной аргументации необходимости отступления до момента равенства сил и ведения активной партизанской войны. Вероятно, любой грамотный штабной офицер, имея несколько лет доступ к секретной информации, пришел бы к аналогичным выводам, сделанными Чуйкевичем, так как сведения разведки не оставляли сомнений, что противнику удалось создать численное превосходство на всей протяженности границ с Россией. Да и сами его рассуждения во многом базировались на рекомендациях, высказанных в донесениях из-за границы наиболее компетентными русскими разведчиками: полковниками Ф. В. Тейлем фон Сераскеркеном и А. И. Чернышевым[86].
Сопоставляя текст 1-й части сочинения Чуйкевича и события войны, которую он прогнозировал, можно сделать вывод, что мысли автора фактически полностью совпали с основной концепцией ведения боевых действий, которой придерживалась русская армия в 1812 г. Но трудно определить или автору удалось выразить господствующие взгляды русского генералитета, или высшее руководство приняло его идеи к реализации. Например, М. И. Кутузов вряд ли был знаком с рукописью Чуйкевича. Но его речь, зафиксированная на Военном совете в Филях по существу повторяет, если не дословно, то смысл текста публикуемой записки: «…с потерянием Москвы не потеряна еще Россия и что первою обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю…»[87]
Если мысли, высказанные Чуйкевичем в 1-й части рукописи, были апробированы последующими событиями, то идеи 2-й части необходимо отнести к неосуществленным проектам и рассматривать как смелые и дерзкие предложения, на которые не решилось русское командование в экстремальной ситуации начала войны.
Политическая аргументация о возможности рейда вглубь территории противника и поднятия антинаполеоновского восстания в Германии была почерпнута Чуйкевичем из сочинения 1811 г. своего коллеги по Особенной канцелярии А. Л. Майера «Политические разсуждения относительно России и Франции, мер принимаемых для освобождения Европы от французского ига и восстановления общей безопасности и спокойствия»[88]. Автором, безусловно, учитывались и пожелания М. Б. Барклая де Толли и самого императора, в начале 1812 г. стоявших за осуществление диверсии в Германию и высадку союзного десанта на северогерманском побережье[89].
Но вся военно-теоретическая часть разработана автором в оригинальной манере и заслуживает внимания как памятник русской военной мысли. Предложения, заложенные во 2-й части сочинения, не были в полной мере выполнены в 1812 г. в виду изменения политической ситуации и из-за нехватки людских резервов. Все же его теоретические обоснования необходимости проведения партизанских походов получили подтверждения в боевой практике уже в 1812 г., когда русские летучие отряды, составленные в основном из казачьих полков, в конце лета и начале осени наводнили герцогство Варшавское, а в 1813 г. конные отряды союзников прорывались вглубь Германии, захватывали города и разрушали коммуникации наполеоновской армии.
* * *
До сих пор П. А. Чуйкевич не был оценен по достоинству в историографии и как военный историк. Его труды, анализирующие по горячим следам события 1812 года, заложили концепцию, основанную на учете морального фактора и социальной природы войны. Он был одним из первых авторов, кто применил сравнительный метод и провел параллели между войнами Наполеона в Испании и в России. Информированный и активный участник составления русского предвоенного плана, Чуйкевич в своих трудах выступил как первый историк, доказывавший, что в основу действий русских войск в силу вынужденной необходимости лег хорошо взвешенный оборонительный проект. Его веские свидетельства и аргументы обходили стороной историки, отрицавшие наличие плана и считавшие отступление к Москве стихийным, под влиянием обстоятельств. В силу этого публикуемое письмо 1814 г. П. А. Чуйкевича неизвестному[90] (хранится в Центральном Государственном историческом архиве. Ф. 1409. Оп. 1. Ед. хр. 845. Л. 1–2) будет также представлять большой интерес для историографии Отечественной войны 1812 года.
51
РГВИА. Ф. 489. Оп. I. Д. 7046. Л. 120–121, 276–277; Столетие военного министерства. 1802–1902. Т. III. Отд. 5. СПб., 1909. С. 77–78.
52
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 421. Л. 19.
53
Там же. Ф. 37. Оп. 191. Св. 3. Д. 18. Л. 22.
54
Отечественная война 1812 года. Отд. 1. Т. ХШ. СПб., 1910. С. 74–80.
55
Там же. С. 277, 314.
56
Там же. Т. ХIV. СПб., 1911. С. 282; Донские казаки в 1812 году. Ростов н/Д, 1954. С. 125, 133; Труды Московского отделения ИРВИО. Т. IV. Ч. 1. М., 1913. С. 183; РГВИА. Ф. 29. Оп. 153а. Д. 1144. Л. 1–2 об.
57
Бородино. Документы, письма, воспоминания. М., 1962. С. 399.
58
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 466. Л. 22.
59
Там же. Д. 496. Л. 404 об.; Отечественная война и русское общество. 1812–1912. Т. V. М., 1912. С. 85–86.
60
Столетие Военного министерства… Т. III. Отд. 5. С. 486.
61
См.: Отечественная война 1812 года. Т. I. Ч. 2. СПб., 1900. С. 1–6.
62
Генерал Багратион. Сборник документов и материалов. Л., 1945. С. 130–138.
63
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 3482.
64
Отечественная война 1812 года. Т. XI. СПб., 1909. С. 61–63, 324–333.
65
Там же. Т. V. СПб., 1904. С. 108–111; РГВИА. Ф. 103. Оп. 4/210. Св. 20. Д. 123.
66
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 3574, 3584, 3730; Ф. 29. Оп. 9. Д. 207. Л. 2 об.
67
Там же. Ф. ВУА. Д. 427, 3464, 3523; Отечественная война 1812 года. Т. III. СПб., 1902. С. 83–93.
68
Божерянов Н. Н. Граф Егор Францевич Канкрин. СПб., 1897. С. 16–17.
69
Отечественная война 1812 года. Т. X. СПб., 1908. С. 253–275; РГВИА. Ф. ВУА. Д. 3365.
70
Там же. Д. 3683 Л. 5–12; Ф. 103. Оп. 4/ 210. Св. 20. Д. 129. Л. 22–31.
71
Лыжин Н. П. Дюмурье в Англии и его планы во время войны 1812 и 1813 годов // Русский вестник. 1861. № 12. С. 427–428.
72
Борисов В. К. К вопросу о плане Пфуля // Военный сборник. 1898. № 4. С. 255; РГВИА. Ф. ВУА. Д. 432. Л. 40; Д. 439. Л. 39–40; Д. 3574. Ч. 1. Л. 1–18 об.; Ф. 29. Оп. 9. Д 206. Л. 4.
73
Богданович М. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам: в 3 т. Т. 1. СПб., 1859. С. 466.
74
Харкевич В. 1812 год: От Немана до Смоленска. Вильно, 1902. С. 80; Попов А. Н. Эпизоды из истории двенадцатого года // Русский архив. 1892. № 3. С. 344.
75
Отечественная война 1812 года. Т. IV. СПб., 1903. С. 1–73; Т. VII. СПб., 1907. С. 217–242.
76
РГВИА. Ф. 103. Оп. 4/210. Св. 20. Д. 123. Л. 2 об. – 10 об.; Ф. ВУА. Д. 432. Л. 59 об.; Д. 3483. Л. 1–4.
77
Отечественная война 1812 года. Т. V. СПб., 1904. С. 238–241.
78
РГВИА. Ф. 29. Оп. 153а, Св. 12. Д. 1287. Л. 1–2; Ф. ВУА. Д. 432. Л. 65 об.
79
Там же. Ф. 103. Оп. 4/210. Св. 20. Д. 123. Л. 12–26; Mémoires militaires et historiques pour sérvir á lʼhistoire de la guerre depuis 1792 jusquʼen 1815 inclusivement par m. le baron Crossard. T. 4. Paris, 1829. P. 302–327.
80
РГВИА. Ф. 29. Оп. 9. Д. 207. Л. 3; Ф. ВУА. Д. 17918. Л. 6–37.
81
Там же. Ф. 37. Оп. 191. Св. 3. Д. 18. Л. 26 об.; Ф. ВУА. Д. 431.
82
Отечественная война 1812 года. Т. VII. СПб., 1907. С. 209–217.
83
Там же. Т. II. СПб., 1902. С. 213–233.
84
Там же. Т. XIII. СПб., 1910. С. 379–402.
85
Там же. Т. IX. СПб., 1908. С. 190–192; Т. Х. СПб., 1908. С. 68–69; Т. XII. СПб. 1909. С. 286–291.
86
Отечественная война 1812 года. Т. V. СПб., 1904. С. 139; Т. IХ. СПб., 1908. С. 66–70; Записка флигель-адъютанта Чернышева о средствах к предупреждению вторжения неприятеля в 1812 году // Военный сборник. 1902. № 1. С. 183–192.
87
М. И. Кутузов: сборник документов… Т. IV. Ч. 1. М., 1954. С. 221.
88
РГВИА. Ф. 37. Оп. 191. Св. 3. Д. 18. Л. 24 об.
89
Внешняя политика России ХIХ и начала ХХ века. Серия I. Т. 6. М., 1962. С. 267–271.
90
Из современников письмо могло быть адресовано или к графу А. А. Аракчееву, или графу (в 1814) М. Б. Барклаю де Толли, имевшим прямой выход на императора и бывшим в начале кампании 1812 г. в литовском местечке Видзы.