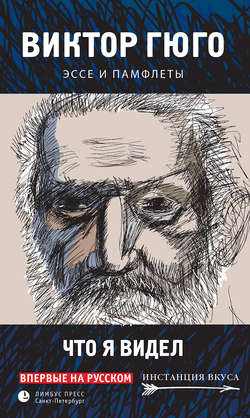Читать книгу Что я видел. Эссе и памфлеты - Виктор Гюго - Страница 3
Из книги «Литература и философия»
О Вольтере
Декабрь 1823 г
ОглавлениеФрансуа-Мари Аруэ, столь известный под именем Вольтера, родился в Шатене 20 февраля 1694 года в семье судейского чиновника. Он воспитывался в иезуитском колледже, где один из его учителей, отец Леже, как уверяют, предсказал ему, что он станет корифеем деизма во Франции1.
Едва выйдя из колледжа, Аруэ, талант которого пробудился во всей полноте и непосредственности юности, встретил непреклонного хулителя в лице родного отца и развращающую снисходительность со стороны крестного, аббата де Шатонеф. Отец, неизвестно почему, с непреодолимым упрямством осуждал любые литературные занятия сына. Крестный, напротив, поощрял попытки Аруэ. Он очень любил стихи, особенно те, в которых присутствовал привкус распутства и нечестивости. Один хотел засадить поэта за изучение юриспруденции, другой сбивал молодого человека с пути истинного, вводя его во все салоны. Г-н Аруэ запрещал сыну всякое чтение, Нинон де Ланкло завещала библиотеку ученику своего друга Шатонефа. Таким образом, к своему несчастью, гений Вольтера испытывал с самого рождения давление со стороны двух противоположных, но одинаково пагубных сил; одна неистово стремилась погасить священный и неугасимый огонь; другая неосмотрительно питала его за счет всего того, что есть благородного и достойного уважения в умственном и общественном порядке. Быть может, эти два противоположных импульса, переданные одновременно первым взлетам этого мощного воображения, навсегда исказили его направление. По меньшей мере на их счет можно отнести первые отклонения от прямого пути таланта Вольтера, измученного уздой и ударами шпор.
Вот почему в самом начале его карьеры Вольтеру приписали довольно скверные и весьма дерзкие стишки, за которые его отправили в Бастилию2, суровое наказание за плохие рифмы. Именно в эти часы вынужденного досуга двадцатидвухлетний Вольтер набросал в общих чертах свою бледную поэму «Лига», названную впоследствии «Генриадой»3, и завершил замечательную драму «Эдип». После того как Вольтер провел несколько месяцев в Бастилии, он был освобожден и получил пенсию от регента, принца Орлеанского, которого поблагодарил за то, что тот взял на себя расходы по его содержанию, но попросил не обременять себя больше заботой о его жилище.
«Эдип» был с успехом сыгран в 1718 году. Ламотт, оракул того времени, соблаговолил посвятить пьесе нескольких сакраментальных фраз, и с этого началась слава Вольтера. Сегодня Ламотт обязан своим бессмертием только тому, что его имя упоминается в сочинениях Вольтера.
За «Эдипом» последовала трагедия «Артемида». Она провалилась. Вольтер совершил путешествие в Брюссель, чтобы повидать там Жана-Батиста Руссо, которого столь странно называли великим. До личного знакомства оба поэта испытывали друг к другу уважение, расстались же они врагами. Говорили, что они завидовали друг другу. Это вряд ли свидетельствует в их пользу.
«Артемида», переделанная и вновь поставленная в 1724 году под названием «Марианна», имела большой успех, хотя не стала от этого лучше. Примерно в это же время появилась «Лига», или «Генриада», но Франция не получила эпическую поэму. Вольтер заменил в своем сочинении Сюлли на Морне, потому что у него были причины жаловаться на потомка великого министра. Эта не слишком философская месть, однако, вполне простительная, поскольку Вольтера подло оскорбил какой-то шевалье де Роан у самых ворот особняка Сюлли, и поэт, покинутый судебными властями, не мог отомстить иначе.
Справедливо возмущенный безмолвием закона в отношении презренного обидчика, Вольтер, уже будучи знаменитым, удалился в Англию, где принялся изучать софистов. Однако он не потратил на них весь свой досуг; он написал две новые трагедии, «Брут» и «Цезарь», многие сцены из которых достойны Корнеля.
Вернувшись во Францию, он сочинил одну за другой «Эрифилу», которая провалилась, и «Заиру», шедевр, задуманный и завершенный за восемнадцать дней, которому не хватает только местного колорита и некоторой строгости стиля. «Заира» имела необычайный и заслуженный успех. Трагедия «Аделаида Дю Гесклен» (впоследствии «Герцог де Фуа») последовала за «Заирой», но не имела такого успеха. Несколько следующих лет Вольтер потратил на менее значительные публикации: «Храм вкуса», «Письма об Англии»4 и т. д.
Тем временем слава его уже распространилась по всей Европе. Удалившись в Сирей, к маркизе дю Шатле, женщине, которая, по выражению самого Вольтера, обладала способностями ко всем наукам, кроме науки жизни, он иссушал свое прекрасное воображение алгеброй и геометрией, писал «Альзиру» и «Магомета», остроумную «Историю Карла XII», собирал материалы для «Века Людовика XIV», готовил «Опыт о нравах разных наций» и посылал мадригалы Фридриху, наследному принцу Пруссии. «Меропа», также написанная в Сирее, закрепила репутацию Вольтера как драматурга. Он счел, что теперь может выставить свою кандидатуру, чтобы заменить кардинала Флери во Французской академии. Его не приняли. У него был пока только талант. Однако какое-то время спустя он принялся льстить мадам де Помпадур; он это делал с такой настойчивой любезностью, что тут же добился и кресла академика5, и звания камергера, и места историографа Франции. Но эта благосклонность продлилась недолго. Вольтер удалился сначала в Люневиль к доброму королю польскому и герцогу Лотарингскому Станиславу, потом в Со, к г-же дю Мен6, где написал «Семирамиду», «Ореста» и «Спасенный Рим»; затем в Берлин, к Фридриху, ставшему королем Пруссии. В этом последнем убежище он провел несколько лет, получив должность камергера, прусский орден «За заслуги» и пенсию. Он был принят на королевских ужинах вместе с Мопертюи, д’Аржансоном и Ляметри7, атеистом на службе у короля, который, как говорит сам Вольтер, жил без двора, без совета и без богослужений. Но это не была возвышенная дружба Аристотеля с Александром, Теренция со Сципионом. Нескольких лет близкого общения оказалось достаточно, чтобы растерять то немногое, что было общего в душе философствующего деспота и поэта-софиста. Вольтер захотел сбежать из Берлина. Фридрих выгнал его.
Изгнанный из Пруссии, отвергнутый Францией, Вольтер провел два года в Германии, где опубликовал «Анналы империи», любезно составленные им для герцогини Саксен-Готской; затем он поселился у ворот Женевы вместе со своей племянницей, г-жой Дени.
Трагедия «Китайский сирота», в которой еще блистает почти весь талант Вольтера, стала первым плодом этого уединения, в котором он и жил бы в мире, если бы алчные книгопродавцы не напечатали его отвратительную «Девственницу»8. В это же время, находясь то в Делисе, то в Турнее, то в Фернейе, он написал «Поэму о лиссабонском землетрясении», трагедию «Танкред», несколько рассказов и другие сочинения.
Именно тогда он со слишком выставленным напоказ великодушием выступил в защиту достойных сожаления жертв юридических ошибок – Каласа, Сирвена, Ля Барра, Монбайля и Лялли9. Тогда же он поссорился с Жан-Жаком, подружился с императрицей России Екатериной, для которой написал историю ее предка, Петра I, и помирился с Фридрихом. Также к этому времени относится его сотрудничество в Энциклопедии; произведения людей, которые, желая доказать свою силу, доказали лишь свою слабость, создав этот чудовищный памятник, под стать которому во время революции была отвратительная газета «Монитер».
Отягощенный годами Вольтер вновь захотел увидеть Париж. Он вернулся в этот Вавилон, который имел так много общего с его дарованием. Встреченный всеобщими приветственными криками, несчастный старец смог увидеть перед смертью, как популярны его деяния. Он мог радоваться или ужасаться своей славе. Ему не хватило жизненных сил, чтобы выдержать волнения этого путешествия, и он скончался в Париже 30 мая 1778 года. Вольнодумцы утверждали, что он унес с собой свое неверие. Мы не дойдем до этого.
Мы рассказали о частной жизни Вольтера; сейчас мы попытаемся обрисовать его общественную и литературную деятельность.
Сказать «Вольтер» – значит охарактеризовать весь восемнадцатый век; это значит запечатлеть в одном штрихе двойственный исторический и литературный характер этой эпохи, которая, что бы ни говорили, была только переходной как для общества, так и для поэзии. Восемнадцатый век в истории всегда будет казаться как будто зажатым между предшествующим и последующим веками. Вольтер в нем – главное действующее лицо, в какой-то степени типическое. И каким бы необычайным ни был этот человек, он все же кажется жалким между великим образом Людовика XIV и гигантской фигурой Наполеона.
В Вольтере соединились два существа. Его жизнь была подвержена двум влияниям. Его произведения имели двойные последствия. Именно на эту двойную деятельность, одна сторона которой господствовала в литературе, а другая сказалась на исторических событиях, мы сейчас бросим взгляд. Мы по отдельности изучим каждую из двух сторон вольтеровского гения. Не надо, однако, забывать, что их двойная сила была четко скоординирована, а результаты ее воздействия, скорее соединенные, были всегда общими и одновременными. И если в этих заметках мы изучаем их по отдельности, это только потому, что было бы не в наших силах охватить единым взглядом необозримое единство; мы подражаем в этом искусству восточных художников, которые, не умея нарисовать фигуру спереди, ухитряются, однако, дать ее полное изображение, помещая два профиля на одном рисунке.
В литературе Вольтер оставил один из тех памятников, вид которых скорее поражает своими размерами, чем внушает почтение величием. В построенном им здании нет ничего величественного. Это вовсе не королевский дворец, это не приют для бедняков. Это изящный, просторный и удобный крытый рынок неправильной формы, где неисчислимые богатства выставлены в грязи; где любые интересы, любое тщеславие, любые страсти найдут то, что им подходит; ослепительный и отвратительный, он предлагает проституцию для любовных наслаждений; он населен бродягами, торговцами и бездельниками, и туда редко заходит священник и бедняк. Там – блестящие галереи, постоянно заполненные восхищенной толпой, тайные пещеры, в которые еще никто не смог проникнуть. Под этими роскошными аркадами вы найдете тысячи шедевров искусства, переливающихся золотом и бриллиантами; но не ищите здесь бронзовую статую строгих античных форм. Вы найдете здесь украшения для ваших салонов и будуаров; но не ищите здесь убранства, подходящего для алтаря. И горе слабому, все богатство которого заключено в его душе, и кто подвергает ее соблазнам этого великолепного притона; чудовищный храм, где есть свидетельства всего, что не является истиной, и поклонение всему, что не есть Бог!
Разумеется, если мы хотим говорить о такого рода памятнике с восхищением, от нас не будут требовать, чтобы мы говорили о нем с уважением.
Мы пожалели бы город, где рынок наводнен толпой, а церковь безлюдна; мы пожалели бы литературу, которая оставила тропу Корнеля и Боссюэ, чтобы бежать по следам Вольтера.
Однако мы далеки от мысли отрицать гений этого необыкновенного человека. Поскольку, будучи убежденными в том, что гений был, быть может, одним из самых прекрасных, которым когда-либо был одарен писатель, мы еще более горько сожалеем о пустом и пагубном его употреблении. Нам обидно и за Вольтера, и за литературу, что он обратил против неба полученную им от неба же силу разума. Мы оплакиваем этот прекрасный гений, не понявший свою высокую миссию, этого неблагодарного, осквернившего нравственную чистоту музы и святость отечества, этого перебежчика, забывшего, что место поэтического треножника – рядом с алтарем. И (в этом состоит глубокая и неизменная истина) сама его вина заключала в себе его наказание. Слава его намного менее велика, чем она должна была быть, потому что он пытался добиться любой славы, даже славы Герострата. Он обрабатывал все поля, но нельзя сказать, что он возделал хотя бы одно из них. И, поскольку он обладал преступным честолюбием сеять на них как дающие пропитание, так и ядовитые семена, к его вечному стыду, больше всего плодов принесли отравленные побеги. «Генриада» как литературное сочинение еще ниже «Девственницы» (это не означает, разумеется, что это преступное произведение лучше, даже в своем постыдном жанре). Его сатиры, отмеченные иногда дьявольским клеймом, гораздо выше его более невинных комедий. Его легкие стихи, где часто проявляется обнаженный цинизм, предпочитают его лирическим стихотворениям, в которых иногда можно найти серьезные, религиозные строки.[7] Наконец его рассказы, столь приводящие в уныние своим неверием и скептицизмом, стоят больше, чем его исторические сочинения, в которых тот же порок менее заметен, однако постоянное отсутствие достоинства противоречит самому жанру этих произведений. Что касается его трагедий, где он проявляет себя как действительно великий поэт, где часто находишь и характерные черты, и слова, идущие от сердца, то нельзя отрицать, что, несмотря на такое количество великолепных сцен, им довольно далеко до Расина и особенно до старика Корнеля. И здесь наше мнение тем менее сомнительно, что углубленный анализ драматических произведений Вольтера убеждает нас в его высоком мастерстве в области театра. Мы не сомневаемся, что если бы Вольтер, вместо того чтобы распылять колоссальную силу своей мысли в двадцати разных жанрах, направил их все к одной цели – трагедии, он превзошел бы Расина, и, быть может, даже сравнялся с Корнелем. Но он растратил свой гений на остроты. Поэтому он был необычайно остроумен. Вот почему печать гения лежит скорее на всех его произведениях в целом, чем на каждом из них в отдельности. Постоянно занятый своим веком, он слишком пренебрегал мнением потомства, суровый образ которого должен всегда оказывать влияние на все размышления поэта. Сражаясь из каприза и по легкомыслию со своими капризными и легкомысленными современниками, он хотел нравиться им и насмехаться над ними. Его муза, которая была бы так прекрасна своей естественной красотой, часто заимствовала очарование у румян и кокетливых ужимок, так что постоянно испытываешь желание дать ей совет ревнивого любовника:
Вольтер, кажется, не знал, как много прелести заключено в силе и что самые возвышенные творения человеческого ума в то же время, быть может, самые бесхитростные. Так как воображение умеет раскрывать свое небесное происхождение, не прибегая к посторонним уловкам, достаточно увидеть ее поступь, чтобы узнать в ней богиню. Et vera incessu patuit dea.[9]
Если бы было возможно изложить вкратце все разнообразные идеи, присутствующие в литературном творчестве Вольтера, мы могли бы отнести их к разряду тех чудес, которые латиняне называли monstra.[10] Действительно, Вольтер – это феномен, быть может, единственный в своем роде, который мог родиться только во Франции и только в восемнадцатом веке. Разница между его литературой и литературой великого века в том, что Корнель, Мольер и Паскаль больше принадлежат обществу, Вольтер – цивилизации. Читая его, чувствуешь, что это писатель расслабленного и безвкусного времени. Он обладает привлекательностью, но не изяществом, авторитетом, но не очарованием, блеском, но не величием. Он умеет льстить, и не умеет утешать. Он очаровывает, но не убеждает. За исключением трагедии, которая ему лучше всего удается, таланту Вольтера не хватает нежности и искренности. Чувствуется, что все это результат организации, а не следствие вдохновения; и когда врач-атеист говорит вам, что Вольтер весь состоял из одних только сухожилий и нервов, вы боитесь, что он прав. Впрочем, как и другой, более современный честолюбец, мечтавший о политическом господстве, Вольтер тщетно пытался достичь господства литературного. Абсолютная монархия не подходит человеку. Если бы Вольтер понял, что такое подлинное величие, он находил бы славу в единстве, а не в разносторонности. Сила проявляется вовсе не в постоянных перемещениях и бесконечных перевоплощениях, а в величественной неподвижности. Сила – это не Протей, это Юпитер.
Здесь начинается вторая часть нашего труда; она будет короче первой, поскольку, к несчастью, благодаря французской революции политические последствия философии Вольтера общеизвестны. Однако было бы крайне несправедливо возлагать только на произведения «фернейского патриарха» ответственность за эту роковую революцию. Здесь нужно видеть результат давно начавшегося социального распада. Вольтер и эпоха, в которую он жил, должны обвинять и извинять друг друга. Слишком сильный, чтобы подчиниться своему веку, Вольтер был также слишком слаб, чтобы властвовать над ним. Из этого равенства влияний проистекает постоянное противодействие между ним и его веком, взаимный обмен святотатством и безрассудством, вечный прилив и отлив новшеств, который постоянно увлекал за собой какой-нибудь старый устой социального здания. Представим себе политическое лицо восемнадцатого столетия, скандалы регентства, гнусности Людовика XV; насилие в министерстве, насилия в парламентах, повсеместное бессилие; моральное развращение, постепенно спускающееся от головы к сердцу, от вельмож к народу; придворных прелатов, будуарных аббатов; древнюю монархию, старое общество, шатающиеся на своем общем основании и способные еще сопротивляться атакам новаторов только благодаря магии прекрасного имени Бурбонов;[11] представим себе Вольтера, брошенного в это разлагающееся общество, как змея в болото, и мы не будем больше удивляться тому, что заразительное воздействие его мысли ускорило конец того политического порядка, на который напрасно нападали в период своей молодости и расцвета сил Монтень и Рабле. Это не он сделал болезнь смертельной, но именно он вызвал ее развитие, он обострил ее приступы. Понадобился весь яд Вольтера, чтобы довести до кипения эту грязь; вот почему мы должны вменить в вину этому несчастному большую часть чудовищных вещей, творившихся во время революции. Что касается самой этой революции, она и должна была стать неслыханной. Провидение пожелало поместить ее между самым опасным из софистов и самым грозным из деспотов. На заре ее в погребальных сатурналиях[12] появляется Вольтер; на закате из кровавой резни[13] поднимается Бонапарт.
7
Г-н граф де Местр в своем суровом и замечательном описании Вольтера замечает, что он ничего собой не представляет как автор од, и приписывает эту незначительность отсутствию энтузиазма. Вольтер действительно не иначе как с неприязнью занимался лирической поэзией, и делал это только для того, чтобы оправдать свои притязания на универсальность. Ему было чуждо любое глубокое переживание; из всех эмоций он знал лишь одну – гнев, но даже гнев никогда не доходил до того негодования, которое, как говорит Ювенал, создает поэта, facit indignatio versum. (Негодование пишет стихи (лат.).) (Прим. авт.)
8
Послушай мой совет: / Не для тебя искусство, тебе в нем нужды нет (фр., Вольтер, «Заира», IV, 2).
9
И горделивая поступь изобличает богиню (лат., Вергилий, «Энеида», I, 405).
10
Чудовища (лат.).
11
Всеобщая деморализация должна была пустить очень глубокие корни, для того чтобы в конце этого века небо понапрасну послало Людовика XVI, этого высокочтимого мученика, который возвысил свою добродетель до святости. (Прим. авт.)
12
Перенесение останков Вольтера в Пантеон. (Прим. авт.)
13
Расстрел у церкви Сен-Рок10. (Прим. авт.)