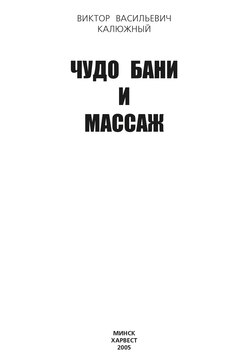Читать книгу Чудо бани и массаж - Виктор Калюжный - Страница 11
Глава 1. Баня и банные ритуалы: немного истории
1.7. Чья баня лучше
ОглавлениеВопрос, конечно, интересный, тем более, что «каждый кулик свое болото хвалит», и не без оснований – не могут бани быть одинаковыми везде, хотя бы из-за наличия у каждого народа национальных традиций, своего уклада жизни и т. д. Образно говоря, то, что хорошо северянину, не обязательно должно быть по душе африканцу или китайцу. Вот и сложились исторически римская, восточная, русская, финская, японская, ирландская и другие бани. Наука, впрочем, классифицирует бани по другим показателям – физическим параметрам. Например, немецкий профессор Г. Краус считает, что в Европе таких бань три: 1) русская паровая (очень влажная баня); 2) римская или турецкая (очень сухая с разной температурой воздуха в разных парильных помещениях); 3) финская (суховоздушная, очень жаркая сауна).
Однако такое деление бань по температуре и качеству пара не совсем корректно, поскольку при нем русская и финская бани кажутся чуть ли не антиподами. Заблуждение профессора выясняется при описании им «русской бани», ее устройства и размеров. Он в своем сравнении «русской» считает большую городскую баню, в которой трудно держать воздух сухим. Исконно же русская баня всегда была сухой. Поэтому некоторые исследователи предлагают различать среди русских бань классическую (деревенскую) и городскую (общественную).
Специалист по баням и большой любитель париться А. А. Бирюков предлагает другую классификацию: 1) баня-каменка типа русской или финской (с температурой до 120 °С, влажностью от 5 до 20 %); 2) паровая (сырая) баня с влажностью воздуха от 75 до 100 %, температурой 60–70 °С; 3) водяная, или японская, баня. Пожалуй, такое деление бань ближе к истине, и с мнением А. А. Бирюкова можно согласиться. А на вопрос, какая баня лучше, уместно ответить словами одного мудреца: «Лучшая баня та, которая давно построена, просторна и имеет мягкую воду». Кстати, другой мудрец к этому добавил: «И та, которую топят сообразно натуре тех, кто хочет в нее войти». Так что мало подвести в баню воду, напустить пара. Оборудовать места для сидения и лежания в бане тоже не главное. Главное, чтобы банный ритуал и предоставляемый банный сервис обеспечивали и удовлетворение индивидуальных запросов каждого посетителя, чтобы после бани он почувствовал себя «обновленным», бодрым, жизнерадостным и готовым с новой энергией окунуться в решение предстоящих дел.
Споры о том, чья национальная баня лучше, таким образом, теряют смысл. Все бани хороши по-своему. Ощущение блаженства вполне может обеспечить даже обычная лесная или дачная бревенчатая банька в гармонии с природой и окружающим миром, даже если она топится «по-черному».
Вот как А. А. Бирюков описывает местные традиции при посещении такой бани на Урале у озера Тургояк: «Дядя Саша поджидал нас у своего дома с резными узорчатыми наличниками. Еще накануне, узнав, что в поселок приехали спортсмены из Москвы, он, большой знаток и любитель бани, пригласил нас на первый пар.
Баня уже готова, но должна еще, по словам хозяина, «дозреть». И пока она «дозревает», дядя Саша с видимым удовольствием рассказывает нам, почему летом надо топить только березовыми, а зимой – и березовыми, и дубовыми дровами. В дровах он ценит и душистость, и мягкость, и сухость, рассказывает, как эти свойства в спиленном дереве сохранять.
Утро морозное (–36 °С), и баня манит нас своим теплом. Топится она «по-черному» и вид у нее бывалый. Оказывается, в ней еще родители 65-летнего дяди Саши парились.
Наконец входим в сумрачный предбанник. На полу туесок с мороженой брусникой, березовый сок, квас, настой из сосновой хвои.
Парилка оказалась маленькой, насквозь прокопченной. В углу – печь-каменка со встроенным баком для воды, трехступенчатые полки. На полу «ковер» из золотистой соломы.
Дядя Саша разложил нас на полки, плеснул кваском на камни, взял в руки два веника и… приступил. Он гладил мою спину, потом поднимал веники, «брал» ими жар и прижимал его к моим лопаткам и пояснице. Веники заходили, заплясали в его руках. Еще раз плеснул на камни, теперь уже соснового настоя, и дышать стало трудно, нестерпимо. Я застонал, дядя Саша тут же окунул веник в холодный квас и смочил мою спину. Потом встряхнул веники под потолком и вновь зашелестел ими.
Когда и спина и грудь мои испытали мягкость и упругость березового веника, дядя Саша властно открыл дверь и велел окунуться в сугроб. После 30-секундного «купания» я вбежал в парную на самую высокую ступеньку, где меня уже ждал в клубах свежего пара дядя Саша с вениками в руках. Еще 2–3 минуты массажа, и, обессиленный, я скатился вниз на душистую солому.
А потом в предбаннике, медленно обтираясь и одеваясь, я размышлял, отчего легкость после бани возникает не только в теле. Откуда приходит вдруг ясность мысли, осознанная любовь ко всему, что окружает, – и к этой белой равнине за окном, к той заснеженной сосне? Ведь шел два часа назад в баню и не замечал сосну. Какое-то особое благодушие наступило, освобождение от обыденных забот».
Приведем еще пример. Василий Шукшин был большим любителем и знатоком русской бани. Вот как описывает он местные традиции банной процедуры в рассказе «Алеша Бесконвойный», главный герой которого Алеша пять дней в неделю безотказно трудился, а в субботу, как ни стыдили его, как ни уговаривали, с утра топил баню и посвящал ей целый день.
«…У него была своя наука – как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые, они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением…
…Потом момент – разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке…
Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два – так, одно – так, поперек, а потом сверху. Но там – в той амбразуре-то, которая образуется-то, – там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще наловчились теперь обливать, – там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал – загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент – когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, – все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково… Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!»
Алеша накидал на пол сосновых лап – такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, – славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор… Сунулся опять в баню, – нет, угарно.
Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть.
…И пошла тут жизнь – вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая – до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра… – стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность – жизнь стала понятной…».
Действительно, банная процедура приносит умиротворение, облегчение и ясность мысли. Вероятно, поэтому в бане так плодотворно обсуждаются деловые вопросы, ведутся дружеские беседы и проявляется философская склонность к рассуждениям.