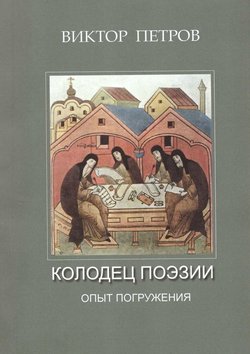Читать книгу Колодец поэзии. Опыт погружения - Виктор Михайлович Петров - Страница 3
КОЛОДЕЦ ПОЭЗИИ
Оглавление«Кладезь хладен и сладок…»
Из «Повести о Дракуле», XVI в.
В лето 2013 в нашей деревне вышла из строя водонапорная башня. Стояла сухая и жаркая погода. Колонки с прикрученными к ним шлангами для полива стали бессмысленными. Люди вспомнили о колодцах, а их осталось только два, да и те в полном запустении. Но делать нечего, потянулись к ним за водой, которую в эту пору иначе и не назовёшь как «живая». Вода в колодцах оказалась затхлой и мутной. В скором времени кончилась и она, обнажилось илистое дно, так что черпали грязную жижу. Постепенно, ведро за ведром, очистили колодцы, и в глубине засверкали струйки подземных родничков. Старые колодцы медленно заполнялись водой – свежей, чистой, питьевой! Рано, рано забросили их, надеясь на казенную трубопроводную воду.
Эта беда по времени совпала с моими размышлениями о поэзии, как общечеловеческом и отечественном явлении именно в историческом ключе. Мы пользуемся языком, как водой, не очень-то задумываясь о творцах колодезной речи. Небывалая для начала лета жара добавила раскалённости чувствам и мыслям. Колодцы нашей деревни копали люди предшествующего поколения. Что я знаю о них? Да ничего! А они рыли кладези по образцу своих дедов.
Так телесное и духовное слились в единый образ. И я задумал то, что необходимо было проделать ещё в юности, – самостоятельно спуститься в колодец родной речи и добраться до зеркала, до горизонта линзы «живой воды» языка поэзии. Крайняя необходимость в этом для меня воспринималась как боль самого русского языка, не менее живого по своей природе, чем загадочное вещество воды. Была наша страна самой читающей в мире, а ныне даже правители вынуждены делать печальный вывод: не читают, оскудело слово, помутнели традиционные ценности. Но вот парадокс, уже замеченный и озвученный в печати. Да, мы теперь менее читающая держава, но, пожалуй, самая пишущая. От маргинала до адмирала сочиняют стихи, строчат прозу. Эта «высокая болезнь» стала своего рода эпидемией. Ныне язык температурит и лихорадит, он это чувствует и вянет, как растения, лишённые полива. Может быть, зуд писательства и есть следствие отчаянной его попытки самосохранения? Пути к новой читающей России прокладываются творчеством поэтов, литераторов. Словно рыба, язык избыточно выпрастывает миллионы икринок-стихотворцев, в надежде, что хотя бы некоторые из них разовьются в зрелые организмы.
В самый разгар жары вспомнился мне рассказ-притча из «Повести временных лет». Случилось это в скором времени после принятия Русью христианства. В лето 997 множество печенегов, пришедших из суховейных степей, осадили старинный древнерусский город Белгород, управляемый великим князем Владимиром. Люди так изнемогли, что уже склонялись сдаться врагу. В этот час явился некий старец и посоветовал осаждённым вырыть два колодца, собрать остатки еды и в один колодец поместить бадью с киселём, а в другой – с сытой (подслащенной мёдом водой). Пригласили печенежских послов. Воевода Белгорода обратился к ним со словами: «Почто губите себя? Коли можете перестоять нас? Аще стоите за десять лет, что можете сотворить нам? Имеем бо кормлю от земли. Аще ли не веруете, да узрите своима очима». Подвели к одному колодцу, подвели к другому. Действительно, питают они белгородцев! Испугались и ушли иноземцы прочь. Есть в этой притче глубокий смысл. Не только о материальных, но и о духовных колодцах идёт в ней речь. Дух народа заключён в глубинах времени, в родном языке, питательном и спасительном для людей в отчаянные годы.
Неужели окончательно пришли в негодность языковые колодцы, вырытые и обустроенные нашими предками? Всё, что смогли зачерпнуть из них поэты и литераторы золотого, серебряного и советского веков, течёт, отфильтрованное, по духовным «водопроводам», по коммуникациям современности. Но водопроводы могут перекрыть в любой момент. Без своего источника человек теряет автономию, попадает в зависимость от текущего или не текущего момента жизни.
Известно, что язык уходит во тьму тысячелетий, до самых первых пластов новорожденного человечества. Сочится он сквозь историю от праславянского родника, от зеркала индоевропейского словесного моря, общего для множества народов и, ещё глубже, из тёмной линзы некогда единого подземного океана ностратического (от лат. noster – наш) языка. Необходима «археология языкознания», чтобы представить себе древо человеческих языков от единых корней до вершины ветвистой кроны. Возможно, благодаря тонким компьютерным программам это когда-нибудь произойдёт. Но пить-то хочется каждый день!
Языкознание ныне проделало определённую работу по сравнительному анализу словаря индоевропейской языковой семьи, дало множество примеров сходства корней слов русского языка с первым письменно зафиксированным и родственным нашим предкам – санскритом. В праславянском языке для души и ума уже яснее брезжит нечто родное. Но он не был зафиксирован письменно, а устное творчество народов безнадёжно перемешано тысячелетним текучим бытованием. Сотни поэтов разных времён и племён метафора за метафорой творили, обогащали, соединяли и разделяли языки в народной песне, эпосе, поговорке, речении. Формы поэтических произведений век от века и этнос от этноса видоизменялись, но поэзия не исчезала, оставаясь духовным питьём и пищей человека.
Общеиндоевропейское стихосложение, по научным реконструкциям, было силлабическим, основанном на сочетании равносложных стихов. В общем славянском языке оно превратилось в тоническое, основанное на количестве ударений в стихе. В поэзии древней Руси ни силлабики, ни тоники в чистом виде мы не находим. Перед нами явление с высокой степенью неповторимости, наверное, соответствующее так называемой «загадке русской души». Метрические границы песен и говора, ритмически удерживающих поэзию, причудливы, неопределённы, как и державные рубежи. Перед нами предстают сложные, ассиметричные ритмы, с перебоями, словно биение взволнованного сердца: так-так-так, некий тактовик, отвечающий духу языка, но, к сожалению, не современному слуху.
Нам дана лишь десятина человеческой речи, девять десятых слишком смутно проступают из доистории, а значит, надо копать колодец на глубину примерно в тысячелетие, опираясь на срубы (венцы) древнерусских и русских рукописных и первопечатных книг. Но тут возникает проблема, поскольку в Х веке от Р.Х. на Руси сталкиваются два языковых потока: устная словесность (песня и говор) и письменная (книжная и молитвенная) речь. Они переплетаются, то вступая в обогащающий их диалог, то явно враждуя, но столетиями остаются самостоятельными, а зачастую и параллельными.
Этот факт подметил проницательный отечественный языковед и литератор В. И. Буслаев, усмотревший существование как бы двух русских языков, двух колодцев родной речи, связанных друг с другом глубинными подпочвенными токами. Он разделил российскую стержневую словесность на два раздела: устную, народную, назвав её «безыскусной» и книжную, образованную, по его мнению, – «искусную». Возникает парадокс – двуязычие единого языка. До этого раздвоения язык был исключительно устным, его невозможно назвать «безыскусным». Сказки, мифы, эпос, словарное богатство – всё это создавалось задолго до письменного периода истории и требует своего исследователя. А вот книжный язык зачастую казался искусственным, уступающим по силе воздействия на человека устной поэзии. Со временем книга вбирает в себя «безыскусную» словесность, превращая её в фольклор, младшего брата классической литературы. Временное разделение языка сугубо связано с особенностями судьбы русского народа.
Для славянина слова «язык» и «народ» – синонимы. В индоевропейском «язык» обозначался звукосочетанием «язу», что весьма близко к понятию «узы», означающему связь, соединение людей в племя, в народ. Поскольку «речь» также связывает народы в единое целое, как в старину реки с притоками (речками), то и оно вошло в единый синонимический ряд. Вспомним старинное название Польской державы – Речь Посполитая. Смысл и звучание слова «язык» в своей основе не изменялись с праславянских времён. В «Повести Временных лет» это слово письменно зафиксировано под 911 годом. В летописи мы находим поэтическое подтверждение равенству слов язык, речь, народ:
Славенск язык на Руси…
А се суть иные языци,
Иже дань дают Руси…
По Оце реке,
Что потече в Волгу,
Мурома свой язык
И черемиси свой язык,
Мордва свой язык…
С принятием православной веры славянский молитвословный стих, созданный святыми братьями Кириллом и Мефодием по образцу византийско-греческого литургического стиха, органично вошёл в древнерусскую жизнь, зазвучал в церковных песнопениях, да и звучит по сей день. Эхо его разлилось по всей отечественной книжной поэзии. Русский язык (речь и народ) раскрылся для мощного влияния византийской церковной и светской книжности. Он обогатил свой словарь, осуществил переводы основных произведений мировой культуры, включая книги Ветхого и Нового заветов, молитвы, литургические произведения, исторические хроники, научные труды греческих мыслителей, о чём свидетельствуют древнерусские Изборники. И вот тут-то и пролегает граница между традиционным, передающимся в устной форме «безыскусным» языком народных песен, речитативных притч, поговорок и потешек, и новым, «искусным», пропитанным молитвенным словом, книжным языком. Но непроходимой эту границу не назовёшь. Начинают открываться школы «книжного учения», передающие всё богатство христианской культуры молодому поколению на родном языке, в отечественных переводах, понятных и питающих душу каждого русича. Эту культурно-историческую особенность Руси осмыслил митрополит Иларион, первый иерарх не от греков, а из русских, поставленный во главе Церкви Руси великим князем Ярославом Мудрым. Для Илариона было аксиомой, что родной язык и вера неразрывны и служат ко спасению как отдельного человека, так и всего народа, что в них – основа державной крепости Руси. В «Слове о Законе и Благодати» русский природный язык и православная вера сопоставляются как ветхозаветный Закон и евангельская Благодать. То есть две соподчинённые части единого целого. Безусловно, исконный, наследованный от предков язык был подвергнут Иларионом православной редактуре, но очень бережно, без потери в нём духовной силы, поэзии. Сам он разумно относился к языковому наследию, творчеству древних поэтов. По «Слову» Илариона православие сыном Божием Христом спасло языческую Русь, «все языки спасе евангелием и крещением», ввело народ «в обновление покыбытия (возрождения – В.П.) в жизнь вечную», соединило с мировой культурой. У Илариона речь идёт о языке «благодати», а прежде изъяснялись языком «закона»:
Прежде закон,
Потом благодать,
Прежде стень,
Ти потом истина.
И это он говорит в духе народной поэзии, гармонией звуков соединяя и противопоставляя ключевые слова «стень» и «истина». «Стень» – это оберегающие речь стены, древние венцы языкового колодца, это девять десятых пути отечественной истории до «истины» принятия христианства, без которого Закон не преобразился бы в Благодать.
Евангельский источник наводнився
И всю землю покрыв,
И до нас пролився…
Встань, отряси сон!..
Возрадуйся, взвеселися…
Торжественная поэзия во всю силу русского языка! Не бросал Иларион камня в язык предков, отцов и дедов, сам владел им в совершенстве и завещал это отношение православной Церкви и русской словесности. Для язычника князя Святослава Игоревича он находит благородный и точный эпитет «славный». О дохристиаской Руси, живущей по русской правде-закону, пишет с нескрываемой гордостью:
Не в худе бо,
И не в неведоме земли…
Но в русской, яже ведома
И слышима еси всеми
Конци земля…
Историки ввели для древнерусской культуры термин «двоеверие». Слово прижилось как сорняк. Мне же это мнение представляется одномерным. Вера у русского человека одна – православная. Если и было, то не двоеверие, а двуязычие, хранящее в своём словаре и «стень» и новоприобретённую, а, возможно, и выстраданную «истину». Двуязычие и сегодня присутствует, хотя и в иных исторических одеждах.
Старинные русские поэты (X – XVII вв.) не страдали «двоеверием», не писали оды языческим богам и тактично обращались за божьей помощью, но они явно были, судя по письменным источникам, двуязычными, в равной мере владея и древним народным и церковным словарём, пополненным тьмою переводных слов. Вслушаемся и вглядимся в слово – язычник. В нём слышится словосочетание «аз зык» или «я зычный», то есть утверждается, что человек имеет зычный, громкий, сильный голос. С «Аз» начинается и церковнославянский алфавит. Лучшие русские поэты были двуязычными – древними и современными, – и потому их, как духовную ценность народа, принимало будущее. Негативное наполнение термина «язычник», читай «многобожник», складывается довольно поздно, в Московский период отечественной истории, в кругах церковных писателей, образованных книжников-начётников, проповедников и миссионеров, стремившихся провести чёткую границу между православием и шаманизмом вновь присоединённых к Российской державе окраинных народов и племён.
В наше время критиками зачастую с негативным оттенком употребляется словосочетание «русскоязычный поэт». Я же не вижу в этом ничего отрицательного. Русскоязычный поэт, если он действительно поэт, умножает речевое богатство народа. Он платит справедливую дань русскому языку. И сочетание «православный язычник» не коробит мне слуха, поскольку указывает и на христианское вероисповедание и на глубокое владение родным языком, включая устную словесность. Все языки в своих исторических корнях едины, все питаемы живой водой колодезной речи, уходящей на глубину не одного поколения, как это воспринимается современными стихотворцами, и даже не на три века, к чему приучила нас советская школа, но минимум на тысячу лет.
Этим летом я поставил себе задачей составить краткий обзор русской поэзии за первые семьсот лет её бытования в письменном виде, в рукописных и первопечатных книгах. Замысел явно превосходит мои силы. Лето прошло, а передо мною лишь бледный очерк. Дело в том, что сравнить древнюю русскую поэзию практически не с чем. Степень её своеобразия невероятно велика. Она вырывается диковинной жар-птицей из контекста мировой литературы и разительно не похожа на привычные с детства стихи. Ни ритмической записи столбцом, ни регулярных рифм («краесогласия»), ни обособленности от прозаических текстов до середины XVII века нет и в помине. Духовное вещество поэзии, которое я собирался наглядно представить, оказалось растворённым в разнородных текстах, в которых нет привычного для нас разделения на прозу и стихи. Порой лишь лексическая раскалённость текста, его напевность, метафоричность, точность детали и общее воздействие на душу намекают на то, что древний автор обратился к поэзии. Вот такая ситуация: стихов нет, а поэзия есть. Народное песенное слово, сложившееся в славянских языках, было не силлабическим, а тоническим, так называемым «тактовиком»: «Как во славном/ было горо/ де во Киеве…». «О светло светлая/ и украсно украшена/ земля Русская…». В языке еще нет границы между стихотворением и прозаическим произведением, которая будет проложена лишь через шесть-семь столетий. Такова была изначальная природа, «дух» русского языка. Сам язык требует помнить это, возвращаясь от искусственной формы стиха к природным языковым ритмам. В любом случае, отрываться от корней родной речи так же опасно, как отрываться от тылового обеспечения смертельно опасно для наступающих войск.
Есть и ещё одна сложность для осуществления моего замысла. Напомню, что пергамен, основа для письма той эпохи, был чрезвычайно дорогим материалом, и посему экономно и плотно покрывался письмом. Буковка к буковке, без пробелов. Древнерусский чтец, исходя из врождённого и развитого начётничеством чувства языка (основательной начитанности, знания наизусть основных в отечественной культуре текстов и умелого их применения в собственном писательском творчестве), прочитывал поэтические фрагменты напевно, подчёркивая гармонию звука и смысла, напряжение чувства. Отсюда и задача – разглядеть и записать в привычной нам форме стиха партитуру древнего поэтического текста, не нарушая, а выявляя его ритмическую и звуковую неповторимость и не прибегая к переложениям. Однако сопроводить древние тексты комментариями желательно, разъясняя тёмные места и устаревшие слова. Древние русские тексты, как и молитвы, переведённые на современный русский язык, теряют силу своего воздействия на душу человека, уменьшается и сила поэтического языка древнего автора. Подлинник всегда лучше копии.
В наших сказках колодец является образной дверью в иной, заколдованный мир. В христианстве – символом спасения и очищения. И вот мы попадаем под летописные своды «Повести временных лет». Над сооружением этого духовно-светского произведения трудилось много талантливых поэтов, любителей и знатоков как песенного, прежде всего эпического, так и письменного русского языка, летописцев ХI века. Завершил этот труд Нестер (другое написание – Нестор). Текст богато инкрустирован драгоценными поэтическими вкраплениями, которые ещё предстоит собрать в древнейшую русскую антологию поэзии. Имён поэтов в «Повести…» мы не находим, но избранные фрагменты поэтических речений очевидны. Возможно, в ней заключены и произведения первого из упоминаемых русских поэтов – Бояна, современника летописцев-составителей. О нём мы узнаём в жемчужине поэтического наследия древней Руси – «Слове о полку Игореве». И вот что интересно: не называя своего имени, автор «Слова» семикратно упоминает имя знаменитого своего предшественника, более того, приводит цитаты из его песнопений, мол, сами судите, как писали в старые времена и какова моя поэзия, созданная «по былинам сего времени». Так в средневековых цехах ученики, взяв за образец творение мастера, создавали свои шедевры, с почтением и благодарностью за духовную науку к своему учителю.
Имя «Боян» в ту эпоху было широко распространено от Болгарии до просторных земель Великого Новгорода. Боян воспевал подвиги славных витязей Руси – братьев Мстислава Храброго (ум. в 1036г.), Ярослава Мудрого (ум. в 1054г.), его внука Романа Святославича (ум. в 1079г.), порицал могущественного князя Всеслава Полоцкого, вероломно захватившего стольный град Киев. Это лишь те имена, что привёл автор «Слова». Думается, что первые летописцы, как и их современники, прекрасно знали поэзию Бояна, равно как мы знаем поэзию Пушкина, и не было необходимости озвучивать авторство крылатых строк.
Боянова эпоха отечественной поэзии продлилась семьсот лет, а вот последние три века мы справедливо называем Пушкинской эпохой поэзии. Мне же предстоит на свой страх и риск, с максимальным тактом, осуществить запись древних поэтических произведений с разбивкой их на привычные нам ритмические строки.
Приведу в качестве камертона напев Бояна из безымянного «Слова о полку Игореве». Надеюсь, что это поможет и выявлению фрагментов «Повести временных лет», максимально насыщенных редкоземельным духовным веществом поэзии. В любом случае, это самые исконные поэтические тексты, зафиксированные в нашей письменности. Сладко испить «безыскусного», крепко-накрепко связанного с языческой поэзией, колодезного языка, даже если это всего лишь несколько маленьких глотков.
Не буря соколы
Занесе
Чрезъ поля широкая —
Галици стады бежать
К Дону великому…
– —
Комони ржуть за Сулою —
Звенит слава в Кыеве,
Трубы трубят в Новеграде —
Стоят стязи в Путивле!..
– —
Ни хытру,
Ни горазду,
Ни птицю горазду
Суда божия не минути…
Какой чувствуется простор, какая раздольность речи! И былинный богатырский напев, и пословичная точность, словно поэт видит Русь с высоты птичьего полёта и поёт, высвобождая немереную душевную силу. Автор «Слова» находит самый верный эпитет для своего предшественника-соперника – «вещий», то есть обладающей волшебными, сверхчеловеческими умениями, хитростями волхва:
Боян бо вещий,
Аще кому хотяши
Песнь творити,
То растекошется
Мыслию по древу,
Серым вълком по земли,
Шизымъ орлом подъ облакы…
Боян же, братие,
Не десять соколов
На стадо лебедей пущаше,
Нъ свои вещиа персты
На живая струны въскладаше,
Они же сами княземъ славу рокотаху.
«По древу» в контексте песни означает – по гуслям, которые скальды тех времён образно называли «живым древом», «мировым древом». Поэт «Слова» не пересказывает «соловию (сравни с „витию“) старого времени», а просто цитирует как доказательство того, что равно ценны «оба полы времени» – прошлое и настоящее. Он относится к Бояну как Архилох к Гомеру, как Вергилий к Музе, с должным благоговением, но следует в поэзии своим путём. В этом отрывке скрыто ещё некое указание на содержание песен Бояна, которые, помимо его современности, охватывали и стародавние времена – «рища в тропу Трояню», и огромные славянские и кыпчакские просторы – «чресъ поля на горы».
Своеобразие поэтической манеры певца «Слова» очевидно, у него помимо «старых словес» появляются новые, с более тонкими, можно даже сказать, лирическими ритмами и интонациями, насколько об этом можно судить по дошедшим до нас, многократно переписанным текстам:
…изрони женьчюжну душу
Изъ храбра тела
Чресъ злато ожерелие…
Мое веселие
По ковылю развея.
Поэзия этого безымянного певца открывает картины юного древнерусского мира словно с «облацев», всё в ней ярко, всё видно – и крохотная деталь и эпическое войско на марше, в ней и бояново величие, и новая ритмика. Звучит она современно и на древнерусском наречии. Даже рифмы в песне появляются. Да не случайно, не просто так, а упорядоченно, как в народной поговорке. Вот пример каскадной рифмовки:
А мои ти куряне
Сведоми къмети:
Подъ трубами повити,
Подъ шеломы възлелеяни,
Конец копия въскормлени,
Пути имь ведоми,
Яругы имь знаеми,
Луци у них напряжении,
Тули отворении,
Сабли изъострени,
Сами скачють,
Аки серые вълцы въ поле,
Ищучи себе чти,
А князю славе.
Всё «Слово о полку Игореве» драгоценно, в нём сокрыта и передана в века истинная поэзия русского языка, её Дух. Несмотря на то, что сотни исследователей уже третье столетие изучают и уточняют этот подлинный шедевр, предлагают свои варианты перевода, разбивают сплошной текст на строчки, далеко не все огрехи переписчиков устранены, не все комментарии даны. Но и в нынешнем состоянии, кроме явно приписанной, искусственной концовки, «Слово» целиком должно входить в антологию русской поэзии. Труднее обстоит дело с другими, несомненно, литературными, но далёко не во всём, а иногда лишь в небольшой степени собственно поэтическими текстами.
Вернёмся к «Повести временных лет». Она написана не для нас, но адресована современникам летописцев. Соответственно, и стиль и факты, и образный строй «Повести» приспособлены для их восприятия. Летописцы, ведя своё повествование, часто делают ремарки: «гдеже ныне увозъ Боричев», «гдеже ныне зовётся Щековица», «идеже ныне стоить сельце Преъславино». Безусловно, составители текста зависели от характера образованности и предпочтений своего читателя-современника, сформированного в двух потоках – в устной народной поэзии и книжном, читай «учёном» слове. Оба эти духовных языковых потока, хотя и по- разному, были «искусными», не соперничая друг с другом. Летописцы часто лишь намекали на песню, а она уже звучала в памяти и душе читателя-собеседника. Эти намёки для нас драгоценны. Но порой для убедительности события, создания особого напряжения и драматизма они обращались непосредственно к поэтической форме. Именно эти отрывки нас интересуют, без них представление о бояновой эпохе развития отечественной поэзии будет неполным. В подобных случаях летописцы могли вводить в текст старинные песнопения или создавать свои собственные поэтические произведения, особенно там, где персонажи «Повести» ведут устный рассказ об увиденном и услышанном. Ко второму случаю относится поэтический рассказ Андрея Первозванного о любви к чистоте славян, достигаемой через добровольное «мучение», якобы произнесённый им в Риме:
Дивно видехъ
Словеньскую землю,
Идучи ми семо видехъ
Бани древены,
И пережгуть е рамяно,
И совлокуться, и будут нази,
И облеются квасом усниянымь,
И возмуть на ся прутье младое,
И бьють ся сами,
И того ся добьют,
Овда вылезут ле живи,
И облеются водою студеною,
И тако ожиуть.
И то творят по вся дни,
Не мучими никимже,
Но сами ся мучать,
И то творять мовенье
Собе, а не мученье.
Тут и сказовый стих проступает, и мелодия слышится, и рифма звучит! Часто цитируют это место из «Повести», но без разделения на строки оно воспринимается как проза, а ведь это не так. Приведём еще отрывок лета 964-го, созданный в духе бояновой поэтики, об эпических деяниях князя Святослава Игоревича:
Князю Святославу
Взрастъшю и взъмужавшю,
Нача вои совкупляти
Многи и храбры,
И легъко ходя, аки пардус,
Войны многи творяше.
Ходя воз по собе не возяше…
Ни шатра имяше,
Но подъкладъ постлавъ
И седло в головах…
Поэту-исследователю «Повести временных лет» откроются песенные и речитативные жемчужины, образцы древней русской поэзии. Жаль, что эта работа до сих пор не проделана. Да и кому ныне придёт в голову, если беда не грянет, чистить колодец живого русского слова! Но скудеющий наш язык сам требует этой работы. Даже беглого взгляда на «Повесть» достаточно, чтобы увидеть: именно из песен пришло в летопись сказание об орде обров, мучивших наших предков и оставивших в памяти народа пословицу, широко известную уже в Х веке – «погибоша аки обре». Обры «погибоша», а следом печенеги «придоша». А как ритмично и поэтично выстроен в летописи под 862 летом рассказ об изгнании варяг за море, о походах воеводы Олега на Киев (лето 879) и Царьград (лето 907)!
Зачастую плотность исторического, документального текста почти не оставляла летописцу места для поэзии, смятой повествовательной прозой. Но почуять-то можно! Так Пушкин угадал в отрывке о гибели Олега Вещего песенную основу и возродил её в собственных стихах. Но сколько ещё эпического и лирического в летописных рассказах о князе Игоре Старом, княгине Ольге и их драматических коллизиях с непокорными и гордыми, но сказочно глуповатыми древлянами! Если убрать отступления и учёные пояснения летописца, соединить поэтические вкрапления в единый текст – зазвучит, словно под звон гуслей, эпическое песнопение этой пассионарной, богатой на таланты, эпохи, высвобождая для нас энергию старинной русской поэзии, столь необходимую для освещения сумеречной души.
Поэт древней Руси мог быть и в монашеском клобуке. Возможно, певучий рассказ Андрея Первозванного в недатированной части «Повести временных лет» принадлежит перу Нестора, осуществившего последнюю редакцию этого разнообразнейшего по жанрам коллективного сочинения. Вослед ему в свой явно прозаический текст, и это в дальнейшем становится правилом, вводит поэтическое речение игумен Даниил («Хождение игумена Даниила в Святую землю»):
Мыслею своею
И нетерпением своим
Восхоте видеть
Святый град Иерусалим.
Такова сила древней русской поэзии, что она буквально проступает сквозь повествовательную ткань в общем-то дневниковых записей. Нечто подобное обнаруживается в речах Кирилла, епископа Туровского (XII в.). В «Слове на пасхальную седьмицу» («Ныне солнце красуется…») он выходит за рамки церковной риторики, вдохновляясь народными, песенными, уходящими в недавнее язычество, мотивами:
Ныне вься доброгласныя птица
Церковных ликов гнездящася веселяться:
И птица бо, рече Пророк,
Обрете гнездо себе, олтаря твоя,
И свою каяжьдо поющи песнь,
Славит Бога гласы немолчьными…
Ныне рекы Апостольские наводняются,
И языческие рыбы плод пущают,
И рыбари глубину Божия в человечения испытавша,
Полну церковную мрежю ловитвы обретают.
То были весна и лето поэзии Русской земли, многонационального раннесредневекового государства Восточной Европы. Посмотрим, что происходит с нею в ордынскую зиму (XIII – XIVвв.). Беда, обрушившаяся на русские княжества, вызвала к жизни прекраснейшее поэтическое творение – «Слово о погибели Русской земли»:
О светло светлая
И украсно украшена
Земля Русская…
Озеры многими
Удивлена еси,
Реками и кладезями
Месточестимыми,
Горами крутыми,
Холмы высокими,
Дубравами частыми,
Польми дивными…
Здесь нет единообразно заданного ритма, нет и намёка на рифму, ранее уже встречающуюся в древнерусских рукописных текстах, нет в подлиннике и графической разбивки строк. Согласен – это не стихи. Но это поэзия! Это свободное, интонационно непредсказуемое биение ритма. Поэтическое содержание может являться в разных формах-одеждах, и нет такого закона, что оно выбирает себе единственно верную форму. Меняется мода на одежду, меняется и форма стиха. Было бы во что влить содержание! Для материального и духовного труда существует необходимый инструментарий – рало, серп, коса, мотыга, или же – метрика, ритмика, рифмика, строфика. Зачем нам всё это во время самоуправляющихся комбайнов и электронной техники, компьютерной музыки и стихов? Затем, что этот бесценный опыт предков может спасти от засухи поле российской словесности, а значит и саму державу – Россию.
Устная «безыскусная» словесность времён ордынского ига нам по рукописным книгам не известна (следовало бы поискать!), а в «искусной» литературе явно намечается угасание поэтических токов и усиление церковного, покаянного красноречия. Возможно, певучая фраза новгородского архиепископа Антония (Добрыня Ядрейкин) свидетельствует о духовном надрыве народа, погасившего на время свечу поэзии: «Миро священное варят иконами ветхими…». Раздробление и катастрофическое исчезновение Русской державы ослабляло и веру, и поэзию. Серапион, епископ Владимирский, представитель первого поколения русских людей, оказавшихся под властью Золотой Орды, несомненно, обладал талантом поэта, но писал чисто книжным, осипшим от боли языком:
Се уже наказает Бог знаменьем,
Землетрясеньем Его повеленьем…
И землю нашу пусту сотвориша,
И грады наши плениша,
И церъкви святыя разориша,
Отци и братию наша избиша;
Матери наши
И сестры наши
В поругание быша…
Мал час
Порадовахся о вас.
Более явственно обыденная «безыскусная речь» сказывается в творениях светских писателей, особенно тех из них, кто на себе испытали удары судьбы. Пусть и не из кладезя, но из родников языка, пробившихся на поверхность исстрадавшейся, раздробленной и обессиленной Русской земли они черпают слова. Примером может служить знаменитое «Моление к своему князю» Даниила Заточника, хотя в его речах, озорных и печальных одновременно, звучат нотки скомороха, потешника, изгоя без определённого места жительства. И всё же он поэт, но поверженный временем и от этого ещё более страдающий: