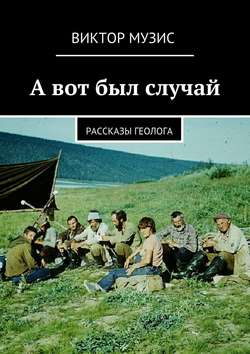Читать книгу А вот был случай. Рассказы геолога - Виктор Музис - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
КИМБЕРЛИТЫ… МОИ ПЕРВЫЕ…
2. КИМБЕРЛИТЫ. СЕЗОН ВТОРОЙ
ОглавлениеВ Москве мы готовили материалы о проделанной работе и составлению альбомов дешифрируемости кимберлитовых тел. А их всего на Сибирской платформе было выявлено около 300 «штук». Пока получалось, что дешифрируются на аэроснимках около 15%.
– Где же твоя хваленая статистика? – сказал как-то Осташкин. – Что же ты ни одной не нашел?
Что я мог сказать? Не говорить же мне ему, что за будничностью работы и малому навыку по кимберлитам я просто механически делал намеченную работу и надеялся только на минанализ лаборатории.
Постепенно приходили результаты из лаборатории и вот, как-то, нам передали очередную ведомость. В основном пробы были пустые или говорили о слабом заражении, но одна проба меня поразила: она содержала минералы оливина, пикроильменита и, главное, много анкилита – не количество зерен, а процентное содержание! Много – процентов 5 (если не 15). Сейчас уже точно и не помню…
Что за анкилит? С чем его едят? Мне было неудобно расспрашивать об этом в своей партии, показывая свою некомпетентность, и, перед тем как заглянуть в учебник, я пошел для консультации в партию Сибирцева к Леше Тимофееву, моему коллеге, моему живому ходячему справочнику по всем возникающим вопросам.
Леша Тимофеев
Он сразу сказал, что это минерал ультраосновных пород из группы редкоземельных и в незначительных количествах встречается в кимберлитах. Я покопался в умных книжках и понял, что встреченный набор минералов присущ разным породам, но вместе они могли содержаться только в кимберлите.
И я показал результат анализа Осташкину – работает ведь статистика! Хоть одна фотоаномалия, но подтвердилась. Дешифрировалось это место нe пятном на аэрофотоснимке, нe темным шлейфом, а как разрыв структурного уступа. Вот идет уступчик по склону… и как проглотил кто-то из него кусочек…
– На будущий сезон заверим, – сказал Игорь Михайлович. Ему передали практически весь состав партии Сибирцева и он планировал на «нашем» участке дальнейшие работы с использованием воздушной и наземной магнитометрии, попутной металлометрии по профилям наземной магнитки, горными работами (вручную, без взрывчатки) и проведением УШО по некоторым участкам выделенной нам территории.
Я наметил себе на полевой сезон крупный протяженный ручей, приток р. Укукит, по которому в большую воду можно было попробовать сплавиться на резиновых понтонах 500-ках. В приустьевых частях притоков самого ручья надо было провести УШО; навестить трубку «Обнаженная», вскрывающуюся скальным выходом по правому склону в обрыве на речке недалеко от устья ручья и заверить несколько фотоаномалий, выделяющихся на снимках темными пятнами с четкими или расплывчатыми контурами.
Разрыв уступа
И вот, залетев на неделю в Нюрбу, я вновь в Жиганске, базовом поселке экспедиции. Арендуемых домов было не так уж много и мы размещались тесно, но дружно и весело. Партия была молодая, дружная и веселая, основные полевики были недавние выпускники геологического института или техникума. Мы все время подтрунивали друг над другом…
Так, поработав в Верхоянье с Башлавиным, я научился у него предусмотрительности и старался с тех пор предвидеть по возможности все, с чем можно столкнуться при проведении полевых работ. А некоторые высказывания Дмитрия Константиновича я использовал как поговорки-инструкции, чем веселил ребят и даже хмурого Осташкина.
ВЕРХОЯНЬЕ
Помню, как-то, замучавшись ждать обещаемого каждый день вертолета, Башлавин сказал: – Погоду надо ломать! Выезжаем! – И мы, сняв лагерь и загрузив вездеход, выехали в моросящую сырость к новому месту лагеря… Вертолет догнал нас через час после выезда…
– Погоду надо ломать! – улыбаясь, стали часто говорить мы, не трогаясь с места.
А как-то, вернувшись из маршрута раньше него, я решил поставить все палатки. Вездеход с имуществом как раз подошел к месту нового лагеря. Я наметил и поставил их в ряд, недалеко друг от друга, причем Константинычу предпоследней выше по течению ручья, а женскую последней. И вот, приходит Башлавин из маршрута… и вместо похвалы опять ворчит… на этот раз, что я поставил палатки слишком близко – надо было подальше, особенно женскую… Вот, тоже наука – женскую палатку ставить подальше и, желательно, за кустарником.
Или еще – Башлавин был страстный охотник, во всяком случае, любил это дело. Выбирал себе самые дальние маршруты, чтобы возможность встретить оленя или барана была наиболее вероятна и винтовка у него была, а не карабин, чтобы бить на более дальние расстояния. И стрелял он, посылая пулю за пулей, учитывая упреждение. И ведь попадал… За 300, 400, 500 метров, да ведь часто еще и вдогонку. И рабочих брал двоих, чтобы легче донести добычу до лагеря. И, кстати, он был нашим основным кормильцем.
Стоянка геологов в Верхоянье
А, возвращаясь в лагерь, как-то на вопрос Ивана Раскосова, нашего радиста (из старой гвардии), встречавшего приходящих из маршрута, стоя у костра и облокотившись на слегу тагана: – Ну, как там, Дим, что там?.. – Башлавин стал рассказывать, как он встретил барана, как стрелял, но тот ушел и говорил, что видел кровь на камушке… Иван поддакивал, качал сокрушенно головой, а когда Константиныч пошел к своей палатке, сказал вслед ему улыбаясь и явно подтрунивая: – Охотник «х…в»…
С тех пор выражения – «Охотник х…в» и «была кровь на камушке» стали тоже нашими, часто повторяемыми выражениями, когда мы подшучивали друг над другом.
Была и еще одна смешная фраза, произнесенная им. Поработав с ним сезон, я знал, что он одновременно распределяет геологов по маршрутам и сворачивает и перебрасывает на вездеходе лагерь на новое место. А, значит, маршрут надо завершать в любую погоду, и я на второй сезон изготовил себе накидку из толстого светлого полиэтилена. Выдаваемым нам брезентовым плащам я не доверял – они были грубые и промокали.
Горные бараны
Так вот! Перевалив в маршруте через водораздел и выйдя в долину ручья, он заметил вышедшие в эту же долину из бокового притока очертания темных фигур. Погода была моросящая.
– Бараны! – выкрикнул он… – И с ними Музис… – добавил он, заметив светлое пятно моей накидки.
Так, кусок полиэтилена, возможно, спас кому-то из нас жизнь.
Мне же как-то везло встречать живность недалеко от лагеря. То куропатку подстрелишь, то утку, а как-то, вернувшись из маршрута, я заметил двух баранов, пасущихся на склоне сопки прямо возле лагеря. Я подкрался поближе и выстрелил из малокалиберки (карабин в этот сезон мне не успели переслать из Зырянки – он был там на хранении в УВД). Я почувствовал, что попал, выстрелил еще, выпустив обойму (звук выстрела из мелкашки это не грохот из карабина) и почему-то у меня кончились патроны. Обычно у меня был приличный запас. Мы занорились в палатку и наблюдали, как один пасся, негромкое щелканье пулек о щебенку его не особенно беспокоило, а второй тревожно озирался, не пытаясь уйти. Потихоньку они передвигались вверх по склону к вершине.
Мы ждали Башлавина и, когда он пришел, бросились к нему:
– Константиныч! Бараны! Один ранен! Добей!
Башлавин, что-то ворча, осторожно подкрался к подножию сопки и выстрелил в раненого. Тот упал, а второй подпрыгнул и скрылся за сопкой.
Саша Трещалов (справа), Иван Раскосов (в центре) и «Ара-Бирабиджо»
Осматривая добычу, Башлавин сказал мне:
– Ты перебил ему коленный сустав и ему было трудно передвигаться. Это взрослый баран. Если бы ты ранил молодого, то старый ушел бы и увел молодого за собой.
Была еще и весновка, когда Башлавин попросил меня сделать два лабаза на новом полевом лагере. И я сделал, по типу тех, что видел у него на прежнем лагере. А сделав, я опилил края жердей, чтобы не торчали и, также, для красоты.
Прилетевший Башлавин, принимая работу, как всегда, хмуро и ворчливо заметил:
– Ты мне что за танцплощадку сделал – за что я веревки завязывать буду?
С тех пор, выражение «танцплощадка» я тоже любил повторять.
Еще я рассказывал коллегам о забавном курьезе с рабочим в партии Шульгиной, Стаханом. Это был средних лет мужчина, высокий и толковый, и руки у него были откуда надо. Он работал в поселке Лобуя завклубом, уже ездил в экспедицию с нашими предшественниками, мог помочь в работе с лошадьми и изготовить из листового железа печки-буржуйки и трубы к ним, что были большим дефицитом. А еще он был женат на дочери Березовского князя, это тоже о чем-то говорит. Породниться с эвенком у якутов было делом желанным.
Так вот, увидев, как мы замачиваем в ручье вкладыши к спальникам перед стиркой, он тоже замочил свой вкладыш и стал сыпать в ручей стиральный порошок. Хорошо, Шульгина вовремя заметила, а то бы он по незнанию процесса весь бы его извел.
А мясо мы хранили по-разному.
У Шульгиной засаливали большими кусками в фанерные бочки из-под сухой картошки или сухого молока, или в молочных флягах, и ставили их на мерзлоту. Для готовки клали в кастрюлю и погружали в проточную воду ручья – и соль вымывалась…
Лабаз
У Башлавина складывали в большой брезентовый баульный мешок и, привязав веревкой, бросали в ручей на глубокое, но проточное место.
У Осташкина – подвешивали на слеге в тени на ветерке. Мясо как бы запекалось (затягивалось пленкой) и не кровоточило.
В Жиганске меня, например, поразил своей добропорядочностью хозяйственник партии. Я привык, что любую вещь, нужную тебе из снаряжения или продуктов, нужно было буквально выпрашивать.
Сохранение мяса обветриванием
Помню, Дыканюк Женя в паре с Володей Антоновым, подшучивая над хозяйственниками, с серьезным деловым видом приходя с заявкой на канцелярию, спрашивали прижимистую кладовщицу:
– Ковши экскаваторные есть?..
– Нет! – Тут же, даже не задумываясь и без тени улыбки, серьезно отвечала та.
– А замки замочные?..
– Нет!
А здесь, Лачевский, крупный, пожилой, седовласый, необычайно спокойный мужчина (якуты даже принимали его за начальника партии), просто сказал мне:
– Пойдем, посмотрим…
Мы пошли на склад и я получил то, что просил.
На выбранный для работ участок я вылетел в паре с Лешей Жадобиным, немолодым, но с крепким, словно налитым силой торсом, напарником-радистом (старой гвардии) и рацией РПМС с двойным комплектом батарей, двумя понтонами 500-ми, снаряжением и продуктами на пол сезона. И, хотя нас было всего двое, вещей набралось прилично. Вертолет высадил нас на небольшой песчано-галечной косичке. Мы выбрали рядышком, но повыше ровную площадку и поставили палатку.
Пос. Жиганск. Ледоход. С Лачевским на берегу Лены.
Металлические колья («пальцы» траков ГАЗ-47), две раскладушки, по листу кошмы на них и спальники – 15 минут и палатка стоит. Я даже стояки и перекладину для палатки затем перевозил с собой в вертолете, чтобы не рубить новые и не терять время. Жерди для палаток очищал от коры, они высыхали и были очень легкими.
Утром встали, позавтракали и полезли на склон заверять фотоаномалию. Намеченный участок был недалеко от нашей стоянки и на местности хорошо выделялся среди разреженного лиственничного леса сгущением кустарника ольхи. Отобрав в нижней части участка несколько шлиховых проб, мы спустились к ручью и промыли их.
Даже невооруженным взглядом в лотках хорошо выделялось большое количество минералов-спутников с зернами до 5 мм, а уж под 4-х кратной лупой (выданной еще Башлавиным) я без труда различил на них матовые «рубашки» – признак 1 класса сохранности. Я хорошо насмотрелся на такие «рубашки» еще в Москве под бинокуляром – пироп и пикроильменит были набраны в предыдущий сезон из отвалов на обогатительной фабрике.
Пятно-шлейф фотоаномалии трубочного типа.
Это была КИМБЕРЛИТОВАЯ ТРУБКА! В первом маршруте… С первой пробы… Это была удача! Заслуженная удача!
А вода в ручье падала… Пик паводка прошел и вода падала прямо на глазах. – «А план по отработке бассейна ручья с меня все равно спросят, – подумал я, – и никто его не отменит. А если задержимся здесь, вообще по воде не пройдем. Будем сплавляться! А о трубке сообщим позже, когда всю работу выполним».
Мы сплавлялись, вернее, тащили лодки, часто разгружая их и перетаскивая вещи от плеса к плесу, от одного бочага до другого, и отшлиховывали, отшлиховывали приустьевые части всех приточков ручья. А вода все падала. Вот тогда я и понял, что для проходимости по здешним речкам нужно иметь по две лодки на человека. А то и по три (так я и работал впоследствии). Так мы и продвигались вниз по ручью, у меня не хватает смелости сказать сплавлялись. Какой уж там сплав. И так день за днем, день за днем. Жадобин только охал:
– Ну и работенка! У меня за все годы работ такого не было…
А я воспринимал все как должное – ведь могло быть и хуже… Ручей мог вообще пересохнуть.
Так мы дотащились до устья. Встали на основной речке напротив устья ручья на высокой ровной площадке высокой поймы. До чего же красивое оказалось место – густой сосновый лес за спиной, широкие глубокие плесы по обоим сторонам ручья. И в речке рыба покрупнее хариуса – ленок.
Мы отдохнули, устроили банный день, порыбачили под перекатом, сходив вверх и вниз по речке… И сходили в маршрут вверх по реке на обнажение с трубкой «Обнаженная». Набрали образцов кимберлита с коренного скалистого выхода, пробу на геохимию, промыли шлихи…
Любимое развлечение
Интересный эпизод у нас произошел по дороге к трубке.
Мы шли по хорошо выраженной тропе, день был ясный, солнечный, теплый. Тропа была в тени деревьев, в глазах рябило от пробиваемой солнечными лучами листвы и я не сразу понял, что движется впереди медленно уходя от меня…
Глаза заметили это движение, но мозг не сразу понял и отобразил… Что-то серое и крупное… Заяц? – Была первая мысль. Да, нет… Что-то крупное… Осел? – почему-то подумал я, – вон как круп переваливается сбоку набок… Да откуда здесь осел? – тут же подумал я. Вскинул малокалиберку с оптическим прицелом… Не сразу, но понял, уж очень было неожиданно… Журавль! Пегий какой-то… Высотой с меня. Стерх!
Я держал его на мушке… Секунда… Две… Три… Нет, выстрелить я не решился… Пусть живет… Журавлей в районе было так мало, что я не видел ни одного, даже в воздухе. Только в отчетах в главе «Физико-географический очерк» упоминалось – присутствуют в незначительных количествах. Из уважения к нему, мы подождали, когда он скроется в кустах и пошли дальше, обсуждая встречу.
Стерх
Мы сделали всю намеченную работу, и только тогда я связался по рации с начальником и передал о завершении работ и открытии трубки. И, конечно, он спросил, почему я ее не поковырял. – А чем и с кем? – спросил я. Но я чувствовал, что он доволен.
Он тут же заказал вертолет и прилетел сам, привезя магнитометр и двух опытных работяг-горняков. Мы прорубили на участке сгущения растительности крестообразный профиль и магнитка сразу показала повышенные значения магнитного поля непосредственно выше сгущения растительности. От центрального профиля мы прорубили параллельные профили и расставили пронумерованные, заранее заготовленные, пикеты-колышки. Затем прошли по пикетам с магнитометром и, занеся показания магнитометра в журнал, уже в лагере вынесли показания прибора на миллиметровку. Вырисовалась четкая округлая магнитная аномалия небольшого размера. Так Осташкин научил меня намечать профиля, расставлять пикеты и проводить наземную магнитную съемку, за что я был ему очень благодарен.
Впоследствии, я научился делать всю эту работу одновременно – впереди шел идущий с топором и намечал профиль затесами, за ним тянулся, привязанный к нему провод нужной длины (25 или 50 м) и я, крикнув: – Стой! – ставил колышки-пикеты и подписывал их. Затем я проходил по профилям с магнитометром, делая периодически замеры на контрольной точке.
А в центре аномалии был задан шурф, горняки быстро вскрыли элювиальные суглинки до мерзлоты и принялись долбить мерзлоту. Мы отмыли выбранную породу в ручье и набрали целый кулек минералов-спутников для коллекции, а сапоги наши покрылись тонким голубым налетом.
В Батагай полетела радиограмма: – Найден «Ящик»! Осташкин был очень доволен – наконец-то нашей партией был открыт новый счет, ведь последние годы были безрезультатны…
А горняки «проходили» сантиметров по сорок за день, ведь долбить мерзлоту это все-равно что долбить камень. Пробовали прогревать костром, но это мало помогало. Вечером горняки калили на костре кончики ломов до бела и оттягивали их, вытягивая и заостряя. И мерзлоту скалывали по чуть-чуть, откалывая по щебеночке и делая выемку-канавку по краю днища шурфа. Затем откалывали по щебеночке от бровки канавки. Тяжелая это работа, не каждому по плечу. Лом тяжелый, я бы выдохся на втором ударе.
За несколько дней, да, нет, не за несколько, побольше, прошли метра три, шурф совсем сузился, а коренных все не было. Суглинок с дресвой кимберлитов постепенно перешел в галечно-щебнистые песчаные зеленовато-серые суглинки с отдельными глыбками брекчии, но до коренных дойти было уже невозможно. Они, вероятно, были на глубине 7—8 метров, кто их знает… На этом с шурфом было закончено.
Шурф
По завершению работы полагалось укрепить в шурфе слегу с надписью названия трубки и годом открытия. Осташкин срубил длинную листвяшку, зачистил, вырубил у основания Г-образную выемку и разговор зашел о названии. Первое слово было мое – кто открыл, тот и называет. Я хотел назвать КАТЕРИНА – в честь жены, мамы и бабушки («домашний ку-клукс-клан» я шутил).
– Ну, что еще за женские названия… – возразил Осташкин. – Давай назовем КОСМОС – ведь наши работы проходят под названием Космоаэрогеологические и даже экспедиция переименована в КАГЭ. А найдешь следующую, назовешь еще как-нибудь.
Просьба начальника – приказ для подчиненного. Так трубка получила название «Космос».
– А как там с заверкой фотоаномалии на Улах-Муне? – как-то поинтересовался я.
– Да заверим… – как-то неопределенно ответил он. – Надо геохимию провести… покопаться еще…
Я так ничего и не понял. Их там на участке человек десять, если не больше. Чего тянуть. чего копаться, при чем тут геохимия… Но расспрашивать дальше постеснялся.
Осташкин заказал вертолет и улетел на Улах-Муну, забрав горняков и Жадобина (все равно это был не работник, а на большом лагере он бы пригодился как радист, хотя и был глуховат). Мне он оставил двух рабочих, прилетевших с вертолетом, и один горняцкий ломик, который я выпросил. Мне поручено было собрать и обработать металку по проделанной сети пикетов. Мы собрали пробы (по горсти элювия из закопушек на пикетах) в шламовые мешочки, я просушил их и, просеяв через стопку сит с отверстиями разного диаметра, пересыпал тонкую фракцию в пакеты из крафт-бумаги. Составив ведомость, вложил ее с пакетами в ящик из под консервов, заколотил его, обтянув по краям тонкой проволокой, и надписал: «м/м в Москву». Это заняло несколько дней.
Выйдя в эфир, я сообщил о проделанной работе. Что дальше?
– Попробуй вскрыть контакт трубки с вмещающими, – сказал начальник и я понял, что он не знает, чем меня занять.
– А что с фотоаномалией? – вновь поинтересовался я. И он опять пробурчал что-то про геохимию.
Поскольку приказы не обсуждают, я поставил ребят на копку шурфа, но, жалея их бесполезный труд, попросил проходить хотя бы сантиметров по десять. Большего они все равно бы не прошли. Так прошла еще неделя.
– Как дела? – спрашивал меня порой Жадобин.
– Копаем… – отвечал я.
А сезон подходил к концу. Была уже середина августа. Лиственница начала желтеть, а карликовая березка краснеть. Мы копались потихоньку на своей трубке, а на Улах-Муне летал МИ-4, залетывая участок магнитометрией, работал наземный геофизический отряд и отряд, занимающийся геохимией по размеченным геофизиками профилям, что-то копали горняки… а результатов все не было. «Мою» аномалию почему-то так никто и не заверял…
Шурф
И как-то на связи, часов в 11-ть, когда мои «горняки» (я не могу это слово написать без кавычек) ушли на склон к шурфу, я включил рацию скорее из любопытства – послушать, как идут дела у наших, Жадобин с лукавством вдруг спросил меня:
– …Ты здесь на свою аномалию не хочешь сходить?
Я почувствовал, что Осташкин сидит рядом с ним.
– Конечно хочу! – ответил я.
– Собирайся! Борт высылаем!
Я поспешно стал сворачивать лагерь, свертывать спальники, снимать антенну, собирать посуду, снимать палатку, вытряхивать от золы печку и стаскивать все это на косичку, благо она была рядом.
Вскоре загудел и выскочил из-за сопки вертолет. Описав полукруг, он резко приземлился на косичке, я запрыгнул в него и сказал пилоту, что надо забрать ребят со склона. Мы взмыли в воздух, подлетели к шурфу (сесть было невозможно), пилот открыл окошко и помахал ребятам рукой, показывая вниз в сторону стоянки. То же сделал механик, открыв боковую дверцу: «Давайте, давайте, – мол, – вниз!». Они поняли и, похватав нехитрый инструмент, побежали к лагерю.
Вертолет приподнялся, плавно слетел на косу (воды уж почти не было, оставалась только в бочагах) и сел, не выключая винтов. Пока я закидывал внутрь салона снаряжение (механик принимал его и укладывал ближе к кабине), прибежали ребята, мы загрузились и вертолет, легко оторвавшись от косы, почти вертикально взмыл в воздух и полетел на Улах-Муну.
Что и говорить, пилот был классный, самый опытный из Оленекского авиаотряда, мы его знали и очень уважали. Волошин его фамилия.
Дима Израилович
На Улах-Муне, где все приличные домики были заняты работниками партии, я подселился к своему приятелю, Диме Израиловичу, начальнику геофизического отряда, который «захватил» себе место в небольшой комнатке большой избы-клуба. Когда-то в ней стояла киноаппаратура для демонстрации фильмов.
На следующий же день, мы с ним, захватив магнитометр и треногу, в сопровождении двух опытных горняков с их инструментом, пошли к месту разрыва структурного уступа на склоне. «Поставив» горняков на ровной площадке под уступом, Дима с ходу прошел с магнитометром в районе разрыва уступа… И первую шкалу прибора зашкалило… Полторы тысячи единиц! Дима от волнения даже сел на землю, вытер пот со лба и закурил…
Это была магнитная аномалия, это была кимберлитовая трубка! Моя вторая трубка за этот сезон!
Горняки к этому времени вскрыли под уступом на площадке линзу чистейшего льда. Они были поставлены на центр аномалии, а Дима еще долго подсмеивался надо мной, вспоминая, как я, детализируя центральную часть с шагом 1х1м (трубка оказалась небольшой по диаметру), запутался в установке колышков-пикетов.
И у него супруга Катерина и я опять захотел назвать трубку этим именем.
А в Батагай полетела радиограмма:
– Найден второй «Ящик»!
Натапов Л. М.
Главный геолог экспедиции, порадовавшись нашим успехам, вылетел в нашу партию и живо стал обсуждать с Осташкиным возможность нахождения трубки еще где-нибудь на территории.
– Пошлем Музиса, – говорил он, – он найдет!
Заговорили и о названии. Теперь уже Натапов предложил назвать ее «Космос».
– Но такое название уже есть, – напомнил я.
– Ничего страшного. Пусть будет «Космос-2».
А к этому времени стали поступать результаты воздушной и наземной магнитной съемки и были выявлены еще несколько кимберлитовых тел. Причем размер трубки Заполярная был увеличен вдвое – предыдущие исследователи не обратили внимания на ее тоненький «хвостик» и не стали наращивать наземную съемку в этом месте. А форма ее оказалась в результата наших работ похожей на песочные часы и название ее было изменено на Заполярная-1 и -2.
Поверхность трубки «Заполярная»
Другие трубки были приурочены к линеаментам (разломам?) северо-западного направления, параллельным тому, к которому была приурочена трубка Заполярная. Все основные линеаменты-разломы были выявлены при дешифрировании космического снимка.
Осташкин был твердо убежден в приуроченности всех кимберлитовых тел к протяженным глубинным разломам и все наши работы строились под эгидой этой теории.
Но на этом мой второй полевой сезон не закончился.
Не смотря на то, что в воздухе уже пахло наступлением зимы, идея открытия кимберлитовой трубки «по быстрому», не была забыта. Но открыть ее хотелось не там, где возможно по дешифровочным признакам, а там, где хотелось…
Послать решили Истомина, меня и двух рабочих.
Выбранный участок мне не понравился и, хотя на нем была зафиксирована слабенькая аэромагнитная аномалия, сам участок находился в зоне распространения рыхлых юрских отложений, препятствующих дешифрированию кимберлитовых тел.
Я сразу сказал, что не вижу хороших объектов, но перечить начальству не стал. «Полетите на три-четыре дня, – сказали нам, – а потом мы вас выдернем».
Забрасывал нас Волошин. «Собираясь на день, бери продуктов на неделю» – гласит народная мудрость и я, наученный предусмотрительности еще Башлавиным и всем опытом своих полевых работ, набрал несколько ящиков снаряжения, взял даже складной столик в палатку, чем удивил Лешу Тимофеева:
– Куда ты столько набрал? – сказал он у вертолета. – Летите-то всего на три дня!
– Лучше перебдеть, чем недобдеть, – ответил я словами Башлавина.
И нас забросили на выбранное место. Это был слабо залесенный участок водораздела, с подлеском из высокого кустарника ольхи и тальника. Только Волошин, наверное, смог бы здесь сесть… И он сел… Чуть зависнув и не выключая винтов… Мы выгрузились и он, пообещав забрать нас через три-четыре дня, улетел.
Мы выбрали для палатки местечко чуть в сторонке от посадки вертолета. Валера с рабочими, захватив треногу с магнитометром, сразу пошел «на разведку» – покопаться на месте предполагаемой аномалии – до темноты еще оставалось несколько часов.
Палатка внутри…
Я же поставил большую палатку (я могу один поставить 6-местку), расставил раскладушки, раскидал спальники, рюкзаки с личными вещами, установил печку у входа, поставил в середине большой посудный ящик с крышкой (от 500-тки) как общий стол, под навес палатки ящики и мешки с продуктами и накрыл вход в палатку тентом (летом он защищал от комаров, осенью – от дождя и снега).
Растопив печку, занялся таганом недалеко от палатки. Помимо двуручки, я захватил еще свою личную, с крупными зубьями и размером с половину двуручной.
Валера пришел в сумерках на свет костра. Покачал сокрушенно головой: – «Ничего, – мол, – нет!».
Истомин Валера
А я и не сомневался… На следующий день он решил сходить еще раз, тем более, что в его распоряжении был уже целый день. Мы приготовили ужин, поели при свете свечей (у меня был запас) и улеглись спать.
Так закончился этот осенний день.
А наутро мы проснулись… зимой. Снегу – по колено. Но работать еще как-то с грехом пополам можно было и Валера после завтрака опять ушел на участок.
Когда вернулся, опять покачал головой…
Выйдя на связь (у нас уже была усовершенствованная рация «Гроза»), он сообщил о результатах, вернее их отсутствии, и мы стали ждать эвакуации.
Ну и тут началось… обычное! Вертолет отозвали, затем к нам не могли прилететь из-за непогоды, затем у вертолета кончился ресурс и он улетел в Якутск, затем еще что-то… Думали, может быть, вездеход к нам выслать, но он будет идти дня два, да обратно… Итого дня 4—5, а мы уже сидим неделю. И продукты кончаются, несмотря на мой предусмотрительный запас. А вертолетом и не пахнет!
Заняться нечем – речки нет, чтобы развлечься сходив поспининговать. С ружьем пройтись – как-то не верилось, что здесь что-то есть. И следов никаких… Я расставил несколько капканчиков – все же прогулка пару раз в день, но в них так ничего и не попалось. Конечно, дух романтики присутствует: как же, тут зима наступает, снегу по колено, а мы в палатке – печка с отблесками пламени, тепло, Спидола играет… И все это при повышенной зарплате: коэффициент 2.0 и полевые 0.5… Но на полевой подбазе на речке Оленек весь этот романтизм подкреплен еще и целым гуртом коллег-приятелей и рыбной и мясной «приправой» Иваныча…
Мы «развлекались» заготовкой дров. Сильно отрицательной температуры еще не было. Печка с обогревом палатки справлялась, готовили тоже на ней. Я даже наладил электричество из автомобильной лампочки и батарей для РПМСки. Но даже и мои запасы не бесконечны и стали подходить к концу.
Каждый день нас спрашивали: – Как вы там? И Валера отвечал: – Держимся! Мы просидели так недели две, может быть чуть меньше.
Волошин прилетел за нами неожиданно, в не очень подходящую для полетов хмурую погоду с низкой облачностью и добился вылета он только потому, что помнил, что в тайге сидят люди, которых он туда закинул. И ему не нужно было объяснять точное местонахождение. Да другой, мне кажется, и не решился бы.
Так, закончился мой второй полевой сезон на Сибирской платформе. Так, наконец-то, заканчивается и мой рассказ.
…… … ……
P.S. 31 октября 2018 года прогремел первый взрыв и началась промышленная добыча алмазов в трубках Верхне-Мунского кимберлитового поля!
= = = = = = = = = =