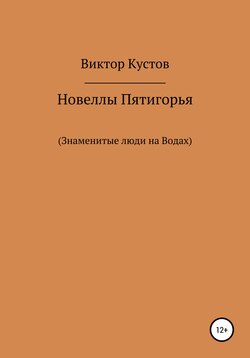Читать книгу Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах - Виктор Николаевич Кустов - Страница 6
Вечер в Железноводске
ОглавлениеОни всё больше расходились во взглядах на жизнь и желаниях. Марию влекли удовольствия, которые так притягательны в молодости: шумное общество, беззаботное веселье, внимание окружающих, его же – встречи с друзьями, умные беседы, чтение. И хотя он был старше всего на четыре года и не так уж давно, встретив её, потерял голову и совершенно искренне написал давнему другу Герцену, что любовь к Марии спасла его от пустоты провинциальной жизни и «отчаяние сменилось верою», а виною этому именно любовь, теперь ему казалось, что их разделяет гораздо больший срок. Она ещё порхает, словно летняя бабочка, он же, как мудрый скарабей, собирает всё увеличивающийся груз знаний… Обожаемая Машенька, умная, весёлая, единственная на всю Пензу (да что там Пензу – на весь мир!), вошла в его жизнь в самую печальную пору. Свет тогда вдруг озарил его мрачное бытие: отцовский надзор, под который его отправили по решению суда за чтение неугодных царю и охранке сочинений и писем, был сродни заключению: родовитый дворянин Платон Богданович Огарёв, своенравный, не признающий никаких новых веяний, никакого вольнодумства, к тому же из-за болезни бранчливый и нетерпимый к возражениям, видел в сыне продолжателя рода, управляющего огромной семейной вотчиной, а не потакающего хулителям и ниспровергателям ладно устроенного порядка.
Тогда явление Машеньки, Марии Львовны Рославлевой и его страсть к ней способствовали обретению душевного равновесия, из которого его вывели и преследования охранки, и суд, и заточение, и вынужденная разлука с товарищами, да и образ провинциальной жизни, когда на смену жарким спорам о справедливом устройстве государства, заряжающим возбуждающей энергией действия, возвышающим над прочей публикой, наполняющим жизненные устремления смыслом, вдруг пришли сонные, одинокие будни, заполненные глупой и пустой суетой, разговорами о пустяках, касающихся обедов, визитов, наказания провинившихся крепостных и городских сплетен…
После свадьбы, помня свою клятву на Воробьёвых горах и наставления Герцена о коварстве женских чар, наполненный счастьем первых дней семейной жизни, искренне уверенный, что это будет продолжаться и дальше, он не сдерживается, спорит с лучшим другом: «…другой жены я не мог бы выбрать и с другой не мог быть счастлив…»
Сейчас, на отдалении во времени и под новым для него южным небом, он нет-нет да и вспоминал эти строки из своего письма и ловил себя на сожалении, что поспешил тогда с выводами, но винил в отдалении их друг от друга не жену, а себя. И даже здесь, на Кавказе, старался не огорчать её своим отказом провести время так, как ей хочется, сопровождая в визитах и бесцельном времяпрепровождении.
Иногда он заводил с ней разговор на темы, волнующие его, но Мария слушала невнимательно и могла вдруг перебить, задав какой-то совсем не относящийся к разговору вопрос, он тогда с трудом сдерживал раздражение и старался не показать свою обиду. И давал себе слово более не угождать жене, а жить собственной жизнью.
В этой собственной жизни на первом месте были друзья. И этот 1838 год подарил ему немало встреч с ними и незабываемое путешествие. Задыхаясь от удушливой атмосферы каждодневного вынужденного общения со становящимся всё более деспотичным Платоном Богдановичем, они с Марией, наконец, нашли предлог для бегства и в начале мая отправились на Воды не столько поправить здоровье, сколько встряхнуться от наскучившей обыденности.
Путешествие это они замыслили неторопливым, решив посмотреть южные просторы и поставив родных в известность, что пробудут на Кавказе до осени. И поэтому по настоянию Николая заехали в Саратов, хотя это было не по пути, к Лахтину, товарищу по делу о вольнодумстве, который также был сослан в провинцию. Огарёв ожидал от этой встречи чего угодно, но только не того уныния и тоски, что так поразили его в Лахтине. Встреча получилась не такой, как ему представлялось. Лахтин не скрывал своего равнодушия и к его приезду, и к Марии, которую он отправил за ним, оставшись ждать в гостинице, опасаясь навредить товарищу, находящемуся под надзором. Когда тот вошёл в номер, первое, что бросилось в глаза, за эти три года, что не виделись: Лахтин сильно похудел. Но оба бросились друг к другу, поддавшись порыву. Вот только взгляд того уже не горел, не выражал радости, в нём Огарёв увидел поразившее его уныние. У него сложилось впечатление, что тот чем-то неизлечимо болен. Во всяком случае именно такой потухший взгляд и отсутствие желаний, по его представлениям, должно было предшествовать уходу в иной мир. И хотя он планировал задержаться в Саратове, сверить свои мысли, накопившиеся за годы пензенского одиночества, после этой встречи поторопился поехать дальше.
Зеленеющая майская буйная степь по берегам Дона, дыхание южных ветров и бескрайние просторы, заканчивающиеся пронзительной синевой неба на всё отдаляющемся горизонте, помогли избавиться от тягостных воспоминаний этой встречи. Но главное, что запомнилось из многодневной поездки вдоль разлившейся реки, – казаки. В них он увидел людей свободных, самостоятельных, совсем не похожих на запуганных крестьян, принадлежащих им, да и на пензенских мещан, которых тоже к свободолюбивым отнести было трудно.
Контрастом этим бодрящим и вселяющим веру в то, что раболепие всё же присуще не всем, впечатлениям была встреча на выезде из Саратовской губернии, о которой он потом нередко вспоминал и которую пересказывал друзьям. Остановившись в одной из деревень, он попросил чаю и стал ждать, пока подадут, на крыльце станционного дома. Вдруг появился квартальный в новом мундире, изрядно заставивший его поволноваться: уж не аукнулась ли встреча с Лахтиным? Но тот подобострастно поинтересовался:
– Не здесь ли остановился сенатор Огарёв?
– Сенатор?.. Сенатора здесь нет, – догадался наконец Огарёв, что речь идет о его дяде, который не так давно ревизовал Саратовскую губернию. – Я – его родственник, но не только не сенатор, но даже ещё и не коллежский регистратор…
И предложил блюстителю порядка чаю.
Но квартальный явно оконфузился. Поспешно выпив горячий чай, раскланялся и торопливо ушёл.
Провожая его взглядом, Огарёв с горечью подумал, что в русском управительстве, за исключением безумца, мечтающего иметь благодетельное влияние по службе, служит разве только подлец…
Но по мере продвижения по казацким землям этот случай всё более превращался в анекдот, достойный разве что застольной беседы, но никак не рассуждений, и скоро он полностью отдался новым оптимистичным впечатлениям.
Это пьянящее настроение прежде невиданных мест, простора, весеннего обновления и вольной, неподвластной никому, кроме Бога, жизни (что за песню пела казачка, переплывая через реку одна в маленьком челноке, на закате солнца!), не оставляло его до самого Пятигорска. Оно сохранялось и первые дни, усиленное такими близкими большими, с возвышающейся над ними белой папахой Эльбруса, и малыми, среди которых выделялись Бешту и Машук, горами, а главное – дарил незабываемые встречи с теми, кто попал сюда не по своей воле, с «первенцами свободы», как он их называл и с кого они в своём университетском кружке брали пример.
Встреча с Николаем Сатиным, ещё одним товарищем по судебному приговору, которой после Саратова он опасался, его не огорчила. Тот совсем не изменился, был так же горяч в мыслях и азартен в спорах, не отказавшись от юношеских убеждений. И хотя на момент приезда был довольно серьёзно болен (мучил ревматизм), из-за него, собственно, он стал уже здесь старожилом, не утратил силу духа и искреннюю любовь к товарищу. Своей радости от встречи он не смог, да и не хотел скрывать.
Они вечер провели в воспоминаниях. Много говорили о Герцене, который должен был нынче отбывать ссылку в Вятке, веря, что тот ещё прославит университет (они с Сатиным были лучшими в выпуске, серебряными медалистами), не преминули коснуться и не очень приятных дней, когда томились в застенках.
И Огарёв опять выказал свой восторг давнему поступку товарища. Когда остальных кружковцев арестовали, Сатин находился у родителей в Тамбовской губернии. Узнав об этом, он сам поехал в Москву.
А находясь в тюрьме, написал «Послание к сестре», строки из которого стали их общим гимном:
Из тесной кельи заключенья
Зачем ты требуешь стихов,
Там тухнут искры вдохновенья,
Где нет поэзии цветов!
Он был худ, немного прихрамывал, имел грустное красивое лицо, чем походил на Байрона, и чувствительную душу. А ещё был честен и тяготился тем, что вышел из дворян-землевладельцев. В университете все устремление и прилежание направил на поэтические опыты, уклоняясь от всяческой суеты. Но, тем не менее, загорелся идеями свободного общества, восторгаясь декабристами, и принимал самое активное участие в кружке. Друзья называли его «Рыцарем из Тамбова».
В Пятигорске он лечился уже длительное время, и его дом был открыт для друзей. Сюда почти ежедневно заходил, когда приезжал, Лермонтов – поболтать, отдохнуть душой. Здесь год назад он разошёлся с Белинским, приехавшим лечиться. Сюда постоянно заглядывали декабристы и прочие ссыльные.
В доме Сатина Огарёв и познакомился с князем Александром Одоевским.
Явление одного из легендарных декабристов в солдатской шинели, но с лицом, в котором каждый встречный признавал человека благородного и более высокого и значимого, поразило Огарёва в первую же встречу. Во взгляде пережившего столь много: и утрату товарищей, и многолетнюю ссылку, и тяжести солдатской жизни, он не увидел ни апатии Лахтина, ни романтической восторженности Сатина. Это был взгляд человека, знающего главную тайну жизни, ответ на вопрос: для чего он пришёл в этот мир.
Он никого не винил за выпавшие на его долю невзгоды, снося их по-христиански спокойно, и никого не судил, хотя его и призывали в судьи.
Вот и Огарёв, желая продолжить знакомство и услышать мнение истинного знатока и ценителя, послал свои стихи на его суд.
И Одоевский их принял, проникшись к автору искренним участием. И с этого момента оба почувствовали потребность общения.
… И ещё с одним человеком Огарёв познакомился и сблизился благодаря Сатину. В первые же дни тот привёл к устроившимся Огарёвым доктора.
Врач штаба кавказских войск Николай Васильевич Майер6 был вольнодумцем, охотно общался с декабристами, отчего находился под пристальным вниманием надзорных органов. Внешне он был не красив, но привлекателен. Большой лоб, глубоко сидящие глаза, толстые губы. К тому же одна нога короче другой. И в то же время доброта, живой взгляд, острый ум и отчаянная смелость в суждениях. Майер свёл Огарёва с декабристами, которые теперь бывали у них почти ежедневно, как и Одоевский.
На его глазах доктор пережил личную драму.
Майера трудно было отнести к людям чувственным. Во -первых, он был врачом, а значит, хорошо знал анатомические особенности человека, а во-вторых, воинствующим атеистом, из-за чего не раз попадал в неприятные ситуации, приобретя характеристику скептика и материалиста.
Так вот этот скептик вдруг влюбился. А вскружила ему голову молодая стройная черноглазая красавица с косой до пят. И, растопив сердце умудрённого жизнью, но, как оказалось, легковерного мужчины, она быстро к нему охладела, сначала обманывая, а затем откровенно пренебрегая ищущим ответного влечения доктором.
Наблюдая эту скоротечную драму и сопоставляя свои переживания с переживаниями Майера, Огарёв находил немало похожего. Мария теперь уже не стремилась разделить с ним его интересы, она хотела жить своей жизнью. Прежде ему казалось, что они настолько близки, что его устремления, его радости так же важны и понятны ей. Но вот теперь он всё более убеждался, что это далеко не так. Жену привлекали веселье, праздные разговоры, флирт. Нет, он верил ей, старался, как мог, не скучать на вечерах, куда шёл, подчиняясь её желанию, но это было пустым провождением времени и отвлечением от более важных встреч и разговоров и вызывало неизбежное раздражение и горечь.
В Пятигорске после довольно долгого перерыва он вновь начинает писать стихи.
Но я не сплю, и в поздней ночи
Моё окно
Растворено.
Мне тихо месяц светит в очи,
И звёзды в трепетных огнях
Горят на ярких небесах.
Долина дремлет под туманом,
И величаво возлегла
Гора над нею великаном
И тень далеко навела.
И в час величия ночного
Как много дум
Рождает ум.
И чувство ясное святого
Душе так живо предстоит,
И как свободно мысль летит
В пределы мира неземного!..
И человеку есть призванье:
Всё, всё, что только есть,
Всё в область ясную сознанья
Из жизни внешней перенесть.
Но всё-таки его более занимают мысли о справедливом устройстве общества. Он встречается с декабристами, этими легендарными, пусть и постаревшими и уставшими «первенцами свободы», пытаясь постичь их силу духа, понять идеи, укрепляющие этот дух.
Так пролетают день за днём, обогащая его знанием чужого опыта, без которого невозможно выстроить жизнеспособную философию, это он теперь хорошо понимал, хотя ещё совсем недавно, перед поездкой, воображал, что уже всё ему очевидно: и справедливое устройство государства, и счастливые принципы его свободных граждан… Оставаясь верным своей клятве с Герценом отдать все силы служению людям, он, тем не менее, теперь многое переосмыслил, находя в прошлых поступках немало романтичного, но не полезного…
Неожиданно для себя он узнал, что после ссылки большинство декабристов стало набожным.
Но особенно его поразил князь Одоевский. Будучи корнетом конногвардейского полка, в девятнадцать лет он вышел на площадь 14 декабря 1825 года, готовый умереть за идею. О н выделялся среди всех декабристов спокойствием и удивительными суждениями. Огарёв определил его христоподобным и не скрывал своей любви, любви ученика к мудрому учителю. И в то же время не мог до конца постичь смирения князя, его покорность страданиям…
Наконец он пришёл к выводу, что эта жертвенность в князе именно от безмерной Христовой любви к людям, даже если они этого и не достойны. И чем дальше узнавал, тем больше постигал высоту, которой тот достиг, напрочь отказавшись от самолюбования, которое порой так мешало Огарёву…
В Одоевском всё было удивительно.
И внешний облик, в котором сочетались красота и светлый ум, и суждения, показывающие образованность и пылкое воображение.
И то, что он не записывал свои стихи, как все остальные. Он их сочинял в голове, потом читал наизусть и не очень-то желал, чтобы их записывали другие.
Разница в возрасте (более десяти лет) и в жизненном опыте, в котором был и самоотверженный декабрь, суд, каторга в Сибири, ссылка там же, а затем по ходатайству перевод рядовым на Кавказ, довольно скоро определила их отношения. И ученик старался ежедневно видеть учителя, не обращая внимания на то, что Марии это не нравится и что они всё более отдаляются друг от друга…
К концу южного лета Огарёвы переехали в Железноводск. Следом туда же приехали Сатин и Одоевский.
Железноводск из всех окрестных мест более всего понравился Огарёву. Дикая прелесть и тенистая свежесть этой лесной долины после палимого солнцем Пятигорска давала отдохновение, склоняла к философским беседам.
…В этот вечер они втроём решили прогуляться.
Звёзды уже вовсю горели в небесах, деревья по сторонам тропинки нависали над ней и создавали иллюзию закрытой от окружающего мира аллеи, свет месяца мягко пробивался сквозь густую листву. Они прошли к источнику, присели на скамейку. Попросили Одоевского прочесть свои стихи. Тот не стал отказываться, мелодичным голосом начал читать. И слушатели поддались очарованию и этой теплой августовской ночи, напоенной ароматом созревших южных плодов и знойной степи, и тайне чарующих звуков, и магии рифмованных строк.
Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери!
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий.
Теперь, томлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подёрнутых очей;
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,
С усмешкою гляжу на них угрюмой.
Но жизнь моя цветёт улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О Пери! улети со мною в небеса,
В твою отчизну, где всё негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывёт в иной, прекрасный мир
И тает, просияв вечернею зарёю,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.
– Вам обязательно надо записывать всё, что вы сочиняете, – прервал молчание Сатин.
– Зачем? – произнёс Одоевский.
– Чтобы другие могли насладиться… – горячо поддержал товарища Огарёв. – И надобно издать отдельный том…
– Всё это лишнее, – не согласился Одоевский. – Я вам прочёл, и этого достаточно… И эти звуки останутся в этой ночи, под этим небом…
– Разве вам не хочется, чтобы их гармония доставляла удовольствие как можно большему числу людей? – спросил Сатин.
– Нет, мой друг, это совсем не нужно, – покачал головой князь. – Слово изречённое есть мысль, а разве мы можем заковать в кандалы мысль?.. В Сибири в остроге держали наши тела, но не мысли. Наши мысли были свободны тогда даже, может быть, более, чем сейчас… А все наши мысли приходят от Бога, от Всевышнего, и они принадлежат Ему… И только Ему. От Него приходят и к Нему возвращаются… И Он позволяет слушать изречённое тому, кому это нужно, необходимо для исполнения предназначения… Вот отчего их бессмысленно приковывать к листу бумаги.
– Но ведь именно благодаря этим прикованным мыслям наших предшественников и современников мы образовываемся, постигаем этот подлунный мир, – не согласился Огарёв. – Вы сами впитывали и, я уверен, впитываете и сегодня мысли мудрецов, оставивших свои труды…
– Да, это так, но лишь потому, что я не могу их слушать, – улыбнулся Одоевский. – И если вдруг мои сочинения будут нужны будущим поколениям, они придут к ним. И не обязательно через книжный том… Мы слишком много вообразили о себе… Мы столь мало знаем о мире и о своём предназначении, что не осмеливаемся в этом признаться и тщимся поставить себя вровень с Господом, обманываясь, веря, что сами распоряжаемся своей судьбой, что способны переделать по-своему этот мир. И в этом заблуждаемся. И любая тварь, тот же муравей, выше нас, ибо он не посягает на своё предназначение, на Истину – он частица её…
Сатин хотел что-то возразить, но промолчал.
У Огарёва тоже вертелось на языке возражение: разве можно сравнивать человека с муравьём? И не противоречат ли эти слова поступку Одоевского тогда, в 1825 году?.. Но ночь была так мягка и так растворяла их в себе, сближая со звёздами, с Богом, и он вдруг вспомнил поразивший его случай, отчего-то засевший в памяти, словно имевший важный, пока не разгаданный смысл, и вдруг решил рассказать о нём.
– Я не так давно ходил в гору к гроту. Там сел почитать. Вдруг что-то прошуршало, взглянул: змея вползла в грот. Длинная, красивая по-своему… Вползла, подняла голову и шевелит своим язычком. И вы знаете, я нисколько не испугался, подумал: вот оно, изящество создания Божия… Сидел и верил в провидение…
Он замолчал.
– А что дальше? – спросил после паузы Сатин.
– Прошипела и уползла…
– В этом мире всё сообразно Замыслу, но и непостижимо нашему уму. И наши души принадлежат только Богу. Он один ими распоряжается, отчего всё с нами происходящее нужно воспринимать смиренно, – произнёс Одоевский.
С этим утверждением Огарёв совсем не хотел соглашаться, но и спорить не было никакого желания: звенящая южная ночь вызывала неясное томление, и он лишь посожалел, что завели этот разговор, в голове всё ещё звучали напевные строки услышанного стихотворения, ему всё ещё виделся светлый женский образ, который, явившись на краткий миг, теперь безвозвратно исчезал…
Он попытался вспомнить свои чувства к той Марии, от которой три года назад потерял голову, но вместо этого всё возвращался к нынешней, считавшей его углубление в философию бесполезным занятием; да и прочие его заботы, встречи со знакомыми не вызывали в ней ничего, кроме скуки, отчего и муж становился скучен, и его приятели, и всё, что с ними было связано…
Он вспомнил недавний вечер, когда сидели они втроём, он, Мария и Сатин, у окна их дома, созерцая отходящую от знойного дня улицу, и молчали, не находя общей, интересной всем троим темы. И он чувствовал: лишней здесь была она, им с Сатиным было о чём поговорить, но оба знали, что это не будет интересно ей, и оттого не заводили разговор.
И было душно.
А единственная в Пятигорске шарманка играла где-то малороссийскую мелодию, пронзительно грустную.
И Николай вдруг ясно осознал, что их отношения с Марией не секрет для его товарища и тот сочувствует ему…
Они попрощались в тот вечер с Сатиным, ни слова не сказав друг другу о своём знании неизбежности его будущего расставания с Марией…
– Пойдёмте, уже совсем ночь, – поднялся со скамейки Сатин. -Август здесь самый чувственный месяц.
– Пойдёмте, – согласился Одоевский. – Скоро жизнь разведёт нас по своим дорогам, но эта ночь уже нам не принадлежит…