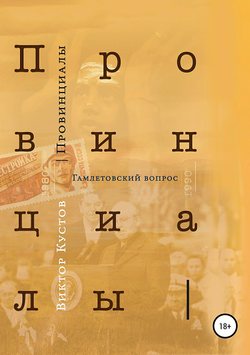Читать книгу Провинциалы. Книга 3. Гамлетовский вопрос - Виктор Николаевич Кустов - Страница 2
Жажда перемен
ОглавлениеДолжность руководителя литературного объединения давала Жовнеру возможность быть в курсе жизни писательской организации и планов крайкома комсомола, поэтому о грядущем краевом совещании молодых писателей его уведомили заранее, и было время не только собрать рукописи членов литобъединения, страждущих быть оцененными профессионалами, но и дописать собственную небольшую повесть о жизни маленького города у подножия гор. Семинар должен был пройти в конце лета, повесть он закончил в апреле, планировал вернуться еще раз к ней летом, но перед майскими праздниками его срочно вызвали в редакцию.
Он уже давно не ездил в Ставрополь, поэтому вез с собой пару серьезных материалов, над которыми работал последние недели, и всякую не оперативную мелочовку, надеясь порадовать ворчливого и вечно недовольного ответственного секретаря Кривошейко.
В кабинете ответсека за большим столом, на котором был непривычный порядок и чистота, сидел Сергей Кантаров. Он многозначительным жестом указал на стоящие возле стены стулья и, выбивая толстыми пальцами барабанную дробь по коричневой поверхности стола, словно не слыша его вопроса о Кривошейко, с пафосом произнес:
– Ну что, Александр, принимай отдел писем… Пора начинать пахать…
Усмехнулся, глядя на глуповатое выражение лица Жовнера, который все еще не мог ничего понять, и пояснил:
– Я – ответственный секретарь… Так что будем делать лучшую молодежную газету страны…
Жовнер уже слышал о назревавших переменах в редакции от огорченного Ставинского (тот так и не успел стать штатным сотрудником), но даже Леша не знал всех подробностей. Теперь Кантаров коротко изложил ему, что произошло всего пару дней назад.
Бывший редактор Сергей Белоглазов стал инструктором крайкома партии. Кривошейко – заместителем ответственного секретаря партийной газеты (пошел на повышение). Олег Березин заменил Кантарова, стал исполняющим обязанности заведующего отделом рабочей и сельской молодежи. Появился новый редактор, никому прежде в редакции не ведомый, но, по слухам, чей-то протеже или даже родственник большого партийного босса. (Сашка подумал, что уточнит это у Вячеслава Дзугова.) Остальные пока на своих местах.
– Пока, – подчеркнул Кантаров. – Примешь отдел, войдешь в курс, потом поговорим…
Откинулся в кресле, заслонив собой полстены явно маленького для него кабинета (отдельский был все-таки побольше, на три стола) и не скрывая удовлетворения от происшедших перемен.
– Материалы сдавай мне… Зайди к новому шефу, он с тобой собирался пообщаться… С ним уже все обговорено.
Сашка хотел заглянуть к Красавину, но его кабинет был закрыт.
И он, совершенно не настроенный на встречу с новым редактором (все-таки неожиданность), прошел в приемную, где грустная Олечка ответственно и прилежно печатала нечто на гремящей и звенящей машинке, которую слышно было даже в коридоре.
Бодро поздоровался, но она лишь приподняла голову, кивнула в ответ без традиционной улыбки, и Жовнер позавидовал Белоглазову: не всякая подчиненная будет так переживать смену начальства…
Он не мог предположить, что причина печали похожей на отличницу-старшеклассницу секретарши совсем не связана с уходом редактора (который когда-то и принял ее на работу), тем более что Белоглазов ей никогда и не нравился, как и большинство мужчин редакции (как тот же Жовнер, которого она почти и не помнила, так, временами мелькало что-то перед ней), она лишь научилась всем улыбаться и делать вид, что ей очень интересно выслушивать напыщенные монологи воображающих себя умными и талантливыми самцов, на самом деле озабоченных только заглядыванием за вырез ее блузки.
Причина ее нынешнего состояния была в том, что ее послушный до последнего времени ухажер завел себе другую, и теперь она (хотя он ей был совершенно не нужен, так, бойкий, хорошо целовался, в кино водил, симпатичный, подружки завидовали) чувствовала себя обиженной, словно у нее, без ее согласия, забрали еще не совсем разонравившуюся игрушку. Новому редактору, такому же широкому, как большой и шумный Кантаров, только ростом пониже и не столь громогласному она изобразила самую преданную улыбку (хотя Белоглазов и обещал ее забрать к себе поближе, но мало ли как сложится…), но тот никак на нее не отреагировал, только напомнил, что она должна находиться на рабочем месте с девяти до шести…
Лучше, если бы посадили в этот кабинет Красавина, может, тогда она и стала бы отвечать на его ухаживания…
Жовнер постоял, ожидая обычной информации, занят шеф или доступ свободен, но не дождался и толкнул дверь.
…Новый редактор Анатолий Игнатьевич Заворотный сидел за столом и увлеченно доедал лоснящийся золотистый пирожок. Жовнер помедлил, не зная, как лучше поступить, прикрыть дверь или все же войти, но тот приглашающе взмахнул свободной рукой, проглотил последний кусок, обтер пальцы большим клетчатым носовым платком, все так же молча продолжая рукой указывать путь следования вошедшего по кабинету до стула напротив. Наконец, сложив, спрятал платок в карман висящего на спинке кресла пиджака и неожиданно негромким для его комплекции, немного сипловатым голосом произнес, щуря и так не очень большие глаза:
– Если не ошибаюсь, наш собственный корреспондент в автономной области…
– Формально – руководитель литобъединения, – почему-то решил уточнить Сашка.
– Я в курсе, – кивнул тот головой, из-за шевелюры густых черных волос выглядевшей непропорционально крупной даже на этом туловище, – мы с первым секретарем обкома общались…
Произнес и замолчал, откровенно разглядывая Сашку, давая ему возможность постичь равенство его отношений с формальным начальством Жовнера.
Сашка тоже молчал, начиная понимать, что Кантаров, похоже, поторопился усаживать его за новый рабочий стол. Интуиция его не подвела. Заворотный стал рассказывать, как важно для крайкома, обкома комсомола, чтобы о делах молодежи в многонациональной автономной области знали повсюду в крае, что появление собственного корреспондента, его публикации замечают, на них реагируют.
– Я знаю, что вы нужны и здесь, в редакции. Мы с Сергеем Никифоровичем говорили о вас, да и Виктор Иванович просил перевести вас в штат. Со временем мы так и сделаем, но пока, Александр Иванович, придется пожить в Черкесске. Мы с Евгением Евгеньевичем решили, что будем поощрять вас повышенным гонораром.
Он многозначительно замолчал, по-видимому, ожидая слов благодарности, но Сашка «спасибо» говорить не стал, переваривал Никифоровича, Ивановича, Евгеньевича, стараясь правильно подставить их к знакомым именам, как и осознать собственное отчество, так четко произнесенное редактором.
– Там у нас внештатный корреспондент есть, – он заглянул в бумажку, лежащую на краю стола, – Ставинский Алексей Леонардович…
Сашка кивнул.
– Да, есть.
– Он сможет вас заменить?
Вопрос был неожиданным, и Жовнер не сразу нашелся, что ответить. Наконец не совсем уверенно произнес:
– Заменить не сможет, но оперативно освещать мероприятия вполне. Я могу ему помочь…
– Вот это я и хотел услышать, – с нескрываемым облегчением сказал редактор. – Значит, так и договоримся, вы постепенно вводите Алексея Леонардовича в курс дела, подсказываете, правите его материалы и готовитесь к переезду.
– И как долго… вводить?
– Пока не могу определенно сказать, – произнес Заворотный. И, словно извиняясь, пояснил: – Мне нужно разобраться… К тому же вам необходимо жилье. На первое время мы сможем вас одного, без семьи, устроить в общежитие. Но я не знаю, когда редакция получит квартиры, к тому же есть очередь… Было бы замечательно, если бы вы обменяли…
– Мы живем в квартире моих родителей, – сказал Жовнер. – Они сейчас дорабатывают на Севере, скоро приедут, так что менять нам нечего.
– А вы стоите на очереди?
– Вроде да, – неуверенно отозвался он, вспомнив, что прежний редактор Белоглазов обещал внести его в список нуждающихся в квартире.
– Я имею в виду в Черкесске, в обкоме? – уточнил Заворотный.
– В обкоме?.. Нет.
– Нужно было встать, там можно получить довольно быстро, будет что менять… Поговорите с первым секретарем обкома, проясните ситуацию. Если есть возможность скоро получить, правильнее будет подождать… Нужно будет, мы со своей стороны походатайствуем.
– Я поинтересуюсь, – неуверенно пообещал Жовнер.
– Ну, что же…
Редактор поднялся из-за стола, не особенно над ним возвысившись, но подавив внушительными размерами туловища, протянул маленькую, широкую, почти круглую ладонь:
– Пишите чаще, помогайте всем отделам и готовьте Ставинского, нам очень нужен в области собкор…
Заходить к Кантарову Сашка не стал, какой смысл, пусть между собой разберутся. И по отделам не пошел. Даже не поинтересовался, есть ли замечания к материалам, вопросы, предложения, чего никогда прежде делать не забывал. Вспомнил об этом, только завернув на проспект, ведущий к автовокзалу. Но возвращаться не стал.
Уезжал с необъяснимым осадком. Вроде и не настраивался на переезд от любимой жены, дочери (одному жить совсем не хотелось), но и лестно было – значит, газете необходим. Да и город побольше, культурная жизнь интенсивнее… Все же после Красноярска комфортнее он чувствовал себя в больших городах. К тому же после предновогоднего разговора с Красавиным и Кантаровым он прочитывал газету от первого до последнего абзаца. У него появились предложения и по структуре, и по кадровой расстановке (та же Селиверстова явно не тянула свой отдел, как не способны были писать заметные материалы Пасеков и Гаузов), и по тематике. Интересно, на какой отдел прочил его Кантаров?.. Впрочем, неважно, главное, втроем (если редактор не будет мешать) они действительно могут сделать если и не самую лучшую, как замахнулся Кантаров, то уж одну из лучших молодежных газет в стране точно…
Но не зря говорят: первую половину дороги думаешь о том, что позади, вторую – что впереди.
А впереди был небольшой зеленый многоязычный Черкесск, где его ждали любимая и любящая жена и вполне освоившаяся в своем многоцветном и многомерном детском мире дочь (непреходящая радость), а также привычный рабочий стол в обкоме комсомола напротив стола Азамата в кабинете возле окна, в которое в ветреную погоду стучались ветки раскидистого каштана. Заведующий отделом Адам, который, не вмешиваясь в график работы Жовнера, все же при случае не забывал напоминать, что тот является сотрудником обкома комсомола, конкретно – его отдела и, если не отчитывается перед ним, то хотя бы должен ставить в известность, куда уходит и чем занимается.
А еще были новые поездки по области, запланированные и неожиданные встречи с героями и антигероями его публикаций, немноголюдные (семеро пишущих на русском языке, включая Ставинского), но всегда бурные и долгие заседания литературного объединения. И более всего запоминающиеся (от узнавания неведомого прежде) откровенные разговоры допоздна в интернациональных компаниях за вином или даже чем покрепче. И тогда перед Сашкой раскрывался весь спектр непростых отношений наций и народностей, предпочитавших просторам иных территорий – той же необъятной Сибири с ее грандиозными стройками – тесноту горных ущелий, постижение национальных традиций и неписаных, но неукоснительно исполняемых законов, исторических преданий и правд многочисленных кланов, обсуждение застарелых обид на притеснения и несамостоятельность…
Независимости (без четкого ответа на вопрос «Для чего она нужна?») хотели и неспешные абазины, и хитровато-мудрые ногайцы, и спокойные черкесы. Но более всего жаждали ее самые многочисленные, после русских, карачаевцы. Для них, искони занятых животноводством, постоянным местом обитания были горные ущелья в верховьях Кубани, Теберды, Большого и Малого Зеленчуков, высокогорные плато, куда весной на летние выпасы вереницами тянулись из долин отары овец и стада коров, поэтому они отторгали цивилизацию и иную культуру. Здесь говорили на родном языке, хорошо помнили своих героев всех мелких сражений и непостижимых по масштабам, а оттого и не казавшихся страшными мировых войн. И с особой обидой и горечью вспоминали оскорбительную для народа департацию… Здесь исполняли наказ старейшин, навечно оставшихся в казахских степях: рожать в родных ущельях как можно больше детей. Здесь чтили принадлежность к кланам и многовековым родам, хотя революция и годы советской власти все перевернули с ног на голову: хозяин превратился в нищего, а раб стал начальником…
Это были незнакомая и не всегда понятная Жовнеру культура, чуждый уклад жизни, в которых ему помогали разобраться тот же не по возрасту серьезный и строгий, словно несущий в одиночестве груз исторических перипетий своего народа член литобъединения Юсуф Созаруков и немногословный, менее резкий в оценках, но более сведущий в этих вопросах писатель Мусса Батчаев, когда приезжал из своего аула в город. Мусса относился ко всему происшедшему, происходящему и тому, чему еще предстояло произойти, как к неоспоримой данности, считая, что главное для живущего в этом мире – стараться не переделывать, а познавать его…
В Черкесске преобладали если не обрусевшие, то оцивилизованные горцы, избравшие языком общения русский, получившие высшее образование, как правило, в хороших, чаще всего столичных вузах, куда поступали по квотам, вследствие чего занимавшие квотированные же места в партийных и советских органах, управленческие должности на заводах, делавшие либо престижную научную карьеру в научно-исследовательском институте (который был создан для того, чтобы найти истоки каждого из малых народов и показать их изначальное коренное родство, отчего-то утраченное к дням нынешним), либо публичную актерскую – в областном драматическом театре с национальными труппами, уникальном учреждении для столь маленького городка. Они уже были менее памятливы, более толерантны, жили и мыслили, как подавляющее большинство советских людей, имели друзей и знакомых среди прочих национальностей, прежде всего среди русских, из завистливого любопытства стремились восстановить связи с рассеянными по всему миру (включая территорию «заморской акулы капитализма» Соединенных Штатов Америки) сородичами, но по окончании земного пути неизбежно возвращались на место своего появления на свет – в родовой аул.
Таков был непреложный закон горцев.
Жовнеру, выросшему в центральной части России, сформировавшемуся, как он сам считал, на сибирских просторах, где для профессионального роста, формирования отношения к тебе окружающих имели значение исключительно умение и характер, а не национальность, было трудно понять и иную религию, влияние которой только здесь он впервые ощутил. Впервые попав на мусульманские похороны скоропостижно скончавшегося еще молодого актера местного театра, с которым был знаком, он не знал, как себя вести во время прощания. По обычаям умершего нельзя было снимать головной убор. Крещеному же положено провожать покойника с непокрытой головой. В конце концов, он поступил как православный…
В повседневной жизни Сашка не мог привыкнуть к тому, что у каждого знакомого–нацмена (кстати, слово «нацмен» тоже резало ему слух), помимо имени, данного при рождении, порой, правда, труднопроизносимого, было и второе, русское. И предпочитал называть людей настоящими, порой труднопроизносимыми и непривычными именами.
Он не мог постигнуть многого из того, что теперь его окружало, но старался понять и, если даже не понимал, уважать иные обычаи, традиции, нравы…
Впрочем, национальная интеллигенция, говорящая по-русски, практически ничем не отличалась от уже знакомой ему среды. Здесь, так же, как и в Сибири, были в моде приватные разговоры на кухнях о том, что не все благополучно «в датском королевстве», а в комнате в это время исходил патетикой успехов самого прогрессивного в мире общества «равенства, братства и свободы» телевизионный экран, блаженно улыбчивый и уже плохо понимаемый населением звездоносный генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Ильич
Брежнев получал очередную награду…
И все же юг расслаблял, поощряя духовную леность и пассивную созерцательность. Вопрос о справедливости государственного устройства с очевидным прессом непогрешимых партийных органов над всеми остальными гражданскими институтами (несмотря на то, что этот пресс здесь ощущался гораздо мощнее, чем в Сибири) был менее актуален, чем проблемы сосуществования людей разных наций, народностей, вероисповеданий, взглядов на этой плодородной, но, очевидно, тесной для всех желающих жить богато и беззаботно земле. По этой причине умственный потенциал активной части населения – практически весь, без остатка – уходил на карьерное продвижение либо поиск более злачных и перспективных мест работы и дополнительных источников дохода (на одну зарплату не проживешь), приобретение правдами и неправдами (лучше всего это получалось по родству, должности или знакомству, объединяемым понятием «блат») дефицитных благ и, нереализованный в полной мере по предназначению (быть со-творцом мира), создавал в многоликом обществе атмосферу повышенной агрессивности и жестокости в отношениях с себе подобными… Словно иллюстрируя естественную – по эволюционной теории Дарвина – примитивную борьбу биологических видов за место под солнцем…
Жовнер не был одержимым ни одним из увлечений, считавшихся в среде комсомольских функционеров здравыми и целесообразными, и оттого воспринимался сослуживцами и большинством знакомых несколько ущербным. От полного отнесения в разряд неудачников в глазах прагматичных окружающих его спасала только причастность к журналистской профессии, которую здесь уважали и даже побаивались. Никто не догадывался, что он и сам мучился, только не от своей непрактичности и неумения использовать служебное положение и связи, а от невозможности высказать все, что думает по поводу государства, в котором ему выпало жить. А еще его раздражало славословие партии и членов центрального комитета, дважды в год возвышающихся на одинаковых черно-серых портретах над колоннами демонстрантов, идущих по площадям больших и малых городов в честь дня трудящихся первого мая и седьмого ноября – в честь празднования очередной годовщины Октябрьской революции.
Раздражали хвалебные лживые отклики на брошюры многократного героя Леонида Ильича (который, если судить по наградам, заслугами перед страной превзошел всех своих предшественников), рапорты о трудовых победах и достижениях, в то время как на глазах пустели магазинные прилавки и дефицит становился тотальным.
Ему хотелось поделиться с кем-то своими мыслями и сомнениями.
Он не понимал, почему растет пропасть между тем, что его окружает в повседневной жизни, и тем, что звучит со всевозможных трибун…
Попробовал как-то со Ставинским поговорить на эту тему, но тот, не особенно вникая, согласно покивал и перевел разговор в плоскость реальную, посоветовав, пока Сашка работает в обкоме комсомола, вступить в партию, без членства в которой карьеру не сделаешь, будь ты хоть семи пядей во лбу…
Сам он затеял организовать в заводском ДК образцово-показательную дискотеку, которая приходила на смену танцам. Сашку, как человека семейного, дискотеки не интересовали, но идея Ставинского предварять танцевальную часть идейным театрализованным представлением показалась интересной, и Сашка с удовольствием подключился к написанию сценария, а потом и к репетициям, заражаясь энтузиазмом молодых ребят, которых тот сумел собрать. Сам Леша забросил все свои рутинные секретарские дела, игнорируя и поручения, и отчетность, явно давая повод если не для увольнения, то для очередного выговора.
Даже перестал писать в газету.
Свое беспокойство по этому поводу Жовнеру сначала высказал Адам, посоветовав предупредить своевольного Ставинского о неполном служебном соответствии, а затем выразил и редактор, напомнив, что от того, как быстро Алексей будет готов его заменить, зависит и Сашкин переезд в краевую столицу.
Но наступившее лето с ясными знойными днями и томными южными ночами не располагало ни к работе в кабинете, ни к разлуке с женой, поэтому он решил не форсировать события, понимая, что, переехав в Ставрополь, неизбежно будет втянут в ритм отнюдь не творческого конвейера. А оттяжку обосновывал нужностью здесь, предлагая темы одна интереснее другой, и с удовольствием мотался по командировкам: то к чабанам на дальние горные выпасы под снежные хребты, то к ученым Зеленчукской обсерватории с самым большим телескопом в мире, по воле случая (или предопределенной закономерности) построенной рядом с первыми православными храмами в Архызской долине, то к мирным артиллеристам – укротителям градовых туч, то к строителям самого большого в Европе тепличного комбината, то на археологические раскопки самого древнего на Северном Кавказе Хумаринского городища…
Это было интереснее, чем готовить дежурные отчеты о комсомольских мероприятиях, да и сами материалы получались читабельными, но неожиданно для Сашки они вдруг перестали появляться в газете. Наконец, он не выдержал, позвонил Сергею Кантарову, и тот недовольным тоном сообщил, что все материалы лежат на его столе, но есть первоочередные, более актуальные темы, а не «грезы восторженных барышень».
Но тут же, правда, признал, что написаны они интересно и что он их начнет ставить со следующей недели по мере возможности.
– А вообще пора тебе впрягаться в работу, а не выезжать на экскурсиях. Это темы для практикантов, – грубовато закончил он.
Осадок после разговора остался неприятный, но Сашка решил, что Кантаров, вероятно, был не в духе. А может, даже позавидовал, потому что он сам, став ответственным секретарем, писать перестал.
…Спустя неделю материалы вышли чередой, из номера в номер.
В обкоме такое внимание к области всем понравилось. После завершающей публикации первый секретарь обкома комсомола даже пригласил его на разговор. Встретил крепким рукопожатием и словами благодарности, не преминув заметить, что и в обкоме партии все публикации внимательно прочли и одобрили. Потом высказал сожаление, что уже дал согласие на перевод Жовнера в редакцию.
– Но я сегодня с утра созвонился с краем, – он кивнул на белый телефон, стоящий на столе особняком. – Договорился, что на важные события отправлять тебя будут, – окинул Сашку отвлеченным взглядом человека, обремененного бесчисленными заботами. – С таким вот условием отпускаю… – и вдруг спросил: – Ставинский так сможет писать?
Сашка сразу не нашелся, что ответить. Потом невнятно буркнул:
– Научится… Со временем… – И под ничего не выражающим взглядом торопливо добавил: – Я помогать буду…
Но, похоже, ответ был вовсе не обязателен…
Первый секретарь был почти одного с ним возраста, но выглядел и солиднее, и старше. Происходил он из карачаевского рода незнатного и небогатого (пролетарская основа), особым интеллектом, эрудированностью да и манерами не отличался, но зато был исполнителен и умел внимательно слушать старших товарищей, что отчасти и помогло ему сделать карьеру. Как правило, он редко бывал на месте, постоянно пропадал в кабинетах обкома партии, выполнял какие-то партийные поручения или же летал в командировки в Москву.
Основной его функцией было взаимодействие с вышестоящими товарищами, торжественное открытие комсомольских мероприятий, текущими же делами руководил более дотошный и хорошо знающий, чем кто в аппарате занят, второй секретарь. Но, в общем, первый был неплохим мужиком, может, поэтому Сашка и поторопился взять на себя обязательство помочь Ставинскому. А может, потому, что переход в штат редакции все еще казался ему не очень близким…
Но вопрос перевода был решен раньше, чем он ожидал, в солнечный день в середине августа, когда он приехал в краевой центр на совещание молодых писателей.
С утра он отсидел на его заседании, с затаенной радостью выслушал мнение руководителя семинара, местного прозаика и драматурга, рекомендовавшего его повесть к публикации в краевом альманахе (с грустью вспомнил о рукописи, затерявшейся на полках красноярского издательства), потолкался «с молодыми и талантливыми», так же, как и они, восторженно внимая благожелательно доступным литературным мэтрам, потом зашел в редакцию.
И в коридоре столкнулся с праздно, как ему показалось, прогуливающимся новым редактором Заворотным. (Потом ему объяснили, что это был традиционный профилактический обход редактором кабинетов перед последним рабочим часом.)
– Как кстати… На ловца и зверь… – растянул тот в полуулыбке полные губы. – Пойдем ко мне, поговорим, – и неторопливо, вперевалку направился к кабинету.
Увидев их, Олечка тут же вышла из-за своего стола.
Вопросительно заглянула в глаза редактору, всем видом выражая полную преданность и готовность исполнить любое приказание, удивляя Жовнера происшедшей с ней метаморфозой. Произнесла с приторно-услужливой интонацией:
– Вам чего-нибудь нужно, Анатолий Игнатьевич?
– Я позову. Не отлучайся никуда, – буркнул тот и прошел в прохладный после уличной жары кабинет.
– Удачно, что появился, звонить не придется… – Заворотный выдержал паузу, окидывая Жовнера изучающим взглядом небольших, но острых глаз. – Решил вопрос по квартире?
– Нет, не решил.
– Почему?
– А он не решается, – сказал Сашка, удивляясь, что редактор об этом спрашивает. Он же обещал посодействовать, значит, должен быть в курсе. – В обкоме меня своим не считают…
Тот насупился, пожевал губами, словно пробуя на вкус то, что собирался сказать.
– Не хотят давать… Тогда будешь у нас ждать. В течение года обещали всех осчастливить. И нечего прохлаждаться, отрывайся от жены. Со следующей недели приступай к обязанностям заведующего отделом писем, а то начальство уже интересуется, почему вакансию не закрываю…
– Приезжать? – зачем-то уточнил Жовнер.
– Само собой.
– Увольняться?
– Переводом. Все согласовано.
– Тогда через неделю, в понедельник, – уточнил Сашка. – Не начинать же среди недели…
– Но ни днем позже…
…Все действительно было согласовано, перевод оформили без волокиты. Единственной неожиданностью стала просьба первого секретаря обкома комсомола, чтобы он хотя бы до конца года, уже на общественных началах и в свободное от основной работы время, возглавлял литературное объединение.
– Это просьба наших писателей и отдела, – пояснил тот. – Ставинского мы на ставку оформим, крайком его рекомендует, писать в газету он будет, а вот опыта руководства молодыми писателями у него нет… К тому же он литературных произведений не пишет, а тебя обсуждали на семинаре, одобрили? – вопросительно посмотрел.
– Повесть рекомендовали в альманах.
– Тем более… В конце года мы поощрим…
– Я и без поощрений. Но только до конца года, – сказал Жовнер…
…Елена к новым переменам отнеслась с пониманием. Ей Ставрополь понравился, пару раз Сашка брал ее с собой походить по магазинам. Но разлука не нравилась, и она настраивала Сашку, чтобы тот подыскал квартиру для всех. Он пообещал, хотя выразил надежду получить в течение года от редакции собственную.
Ночь перед отъездом, уложив дочь в другой комнате, они провели за любовью и разговорами, заснув уже под утро, и почти сразу же были подняты будильником, поэтому досыпал Сашка в автобусе, а ровно в девять он входил в приемную редактора.
Заворотный задерживался.
Олечка, носившая теперь блузки с менее откровенным вырезом (учла замечание шефа), сообщила, что тот в крайкоме, и Сашка зашел к ответственному секретарю.
Теперь Кантаров сидел за массивным столом, занимавшим почти половину кабинета, по-хозяйски развалившись в новом большом кожаном кресле. На столе в беспорядке высились стопки машинописных материалов, лежали газетные полосы предыдущего номера, исчерканные телетайпные ленты, а сам Кантаров являл собой олицетворенную озабоченность и не скрываемую начальственность.
– Отдел принимаешь запущенный, – показал он свою объективную осведомленность. – Придется попахать по-настоящему. Но сразу предупреждаю, чтобы обид не было, снисхождения от меня не жди.
Жовнер удивленно взглянул на него.
Большое тело Кантарова подалось в его сторону, нависло над столом.
– А то тут некоторые посчитали, что могут эксплуатировать личные отношения. Кое-кто на связи понадеялся… А для меня все равны и все должны работать, а не просиживать штаны и трусики… Я делаю газету – и сделаю ее. И всех, кто будет мне мешать, раздавлю, – откинувшись, с иронией, за которой слышалась нешуточная угроза, добавил: – Сам понимаешь, комплекция позволяет…
– А мне зачем ты это говоришь? – спросил Жовнер, не зная, расценивать это серьезно или как неуклюжую шутку.
– Не знаю, что тебе Заворот наговорит, только мне твое перо сейчас, как сороке пропеллер, – продолжал Кантаров, подтверждая серьезность сказанного. – Я буду требовать, чтобы отдел работал, строки сдавал в полном объеме и по сетевому графику.
– Можно было об этом иначе сказать, – Жовнер поднялся и, выходя, не сдержался, уколол: – Не смею отвлекать от важных дел…
Кантаров промолчал.
В коридоре столкнулся с улыбающимся, явно чем-то довольным Красавиным. Тот искренне порадовался его переезду, сказал, что редактор еще в крайкоме, но вот-вот должен быть, а пока Сашка может подождать у него в кабинете, благо всех своих шерпов он разогнал по командировкам.
В большом кабинете главного идеологического отдела стояло три стола. Самый большой, заведующего, возле окна, так, чтобы обозревать остальные. На нем был идеальный порядок: на углу слева – стопка чистых листов, в центре – письменный прибор с набором ручек и карандашей и последний субботний номер газеты, справа – бордовый том из собрания сочинений Ульянова – Ленина и еще пара книг на современную комсомольскую тематику.
– Странный разговор у нас с Сергеем сейчас состоялся, – не выдержал Жовнер, прикрывая дверь.
– Ультимативный? – догадливо усмехнулся Виктор, вешая пиджак на спинку стула. – Кантаров у нас теперь большой начальник… На ответственном посту… Шутить ему теперь некогда, да и непозволительно. Шишка на ровном месте…
– Мне казалось, вы друзьями были…
– Скорее, приятелями. На каком-то этапе – единомышленниками. Как Ленин с Троцким… Начальственное кресло, Саша, имеет соблазн непогрешимого всезнания… Увы, Сергей против этого соблазна не устоял…
– Я не заметил, чтобы газета особо изменилась… Слабых материалов поубавилось, не спорю, но заметных не прибавилось…
– Программная установка нашего ответственного секретаря, кстати, поддержанная редактором и утвержденная редколлегией, – поднять уровень публикаций до среднего, подтягивая слабых и сглаживая сильных, – словно процитировал Красавин. – Так что учти, выделяться тебе не дадут. Стратегическая задача – добиться устойчивой работы редакции, чтобы в запасе материалов было на два номера…
– Я насчет уровня что-то не понял…
– Скоро поймешь, – иронично улыбнулся Красавин.
– А ты с Кантаровым…
– Не общаемся, – не дал закончить тот. – Разошлись по тактическим соображениям… Но не хочу навязывать свое мнение, сам разберешься… Только учти, редактор на его стороне. Пока вытягивай отдел, а пиши так, как умеешь…
Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Галина Селиверстова. Нарочито удивилась, выразив свою радость по поводу появления Жовнера полуулыбкой:
– С приездом, Саша… Мы тебя заждались… Да, тебя Заворот разыскивает.
И, не закрыв дверь, зацокала каблуками по коридору.
Жовнер взглянул на саркастически улыбающегося Красавина.
– Разведка, – негромко пояснил тот. – Будь готов к профилактическому разговору с ответственным секретарем по поводу контактов с коллегами во время рабочего дня…
– Да ну вас, – отмахнулся Сашка и пошел к редактору…
Заворотный в приемной давал распоряжение Олечке что-то оперативно напечатать и, не заходя к себе, повел Жовнера к Кантарову.
– Мы уже определились, – предупредил его представление ответственный секретарь.
– Вот и хорошо. Я только хотел уточнить порядок сдачи материалов. Неделю мы даем Александру Ивановичу на вхождение, а потом строго по сетевому графику, без снисхождений.
– Я так и сказал.
– Понятно, – подтвердил Жовнер, умолчав, что о конкретных сроках сдачи первый раз слышит.
Потом пошли в отдел писем, где их встретила Березина, одетая в яркий, цветастый и короткий сарафанчик, соблазнительно оголявший шоколадного цвета плечи и почти не скрывавший аппетитного цвета ноги. Фигура у нее действительно была изумительная, Сашка даже на некоторое время выпал из разговора, опять вспомнил Лариску Шепетову – только та могла бы посоперничать с Мариной. Но исключительно фигурой, на лицо Березина была бесспорно симпатичнее.
Она постаралась изобразить радость от появления долгожданного заведующего, но тут же пожаловалась редактору, что возня с письмами ей не нравится.
– Давайте я вернусь к Селиверстовой, – с настойчиво-просительной интонацией произнесла она. – Галка же часто болеет. А оперативные материалы по теме отдела делать надо… Александр здесь с письмами один справится.
– Подумаем, – благодушно пообещал Заворотный. – Ты расскажи ему все, покажи.
– Ну, он уже большой мальчик, сам разберется, – выстрелила та взглядом неопределенного цвета глаз под черными длинными ресницами.
– Ладно, соблазняй не в рабочее время, – строжась, произнес редактор. – Мужу скажу.
– Муж не стена…
– Марина! – перебил ее Заворотный, повысив голос. – Поможешь, а потом вернешься в свой отдел…
…Неделя у Жовнера ушла на то, чтобы вникнуть в дела и разобраться с почтой, до которой у Березиной, пару недель назад, после увольнения Пасекова, брошенной сюда на прорыв, руки не дошли. На второй день Сашка понял почему. Рабочий день ее начинался после неспешного чаепития в кабинете Селиверстовой, который в редакции был зоной, закрытой от каких-либо репрессий. Затем она долго красовалась перед зеркалом, висящим на стене, без стеснения делясь с Сашкой новостями личного характера: о капризничавшем с утра сыне, задержавшемся в командировке муже, о душной ночи, которую она провела, раскинувшись в одиночестве на двуспальной кровати совершенно голая, и о том, каким взглядом ее провожал сегодня совсем юный, похожий на Есенина, мальчик… Наконец со вздохом садилась за стол и начинала неторопливо перебирать письма, сортируя их по темам. Вдруг начинала вслух читать понравившееся или рассмешившее, а последнее еще бежала показать Селиверстовой или Кантарову.
После обеда, с которого она, как правило, возвращалась на полчаса, а то и час позже (проблемы с городским транспортом), начинала писать обзор, но трудовой азарт быстро угасал, и она бралась за то, что было проще, начинала писать запросы в официальные органы, бросая на Сашку взгляды, наполненные невысказанной тайной и явным желанием отвлечь его от скучного занятия – подготовки актуальных писем к публикации.
Но все-таки к пятнице они завершили разбирать почтовый завал («графоманская засада» по Кантарову), Марина вернулась в отдел Селиверстовой, на прощанье выразив сожаление, что Жовнеру достался такой скучный отдел, а к нему перевели Смолина, который, похоже, растерял свою строптивость и был пугающе послушен и исполнителен. Его Сашка и посадил разбирать письма, рассылать по инстанциям жалобы и отвечать на откровения по поводу неразделенной любви, внешне радуясь и тайно огорчаясь тому, что с понедельника уже не будет видеть Марину, слушать ее искушающие откровения…
Хотя и был занят, безвылазно просиживая все дни и вечера в кабинете, тем не менее он ощутил напряжение в редакции. При Белоглазове двери в кабинеты были, как правило, распахнуты, в коридоре громкоголосо обменивались последними житейскими новостями сотрудники, улыбающаяся Олечка порхала туда-сюда, обнадеживая своим бюстом неженатых и стимулируя творческое воображение семейных. Теперь же в редакции было на удивление тихо, все двери плотно закрыты, Олечка все время сидела на своем месте, в кофточке с высоким вырезом, в котором соблазнительную выпирающую матовость девичьей непорочности уже невозможно было разглядеть.
По коридору чаще других громко шествовали или Кантаров в сторону кабинета редактора, или же сам редактор, отправляющийся на очередное важное совещание в вышестоящие органы. Остальные сотрудники скользили безмолвными тенями, торопясь исчезнуть либо в своем кабинете, либо за входной дверью. Эта обстановка чем-то напоминала уже знакомую обкомовскую и никак не вязалась с атмосферой всех предыдущих редакций, в которых он работал…
В пятницу он собирался уехать пораньше домой, уже проинструктировал Смолина, что тому делать до конца рабочего дня, но тут прибежала Олечка: Заворотный его вызывал.
Редактор просматривал полосы завтрашнего номера, был настроен благодушно, поинтересовался, вник ли Сашка в проблемы отдела. Выслушав отчет о проделанном, благосклонно покивал и напомнил, что главное – вовремя по сетевому графику сдавать материалы в секретариат.
– Я с Сергеем Никифоровичем солидарен, – веско произнес он. – Нам надо иметь запас хотя бы на два номера газеты. Сетевое планирование – эффективная форма, надо научиться собственные планы неукоснительно выполнять. У нас тут некоторые умники не согласны, что количество со временем перейдет в качество… Этим они прикрывают желание разгильдяйничать.
Жовнер хотел было возразить, что подобный закон не всегда работает, но по выражению лица редактора понял, что не стоит этого делать.
Пока Заворотный пространно делился своим (и ответственного секретаря) видением перехода от количества плохих материалов через многократные переделки к хорошим, что в будущем должно было вывести газету в лучшие в стране, надежды уехать пораньше становилось все меньше и меньше, и, когда Сашка вышел из кабинета, так до конца и не понявший, зачем его тот вызывал, спешить было уже некуда.
На всякий случай заглянул к Красавину. Тот оказался на месте – заканчивал материал в номер, попросил подождать его.
– Тема есть интересная, – многообещающе бросил он. – Обсудить надо.
Зашел он в конце рабочего дня. Сашка заканчивал писать план на неделю, Смолина он еще раньше отправил в крайком, забрать пришедшее туда письмо. Красавин оглядел кабинет, хмыкнул.
– У Марины меньше порядка было.
– Она особо им и не занималась…
– Это верно. Дама она спонтанная – все делает по настроению.
Но фаворитка, может себе позволить иметь слабости, – Виктор сел на стул напротив. – Ну, как первые впечатления?
– Некогда было разобраться, – уклончиво отозвался Жовнер. – Из кабинета не выходил, завалы… Вот только сегодня редактор своей стратегией поделился…
– О неизбежном переходе количества в качество… – усмехнулся Красавин. – Это не его стратегия, а Кантарова. Серега, в общем-то, неплохой мужик и не дурак, но тут у него бзик. С этой стратегией хорошо штангистов тренировать, мускулы наращивать. А извилин от этого больше не станет. Не понимает, что просто загонит ребят, интерес отобьет, особенно у молодых. Мы на эту тему с Сергеем не раз спорили, – заметил он. – Но характер у него женский: хочу и буду… Да и Галка – стерва еще та. Понятно, он ее слушает, ночная кукушка… А у нее один критерий: кому она нравится, тот и хорош, и талантлив… Пока ты ее хвалишь, она со своими вассалами тебя хвалить будет. А Серега поддерживать…
– За что хвалить? – удивился Сашка. – Пишет она не лучше остальных… План по строкам, как я понял, тоже не делает… – и догадался: – А вы с Сергеем поругались из-за нее?
– Было дело. Сказал ему, что не тянет она отдел… Кстати, я тебя предлагал на ее место… – он глянул на часы. – Ладно, договорим в понедельник, бегу я, в крайком вызывают…
– Домой торопишься, – понимающе произнес Красавин. – А мне иногда одному пожить хочется…
– Мне пока нет.
Выходя, столкнулись с Кантаровым, который или собирался зайти в кабинет, или ждал возле двери. Тот буркнул что-то неразборчивое Красавину и внятно приказал Жовнеру:
– Зайди ко мне.
И, переваливаясь большим телом, по-хозяйски неспешно пошел по коридору.
– Не гнись, – негромко посоветовал Сашке Красавин. – Без нас ему газету не поднять. Он это понимает…
И именно с того, что им всем вместе надо делать газету, Кантаров и начал, вдруг вспомнив их предновогодний разговор на аллее.
– Ты же не станешь спорить, газета изменилась, стала интереснее, макет другой – современный, – закончил он.
– Вижу, лучше, – честно признался Жовнер, не отрицая очевидных перемен.
– Думаешь, редактор помогает? Да ни хрена! Главное, не мешает.
Пашу по-черному, за половиной корреспондентов все переписываю.
Красавин вон уже отвалил к жене под бочок, ты тоже торопишься, а я засяду читать эту бредятину допоздна, – он обвел рукой разбросанные по столу материалы, исчерканные красным карандашом. – Править, переписывать… – бросил в его сторону листок, на котором машинописный текст из-за пометок практически не был виден.
– Кого это ты так ?
– А, неважно, – махнул тот рукой. – Ты тоже, между прочим, нередко халтуришь, так что учти, возвращать буду… – и сменил тему: – Вы с Красавиным обо мне говорили?
Сашка лгать не стал.
– Обменялись мнением о целесообразности перехода количества в качество…
Кантаров насупился, шумно задышал.
– Умники… Это закон, и от мнений он не меняется… Не стоит зря тратить серое вещество, – отрубил он.
– Я, между прочим, политехнический институт закончил… – не выдержал, с вызовом начал Жовнер.
– А я – иняз, – не дал закончить Кантаров. – Что из этого?.. Гениев среди нас нет, а мастерство приходит через пот и мозоли…
– Только не в журналистике.
– И в ней тоже.
– Спорить не хочу, но ты не прав.
– И не надо спорить, – снисходительно усмехнулся Кантаров, пронизывая его острым взглядом. – И Красавина слушать не надо.
– Что за кошка между вами пробежала? Вроде собирались все вместе газету делать… – сменил тему Жовнер.
– А Виктор Иванович в это кресло метил, – сказал Кантаров. – Не получилось, теперь ему все, что мы с редактором делаем, не нравится. Если ты этого еще не понял, говорю прямым текстом. И советую определиться, с кем ты.
– А обязательно надо быть с кем-то?.. Не занимайтесь вы ерундой, давай вечерком в понедельник сядем втроем, поговорим…
– Миротворцем хочешь быть? – Кантаров саркастически усмехнулся. – Если ты еще не разобрался, поясняю: нам с ним не о чем говорить, зазвездился Красавин. Можешь посоветовать ему работать лучше со своими подчиненными, а то больше всего с материалами его отдела вожусь. И меньше в крайком бегать, фискальничать… Так что, делай выбор… Только не забывай: кто не со мной, тот против… – закончил он разговор…
– Делать вам нечего, – только и нашелся, что сказать на выходе Сашка.
…Два дня он не думал о неожиданной коллизии, с которой столкнулся в редакции. Жил счастливой жизнью любимого мужа и отца, а в понедельник в автобусе, по дороге в Ставрополь, решил, что все-таки попробует примирить недавних единомышленников, свести их вечером за столом, предложив отметить начало его работы. Но этому не суждено было сбыться: не успел открыть кабинет, как прибежала энергичная Олечка, передала настоятельную просьбу редактора никуда не отлучаться и ждать, он вот-вот придет из крайкома.
Сашка заглянул к Кантарову. Хотел пригласить на вечерние посиделки, но тот с нескрываемым раздражением сунул ему несколько подготовленных к публикации и перечеркнутых красным карандашом писем.
– Научи ты своего бездельника письма готовить…
Сашка взглянул, положил обратно на стол.
– Это еще Марина готовила.
– Ты – заведующий отделом.
– Извини, но моей подписи на бланке нет, – сказал Жовнер.
Тот взглянул, буркнул:
– Ладно, разберусь…
И уткнулся в материалы, демонстрируя занятость.
Сашка вышел и чуть не столкнулся с Олечкой, которая выпалила, что уже обыскалась его по кабинетам, потому что срочно требует к себе шеф…
У Заворотнего было явно благодушное настроение, из чего можно было сделать вывод, что в крайкоме его похвалили. О двух слабостях редактора Сашка уже знал. Первая заключалась в отношении к еде. Как правило, он все время что-нибудь жевал, а в кабинете с утра до конца рабочего дня стояла тарелка с пирожками. Вторая была более существенной: это зависимость его настроения от оценки вышедшего номера в вышестоящих органах.
– Хочу тебя обрадовать, – почмокал он маслянистыми губами. – Не каждому так везет. Должна была Селиверстова ехать, но у нее семейные проблемы… Я бы сам с удовольствием прокатился, да вот не отпускают… – И, наконец, раскрыл тайну: – Наши юнармейцы к пограничникам в гости едут. Ты с ними в командировку…
– Далеко?
– В Армению. Получи в бухгалтерии командировочные – и в крайком, отъезд оттуда.
– Когда?
Заворотный вскинул руку, посмотрел на часы.
– Успеваешь. В двенадцать…
– Мне еще надо запланированные на неделю материалы сдать, – вопросительно произнес Жовнер, не решив, радоваться ему или огорчаться столь неожиданной новости.
– Смолину дай команду…
– Он не сможет подготовить…
– Ладно, я скажу Кантарову, он отредактирует. Все равно целыми днями сидит в кабинете, катает кое-что в штанах…
У редактора явно было боевое настроение.
– Иди в бухгалтерию, я уже приказал все подготовить… – помолчал и добавил: – Не особо там увлекайся с погранцами, а то дорветесь до допинга – не остановишь. Все-таки с детьми едешь…
Сашка хотел сказать, что последнее время гастрит не то что пить, по-хорошему и поесть не позволял, но Заворотный уже не слушал, подтягивал к себе блюдечко с надкушенным пирожком…
…Он получил командировочные, дозвонился домой, но там никто не ответил, и, нервничая, что начинает опаздывать, перезвонил спустя двадцать минут. На этот раз Елена взяла трубку. Новость ее совсем не обрадовала (он должен был вернуться в следующий понедельник, а значит, выходные семейными не станут), она выразила беспокойство по поводу его гастрита. Посоветовала настоятельно не есть ничего острого. Он пообещал и выскочил на улицу в полном цейтноте.
Успел как раз к отходу автобуса, когда юнармейцы уже все сидели на местах, а автобус предстартово рокотал… Молча выслушал сентенции Гены Прохина по поводу недисциплинированности некоторых взрослых людей, от которых его избавил энергичный Слава Дзугов, назначенный от крайкома комсомола главным в поездке.
– Гена, не грузи… – морщась, остановил он Прохина. – Александр, запрыгивай, отбываем…
Он поднялся на ступеньку – и автобус тронулся.
Первый отрезок пути был самый короткий. Через пару часов они уже были на железнодорожном вокзале в Невинномысске, успев как раз к приходу своего поезда, где пацаны заняли полностью плацкартный вагон, а они с Дзуговым – купе в соседнем.
Когда наконец поезд тронулся, а юнармейцы были распределены по местам, лучше познакомились с Дзуговым, которого Сашка увидел впервые. Слава оказался начитанным и остроумным собеседником, с юмором относящимся к самым серьезным ситуациям, отчего с ним было легко и просто. Будущие солдаты были на удивление активными, любопытными и шумными. Проводница из вагона, где те ехали, пожилая, худая и раздражительная, периодически приглашала их навести порядок, и этот день, а затем и ночь пролетели незаметно, а в середине следующего дня они уже выходили на перрон вокзала в столице Армении.
Еще через пару часов, в течение которых они созерцали проносящиеся мимо шумные улицы каменного Еревана, безлесые окрестности, выжженные солнцем склоны с отарами овец или террасами виноградников, белопенную речку, долину с островками небольших поселений, автобус подвез их к зеленым воротам с большой красной звездой посередине, и гостеприимно-говорливый, круглолицый и черноголовый Арик, секретарь местного райкома комсомола, представил их с Дзуговым офицерам заставы. Затем с щедростью хозяина оставил в подарок двадцатилитровый баллон с «самым лучшим в мире коньяком, комсомольско-молодежная бригада постаралась» и укатил на автобусе обратно, пообещав непременно еще наведаться и выполнить любые пожелания дорогих гостей и старых знакомых – пограничников.
Правда, гостями, и довольно хлопотными, они были в первую очередь для пограничников, несмотря на то, что их ждали. Начальник заставы, молодой и стройный капитан – белорус, родом из Витебска, представил остальных офицеров, которые явно были не против нарушения привычного распорядка, и первым делом приказал разместить в казарме ребят, выдать им солдатское обмундирование, чтобы не демаскировать заставу, отчего те пришли в шумный и неуправляемый восторг, иссякший лишь к полуночи, когда Сашка со Славой (тоже обряженные в форму и даже с лейтенантскими погонами на плечах, соответствующими званиям, полученным на военных кафедрах) сидели в домике, выполнявшем на заставе функции гостиницы, в компании офицеров за действительно изумительно ароматным и бодрящим коньяком и аппетитно пахнущим дымом виноградной лозы шашлыком…
То ли сугубо мужская искренне-благожелательная компания, то ли прекрасный коньяк, какого Сашке пить не приходилось (не обманул Арик!), то ли офицерская форма, которую он, не любя армию, любил за то, что вынуждала подтянуться, то ли их с начальником заставы родство (на одной реке выросли) – а скорее, все в совокупности – напомнило Сашке его короткую службу и первую встречу с пограничниками, о которой он не преминул рассказать.
Будучи сугубо штатским человеком, Сашка тем не менее ощущал себя в офицерской форме привычно и легко. На учебных сборах после института (без пяти минут инженеры, они еще числились курсантами) капитан Лазуткин, четыре раза принимавший участие в параде на Красной площади и гордившийся этим, словно свершенным подвигом, несмотря на ежедневное потребление ста, а то и больше, «наркомовских» граммов, маршировавший так, что никто не мог в этом факте его биографии усомниться, не раз выводил Сашку перед строем сокурсников, используя в качестве наглядного пособия – как на настоящем офицере должна сидеть форма.
От тех двух жарких месяцев, проведенных в остро пахнущем хвоей сосновом бору на юге Иркутской области, у него остались неплохие воспоминания, хотя, собственно, вручение офицерских погон он почти не запомнил. Может быть, оттого, что слишком азартно они обмыли получение лейтенантских звездочек.
В памяти остались курсантские самоволки в недалекий городок за сигаретами и прочими цивильными радостями, воровство огурцов на колхозном поле, долгие уроки Лазуткина на плацу, не вызывающие радости, изнурительные марш-броски с полной выкладкой в июльский полдень…
Уже офицером запаса он спокойно прожил год, хотя и был готов идти служить в ту же Монголию, откуда – в его бытность студентом – приезжали по-гусарски настроенные офицеры-срочники из предыдущего выпуска. Но такой потребности уже не было. Его безжалостно призвали на военные сборы, когда Сашка уже не хотел этого – спустя всего три месяца после свадьбы, и сорок дней, пронизанных тоской по молодой жене и бессмысленностью всего окружающего, он прожил в забайкальских степях на границе с Китаем.
Сборы, на которые их, офицеров запаса, забрали в течение вечера, ничего не объясняя и оставляя в неведении родных, были приурочены к большим всеармейским учениям. Неделю их продержали на пограничной заставе, где распределили по ротам и взводам (Сашка был назначен командиром второго взвода второй роты саперного батальона), рассказывая о международном положении и попутно знакомя с бытом пограничников. Быт этот был более похож на рутинную работу: солдаты днем и ночью уходили и приходили, отсыпались, получали наряды на хозработы от скучающих офицеров, что их нисколько не огорчало, и даже наоборот, позволяло отдохнуть от многочасовых маршрутов в полном обмундировании и с боевым комплектом под палящим солнцем.
Появление гражданских (с их точки зрения) несколько оживило службу, разнообразив ее последними новостями из многоцветного мира, в котором жили, не скучая, их родные и любимые, разговорами воспоминаниями и мечтами по дембелю, кому близкому, а кому еще ой какому далекому, и возможностью не экономить на сигаретах.
Спустя неделю в одну из ночей призванных офицеров заставили принимать и везти в голую степь пьяных до невменяемости «партизан», разновозрастных солдат-запасников. И в этой знойной степи под громкий стрекот потревоженных цикад с больными с похмелья солдатушками они разворачивали палаточный городок, в котором еще неделю изнывали от жары, прячась под пологами задранных палаток и спешно собираясь по взводам, когда меж сопками взвихривался жгут пыли, предвещающий прибытие вечно спешащего майора – комбата, чтобы хмуро выслушать традиционную накачку за сбившийся строй палаток, неряшливых солдат, собственное настроение – одним словом, за все, что бросалось в глаза, после чего неизменно следовал приказ усиленно заниматься политической подготовкой и ждать.
Жара сменилась неожиданным похолоданием и дождями, солдаты начали чихать и кашлять, молодые – бегать на неблизкую ферму за самогоном, те, кто отслужил свое пару десятков лет назад, жаловаться на ревматизм, радикулит и прочие хвори – хорошо, что им привезли шинели, которые на пару дней продлили иллюзию сухой и теплой жизни. А еще три дня, пока шел дождь и шинели вобрали столько влаги, сколько могли, солдатики прели в палатках, чтобы при возврате первых солнечных дней занять все подсохшие проплешины шинелями, выпаривая впитавшуюся в них холодную влагу…
Запомнилась эта служба еще и маленьким приключением, о котором, собственно, он и рассказал. Сашкин замполит, младший лейтенант Валера, маленький, жилистый тридцатипятилетний шахтер из недалекого поселка, уговорил его на выходной день смотаться к нему в гости. На попутках они добрались до небольшого, но неожиданно аккуратного и совсем не черного шахтерского поселка. Только устроились за хозяйским столом, как заглянул сосед, высокий (на пару голов выше Сашки), худой и нервный Серега, недавно вернувшийся из мест действительно не столь отдаленных (лагерей в этих местах было предостаточно), где отмолотил «семерик» за давнюю поножовщину на танцплощадке. Ошалевший от свободы, уже изрядно отметивший ее, Серега собирался гулять и дальше и по-соседски поделился этим желанием. Радушный Валера, тоже после пары рюмок ощутивший вкус свободы, его поддержал, отправив недовольную жену к теще.
Они засиделись до утра, отчего на рассвете все трое воспринимали окружающий мир весело и азартно и на Валерином трехколесном мотоцикле поехали на другой конец поселка, куда Сереге надо было позарез явиться к «пахану», доставить нечто пересланное с ним из мест, в которых тот провел без малого «четвертак»…
Пахан оказался маленьким, еще ниже Валеры, и сморщенным старичком, но с колким до неприятности взглядом выцветших, каких-то бесцветных глаз. Они допили за встречу бутылку водки, которая у него была, потом Серега с Валерой покатили в магазин, а хозяин стал рассказывать Сашке свою жизнь. Дойдя до точки, с которой начинался отсчет двадцати пяти лет отсидки, он, для большей наглядности, принес из сарая топор и, багровея лицом, стал размахивать им перед Сашкой, уносясь в те годы, когда Сашки еще и на свете не было, а в этом доме, в этой комнате молодой тогда хозяин-шахтер зарубил сначала подлого друга – любовника его молодой жены (на том самом месте, где сейчас Сашка, злодей и сидел), а потом и неверную жену…
Сашке казалось, что этот рассказ, сопровождаемый матом, всхлипываниями, пьяными слезами и сверканием острого лезвия топора, длился бесконечно долго, и он всяческими вопросами-уточнениями старался оттянуть кульминационную точку рассказа, не спуская глаз с блестящего лезвия, и, когда распахнулась дверь и шумно ввалились Серега с Валерой, обмяк на деревянной лавке (на которой и сидел тогда любовник), обессиленный так, словно только что перекрыл рекорд знаменитого Стаханова…
Но полностью он избавился от наваждения красных, вывернутых в злобе глаз пахана только через пару дней, когда наконец-то комбат привез долгожданный приказ и они среди вновь зазеленевших после дождей сопок начали сооружать командный пункт армии, куда должен был уже через несколько дней прибыть министр обороны со свитой высоких чинов. Автоколонны с элементами блиндажей и укрытий шли теперь непрерывной вереницей днем и ночью, и днем и ночью они рыли котлованы, составляли бетонные элементы, превращая их в подземные дома, засыпали их песком, маскировали пожухлым дерном, и у солдат уже не оставалось сил бегать на ферму – они способны были только добраться до нар и захрапеть, еще не упав на них…
Эти пять дней спрессованного времени и предельной концентрации человеческих сил в конечном итоге оказались не нужны никому, учения вдруг отменили, министр не приехал, так и недостроенный командный пункт с врытыми в склоны бетонными элементами бросили среди сопок…
Сдав обмундирование, штатские офицеры пригласили на суд чести комбата, высказав ему все, что думали о бездарном проматывании народных денег. Тот сначала пытался отстаивать честь мундира, а потом махнул рукой: признался, что ему и самому бардак этот осточертел так, что впору застрелиться, и, прощеный, остался на последнее дембельское застолье для оторванных от гражданских дел инженеров…
А еще Сашка расписал новым знакомым забайкальскую природу (никто из них в Сибири еще не служил): тайгу, сопки и степь да ничем не примечательный, кроме того, что она китайская, вид на ту же степь за пограничной полосой, признав, что здешнее турецкое заречье смотрится гораздо веселее.
А потом они с начальником заставы предались более приятным и объединяющим воспоминаниям о реке их общего, пусть и за сотню верст отсюда, детства…
К месту вспомнился и дядя Саша, брат матери, единственный военный среди родни, который закончил службу подполковником в отставке в мирном Бресте, а перед этим много лет командовал вот такой (а может быть, этой самой?) заставой на советско-турецкой границе. Капитан тут же приказал поднять все архивы, но среди его предшественников Полоцкий не значился, и он пообещал в течение суток выяснить, на какой заставе тот служил. И выяснил: это была далекая от них горная застава – некогда самый напряженный участок границы.
– Не зря твоего дядьку потом в Брест направили, нелегко ему пришлось…
– Майора ему на этой заставе дали, – вспомнил Сашка.
– Вот и говорю, в райские места дослуживать нас просто так не направляют.
Из рассказов дяди Саши о службе, которые довелось слушать, когда с родителями и дядей Семеном еще в его студенческие годы нагрянули к родне в Брест, в маленькую, но уютную квартирку рядом с крепостью, Сашка только и запомнил, что служба в здешних местах была жаркой и нервной…
Эта неделя на пограничной заставе в Армении показалась Жовнеру одновременно и тягучей, и стремительной. Так бывает, когда однообразие окружения чередуется с новизной событий. Застава лицом смотрела на берег быстрой речки, перед которой тянулись высокие проволочные стены с тщательно разрыхленной контрольной полосой между ними, караульными вышками по краям. Вдоль этих стен и ходили пограничные наряды. Сашка тоже вместе с начальником заставы сходил в ночной дозор.
От реки тянуло прохладой. Совершенно мирные звуки: блеяние овец, лай собак, удары металла о металл (может быть, над срочным заказом, несмотря на ночь, работал кузнец-турок), редкий гул машин – доносились с чужой земли. Всматриваясь в пятно от фонарика и боясь пропустить след нарушителя, Сашка шел за начальником заставы, слыша за спиной дыхание старшего наряда и испытывая странное чувство нереальности происходящего, втайне надеясь, что именно в эту ночь шпион наконец-то перейдет границу и все завертится, как в кино… Но взрыхленная полоса была чиста… А наружу просились слова из песни Высоцкого: «…А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты… ». Хотя цветов-то как раз и не было…
…На следующий день он поднялся на вышку над заставой и долго в бинокль разглядывал небогатые домики за рекой, над которыми возвышалась мечеть, откуда утром и вечером доносился зычный и поразительно мелодичный голос муэдзина. В бинокль можно было разглядеть турок, занятых повседневными заботами и отличающихся от тех, кто находился на этом берегу, разве что одеждой. Порой кто-нибудь из них спускался к воде, и тогда из рации доносился искажаемый помехами голос старшего наряда на другой вышке, стоящей возле полосы. Но заставу в ружье не поднимали, и только один раз за всю неделю по сигналу спешно выехала группа перехвата, когда иноземный осел перешел речку и стал приближаться к проволочной стене. Но пока «газик» пылил по иссушенной земле, хозяину, выбежавшему к самой воде, удалось вернуть нарушителя границы обратно.
Дальше за селением над турецкой землей возвышалась вершина горы Арарат – настолько близкая, что человеку с хорошей фантазией несложно было вообразить, что и эта долина, и турецкий поселок на том берегу, и армянский на этом, начинающийся за тыльной стороной заставы и прячущийся среди садов и виноградников, и отроги более низких, чем Арарат, гор некогда были дном моря, над бескрайней поверхностью которого ткнулся в обновленную и очищенную землю ковчег Ноя…
Пацаны жили по армейскому расписанию, опекаемые сержантами ходили в дозоры, несли службу, осваивали кухонные обязанности, занимались физической подготовкой, а Сашка со Славой Дзуговым познавали жизнь офицеров в этой прокаленной долине, избавляясь от зноя и пыли ежевечерней баней, от однообразия буден долгими разговорами за стремительно уменьшающимися запасами коньяка.
Эти разговоры заканчивались далеко за полночь, что, впрочем, не мешало и командиру заставы, и остальным офицерам как положено нести службу, демонстрируя недюжинное здоровье и выносливость.
Для гостей же короткий сон, ранние подъемы и застегнутая на все пуговицы форма казались иезуитской пыткой, которую они с трудом – только по крайней необходимости – выдерживали…
Накануне отбытия приехал не утративший жизнерадостности Арик.
На этот раз он привез с собой комсорга погранотряда и десятилитровую канистру с таким же отменным коньяком, и эта ночь была бессонной, запомнилась мудрыми словами длинных кавказских тостов и долгим прощанием, отчего обратная дорога и Ереван, по которому на этот раз медленно и по специальному маршруту их провезли гостеприимные хозяева, выпали из памяти. Осталось лишь впечатление от горького сожаления экскурсовода, молодой яркой армяночки, об армянской горе Арарат, возвышающейся совсем рядом и все же за пограничной полосой, при том, что она является свидетелем многовековой истории этого древнего христианского народа… (Государство Урарту, развалины Эребуни и сегодняшний Ереван, основанный в 782 году до нашей эры, смотрящий в сторону Арарата, – как не гордиться такой историей…)
В поезде они со Славой отпаивали себя кефиром, крепким чаем и даже не пытались заигрывать с проводницами, предаваясь неторопливым разговорам, сну и ощущая некое объединяющее их родство, которое возникает от совместно пережитого.
Дзугов был похож на Сашкиного двоюродного брата (и тоже ведь Слава!) – такой же уверенный в себе, нравящийся женщинам, ненавязчиво внимательный и корректный. Он совсем не вписывался в типаж комсомольского функционера. К концу поездки Сашка наконец догадался, отчего: у Славы напрочь отсутствовал карьеристский дух, без которого комсомольский лидер был просто немыслим. А отсутствовал он по причине семейного воспитания (единственный сынок в генеральской семье, все получал само собой, без напряжения и усилий), фамильной влиятельности и внешности. Он легко и не особо утруждаясь учился, без медали, но с вполне приличным аттестатом закончил школу, а затем с неплохим средним баллом и институт. Не слишком перебирая, дружил, отчего среди его знакомых были и уголовники, выросшие из друзей по двору, и дипломаты, названивающие ему из жарких африканских стран.
Он охотно позволял в себя влюбляться всем желающим (а таких было немало), не ощущая себя обязанным ни до, ни после каких бы ни было отношений, поэтому уже пару раз был ненадолго женат, уступив натиску наиболее настойчивых поклонниц, правда, без всяких штампов в паспорте. Ушедшие женщины отзывались о нем нелицеприятно, обвиняя в мужском бессилии. Но те, кто еще не утратил надежду на законный брак, были убеждены, что это низкая не более чем недостойная месть…
Сам же Славка признался, что за прожитые четверть века он так ни разу и не влюблялся по-настоящему. Если вдруг и мелькала на горизонте взволновавшая его девушка, то, как правило, крутившиеся подле поклонницы перекрывали все пути сближения.
– Я слабый человек, – признавался он. – Я все время плыву по течению. В школе мама возглавляла родительский комитет, двоек мне не ставили, даже когда уроки совсем не учил и заслуживал. В институте декан хорошо знал моего отца, а принципиальные преподаватели не попадались. В крайкоме, сам понимаешь, главное исправно функционировать, что особых усилий и напряжения серого вещества не требует. От меня ничего не требуется, кроме как просто держаться на плаву. Держаться я научился, а вот смогу ли самостоятельно плыть?..
– Что тебя заботит? – успокаивал Сашка, который от этого признания ощущал свое старшинство еще больше. – У тебя все расписано: станешь заведующим отделом, потом каким-нибудь секретарем, наконец первым… А дальше партийная карьера…
– Я понимаю, – морщился Вячеслав, то ли с похмелья, то ли от этих слов. – Но это меня и не радует…
– А чего ты хочешь?
– Влюбиться… Так, чтобы на коленях перед ней ползать…
– Ну, Славик… – Сашка даже растерялся от такого признания. – Влюбиться, согласен, стоит… А ползать зачем?
– Чтобы не ушла…
И на этот раз Сашка не нашелся, что сказать…
Прощаясь, договорились, что будут встречаться не только по делам.
– В вашей редакции у меня теперь два друга, – сказал Славка, – Витя Красавин и ты. Надо бы как-нибудь втроем посидеть…
– Надо, – согласился Сашка и предложил не затягивать с осуществлением намеченного.
Но то, что казалось легко осуществимым под ритмичный перестук вагонных колес, вдали от каждодневной суеты, на деле все откладывалось и откладывалось.
Сначала Сашке надо было отписаться за командировку, наверстать упущенное в отделе (хотя Смолин и старался, но явно опыта ему не хватало), разделаться с накопившимися долгами по авторским материалам. В конце недели Славка позвонил и предложил посидеть втроем в кафе в выходные, но в пятницу Сашка отпросился у Заворотнего пораньше (за две недели соскучился по жене и дочке) и сразу после обеда уехал в Черкесск.
Думал, эти дни проведут втроем, наслаждаясь самым приятным обществом любящих и любимых людей, но не получилось: Леша Ставинский в субботу пригласил на премьеру дискотеки, а бывший условный начальник Адам попросил «не в службу, а в дружбу» встретиться с членами литобъединения, пожелавшими обсудить свои новые творения.
Так один выходной и пролетел: сначала на литобъединении, которое активно помогал вести Ставинский, хвалили и ругали друг друга за удачно и неудачно найденные сюжеты и стихотворные строки, а потом все вместе пошли на дискотеку, чтобы после феерического и весьма оригинального действа, сочетающего текст (Сашке не стыдно было за свой сценарий), игру доморощенных актеров и современные музыкальные композиции, в маленькой комнатке на задворках клуба, попивая вино, обсудить премьеру, азартно поспорить о вкусах и наконец, когда уже никто никого не слышит, прокричать собственные стихи…
Из-за субботы и воскресенье прошло не так, как ожидалось. Елена молчала, демонстрируя обиду, и только к вечеру ему удалось добиться прощения, которое окончательно закрепилось уже глубокой ночью после страстных ласк и признаний в любви…
…В понедельник, уже в Ставрополе, он решил узнать о судьбе своей рукописи, сданной для публикации в альманахе. Нежный женский голосок на другом конце провода попросил подождать «одну минуточку», но эта минуточка затянулась на добрых пять, наконец уже другой, менее учтивый мужской голос сообщил, что в ближайшее время ему будет дан письменный ответ. Он не стал уточнять, уже догадываясь, какой именно, и попросил прислать письмо на редакцию.
Письмо пришло к концу недели, и в нем, совсем коротком, начинающемся словами «к сожалению» (сам с этой фразы обычно начинал ответ юным стихотворцам и престарелым графоманам, которые постоянно слали свои сочинения в газету) и подписанном главным редактором альманаха, сообщалось, что повесть не может быть опубликована по причине «не подходящей тематики и неверного отображения советской действительности»…
«Неверное отображение» его очень обидело. Он разыскал номера телефонов и позвонил руководителям семинара, рекомендовавшим повесть к публикации, двум известным и авторитетным в крае прозаикам. Оба высказали удивление таким ответом и пообещали поговорить с главным редактором, а если необходимо, написать положительные рецензии.
Переложив эту заботу на плечи других, он с азартом взялся за работу, завалил Кантарова подготовленными для публикации письмами, сдал свой очерк о поездке, который тут же вышел и был отмечен как лучший. Неделя пролетела незаметно.
На этот раз он замечательно провел выходные в семейном кругу.
И Елена была ласкова и нежна, и Светка не болела и не огорчала.
Следующая рабочая неделя началась с небольшой стычки с Кантаровым по поводу заметки Смолина. На этот раз Жовнер отступать не хотел, и Кантаров это понял – упираться не стал и заметку в газету поставил.
За текущими делами Сашка почти забыл о повести, но писатели оказались людьми обязательными и до конца недели позвонили оба, правда, с одинаковым сообщением, что редактор почему-то уперся и они никоим образом повлиять на него не могут, а рекомендация совещания, увы, не является обязательной для исполнения…
Жовнер огорчился от такого необъяснимого разночтения его повести уважаемыми писателями и каким-то редактором, хотел сначала сам сходить к нему, но, перечитав ответ еще раз, понял, что это ничего не даст, и от такой безысходности вдруг начал писать роман.
Теперь день у него делился на две неравные части. Первая, маленькая, выпадала на утро, до того как редакция заполнялась сотрудниками (он приходил на час-полтора раньше), и на обеденный перерыв (перекусывал бутербродами или пирожками), когда он писал роман, и остальная, большая, занимавшая все остальное время и заполненная всякими, менее приятными событиями.
Пока отписывался и приходил в себя после командировки, редакционные интриги его не задевали. Но потом, хотя и старался этого избегать, он все же столкнулся с Кантаровым. К материалам самого Жовнера тот относился лояльно. А вот к тому, что писал его сотрудник, был беспощаден и, как считал Сашка, часто несправедлив. В конце месяца он демонстративно вернул Сашке все письма, подготовленные Смолиным, с едким замечанием, что в обязанности заведующего отделом входит не только написание собственных материалов, но и работа с корреспондентами.
Он официально, через Олечку, попросил Сашку зайти к нему, изрекал все это тоном прокурора, уверенного в своей правоте, излагающего истину если не преступнику, то уж, несомненно, его подельнику. Все это время дверь в кабинет была открыта, и на его зычный голос не преминули заглянуть любопытствующие – в первую очередь улыбающаяся Селиверстова и не сумевшая скрыть удивления Марина, чей кабинет находился рядом.
Жовнер молча выслушал обличительную тираду и, ни слова не говоря, вышел. Вернувшись к себе, стал просматривать письма.
Кантаров, не удовлетворенный такой реакцией, пошел по редакции и, наконец, вылил не растраченное раздражение в кабинете Кости Гаузова, хоть и не талантливого, но работящего хроникера, исправно освещающего все спортивные события. Тот пытался защищаться, что еще больше распалило ответственного секретаря, и он зашел к Березину, там наговорил кучу гадостей.
Его голос раздражал и отвлекал, и Сашка, демонстративно захлопнув дверь, стал просматривать подготовленные Смолиным письма, не нашел ничего, что явно бросалось бы в глаза и требовало редактирования, разве что несколько лишних слов. Подбодрил сжавшегося за своим столом сотрудника, заметив, что не понимает, почему Кантаров вернул подборку, и пошел к редактору.
Заворотнего на месте не было. Олечка интригующе молчала, не сообщая, где он может быть, и только намекнула, что, вероятнее всего, того уже до конца дня не будет. Жовнер зашел к заместителю редактора Кузьменко.
Он был самой незаметной в редакции фигурой, редко выходил из своего кабинета, а основной его обязанностью была вычитка газетных полос, и единственные, кому он регулярно устраивал разносы, были корректоры, потому что Женя Кузьменко всегда находил если не орфографические, то синтаксические ошибки. Его грамотность, эрудированность и хороший литературный вкус были теми самыми китами, на которых держался его авторитет. Первое время Сашка задумывался, почему, являясь вторым человеком в редакции по должности, Кузьменко практически остается постоянной «свежей головой» и никак не влияет на рабочий процесс. Потом понял, правда, не без подсказки Красавина, что именно это поведение отстраненного советчика в конфликтах и миролюбивая позиция по отношению и к правым, и к виноватым на заседаниях редколлегии, когда он предлагает тот или иной компромисс конфликтующим сторонам, и позволяют Кузьменко слыть человеком пусть и не очень заметным на своем месте, но необходимым в редакции. К его оценкам прислушивался в свое время Белоглазов, который, собственно, и поставил его заместителем (прежде Кузьменко заведовал отделом писем) и, насколько было известно, поддерживал со своего нового, влиятельного места. Зная это, Заворотный последнее время тоже не торопился высказывать свою точку зрения, предоставляя право первым высказаться заму…
Кабинетик у зама – маленький, заваленный книгами. Они стопками высились на двух свободных стульях, на подоконнике и даже на полу возле батареи, не говоря уж о заполненном до предела небольшом книжном шкафу. Это были его личные книги. Преобладали справочники и новинки, которые регулярно появлялись и после прочтения всеми желающими исчезали в большой серой плечевой сумке, с которой Кузьменко не расставался. Чаще всего сотрудники редакции в выходные дни натыкались на него в букинистическом отделе Дома книги, где у Евгения были свои, скрытые от посторонних отношения с продавцами.
Еще одна его страсть тоже не была ни для кого тайной: в кабинете на отдельном маленьком столике рядом с окном всегда стояла шахматная доска с незавершенной партией или же с очередным этюдом из журнала «Наука и жизнь», каждый номер которого тот прочитывал от корки до корки. Партия, как правило, доигрывалась в обеденный перерыв или же после работы, а над этюдами Кузьменко позволял себе размышлять в рабочее время, и, хотя об этом все знали, замечаний по этому поводу ему никто не делал.
Постоянным его партнером в шахматной игре был Олег Березин.
Когда тот уезжал в командировки, Кузьменко охотно играл с Костей Гаузовым. Все остальные, за исключением Кантарова, с которым он периодически сражался, пока тот был заведующим отделом, оказались слишком слабыми для него соперниками, но каждого вновь появляющегося сотрудника он с откровенным азартом и неиссякаемой надеждой обязательно испытывал на шахматную состоятельность.
Сашка в свое время такую проверку выдержал и даже заслужил похвалу, хотя выиграл всего одну партию из пяти, но от последующих приглашений отказывался, ссылаясь на занятость даже в перерыв…
…Он положил перед Кузьменко подборку писем, сказал, что редактора сегодня не будет, поэтому вынужден обратиться к нему.
Коротко изложил: Кантаров заявляет, что отдел срывает плановый выход полосы, Сашка же считает, что подборка подготовлена, переписывать и переделывать ничего не нужно.
Кузьменко хотел было что-то сказать но, взглянув на Жовнера, пообещал сейчас же, не откладывая, просмотреть.
Сашка заглянул к Красавину, хотел поинтересоваться, не изменились ли у него отношения с Кантаровым, но тот проводил оперативное совещание со своими корреспондентами, и Сашка пошел к себе, сожалея, что еще не обед и уходить ему в рабочее время без очевидной причины не следует. Он лишь отправил поникшего и не способного ничего делать Смолина в краевую библиотеку, срочно придумав ему задание.
Через полчаса зашел Кузьменко, источающий миролюбие, и сообщил, что на этот раз Кантарова он убедил, тот уже рисует полосу, но в какой-то мере требования ответственного секретаря вполне обоснованы. Письма нельзя, конечно, переписывать, но работать с ними необходимо, надо подходить к делу творчески.
– У меня в свое время была задумка делать тематические подборки, – признался он. – Это было бы интересно читателю и выявляло бы назревшие проблемы.., – оглядел кабинет и с явно сожалеющими нотками в голосе продолжил: – Я ведь почти два года в этом кабинете отсидел…
– Нравилось? – спросил Сашка, вполне удовлетворенный таким разрешением конфликта.
– В письмах хорошо видно, чем живет общество, – уклончиво отозвался тот. И неожиданно добавил: – Может партейку?
– Занят, – провел рукой у горла Жовнер. – Подборку по комсомольскому шефству над детскими домами собираю…
– Будет желание – заглядывай, сразимся…
И пошел по коридору, неся мягкую улыбку и, казалось, несмотря на свой рост, совсем не занимая места…
Вошел Красавин.
Он опять куда-то спешил.
Поинтересовался:
– Ты что-то хотел?
– Уже нет, – не стал объяснять ничего Сашка. И, глядя на очевидно не поверившего Красавина, добавил: – Давно не общались, поговорить хотел.
– Это точно, надо бы кое о чем перекалякать.. Давай на следующей неделе выберем время. Посидим, потреплемся не торопясь… Кстати, Слава Дзугов тебе привет передавал. Я только что с ним по телефону разговаривал. Тоже не против посидеть. Может втроем?
– Можно и втроем, я «за».
– Так и передам, я сейчас к нему бегу.
…Но выбрать паузу в будние дни так и не удалось ни на следующей неделе, ни через одну… То у одного командировка, то у другого, а Дзугов вообще из районов не вылезал, готовил отчетно-перевыборные конференции. Можно было, конечно, встретиться в выходные, но ими Сашка жертвовать не хотел, в пятницу на последнем автобусе, а то и на попутках торопился к семье, на два дня отключаясь от забот.
Как правило, они втроем (Светланку уже можно было брать с собой) уезжали в Теберду или в Архыз – красивые долины вдоль быстрых горных рек с хрустально прозрачным и бодрящим именно в это время яркой осени воздухом, в котором снежные вершины Кавказского хребта казались совсем близкими. В речках водилась осторожная форель, охота на которую была непростой и увлекательной (Сашкина страсть), леса радовали изобилием грибов (слабость Елены), а все вместе (пойманная рыба и найденный гриб) приводили в безудержный восторг Светлану, за которой нужен был глаз да глаз…
Дни эти пролетали стремительно, сжимаясь в неповторимые мгновения, насыщенные и сожалением об их краткости, и желанием надолго сохранить в памяти очищающую энергию радости единения с окружающим миром и любви к нему, друг к другу, ко всем знакомым и незнакомым людям…
А потом разноцветье стало желтеть, превращаться в золото, устилать улицы, шуршанием напоминая о приближающейся зиме, летняя суета отступала в прошлое – прекрасная пора (не зря у Пушкина была Болдинская осень!), время недолгой остановки, оценки того, что уже прожито, и определение планов на будущее…
В это время неплохо писалось.
Сашка приходил теперь на работу как можно раньше, перенеся завтрак из общежития в кабинет, и в течение полутора-двух часов жил со своими героями совершенно в ином мире, где уже вовсю лежали снега и трещали нешуточные морозы, а его герои в череде важных дел старались найти ответы на непростые и совсем не актуальные (а кое в чем запретные) для большинства вопросы…
Когда начинали греметь шаги по коридору, он нехотя возвращался в действительность, в которой первым, как правило, появлялся Кантаров, приходивший на полчаса раньше и в обязательном порядке обходивший все кабинеты, словно ожидая найти за закрытыми дверями нечто непозволительное.
– Творишь? – догадливо изрекал он.
На что Сашка сначала согласно кивал, но после того как тот на редколлегии совершенно серьезно заявил, что Жовнер занимается графоманией в ущерб своим обязанностям, стал рукопись закрывать или газетой, или письмом и делать вид, что уже весь в рабочем процессе…
С Кантаровым, несмотря на все Сашкины попытки, отношения не сложились, помирить двух умных и талантливых людей – Красавина и Кантарова, как он надеялся, не получилось, дружить же он предпочел с Красавиным, что привело к натянутым отношениям не только с Кантаровым, с Селиверстовой и ее подчиненными. И неожиданно для него с Олегом Березиным, который держался в редакции довольно независимо (он был секретарем партийной организации). Жовнер предположил, что подобное охлаждение наступило не без участия Марины…
Иногда вторым в редакции появлялся Красавин, который предпочитал писать в одиночестве и относительной тишине. Дома, хотя он и получил уже двухкомнатную квартиру, уединиться не позволяли дочь и жена, поэтому он допоздна задерживался по вечерам, а если не успевал закончить, на следующее утро дописывал. Обычно он стремительно пробегал по коридору и заходил к Сашке только после того, как заканчивал материал, удовлетворенный, хитро улыбаясь, уверенный в себе. Они обменивались необязательными репликами о том, что надо бы обсудить ситуацию в редакции, но все никак не могли выкроить время, да и настроиться на явно назревший разговор.
…В тот уже по-настоящему осенний день, пронизанный прохладным ветерком, загоняющим в тупики желтые одинокие листья, Жовнер тоже пришел раньше остальных, но новость узнал, когда уже коллеги ходили с сосредоточенными и серьезными лицами, а начальствующая тройка и Красавин спешно были вызваны в крайком партии.
Ближе к обеду телетайп начал выстукивать первые лаконичные строки сообщения о кончине Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, и новость из разряда слухов перешла в свершившееся событие.
В редакции повисла гнетущая тишина, которую все почему-то боялись нарушить неосторожным словом. Она была столь томительна, что Сашка вышел на улицу, но и там пешеходов и машин было меньше, чем обычно. Он специально прошел вверх и вниз по проспекту, вглядываясь в лица, стараясь разгадать, какие мысли по поводу случившегося те скрывают, но они все были на удивление безэмоциональными.
Красавин, вернувшийся с безразмерного заседания в крайкоме и теперь строчивший печальные отзывы трудящихся, высказался с неуместной улыбкой, что ничего страшного в происшедшем не видит, все смертны, все уходят рано или поздно, главное теперь – кто придет.
– Страна ждет… – бодро произнес он. И добавил с улыбкой тайного знания: – Мы в начале больших перемен…
– В редакции? – уточнил Жовнер.
– В стране, – ответил тот. – Закончилась эпоха маразма.
– Ты думаешь, его сменит кто-нибудь моложе?
– Надеюсь, не совсем же там наверху выжили из ума… Посмотрим, кто возглавит похоронную комиссию… Тот, вероятнее всего, и станет преемником… Сегодня-завтра все узнаем… Вперед, коллега, строчи отзывы, приближай перемены…