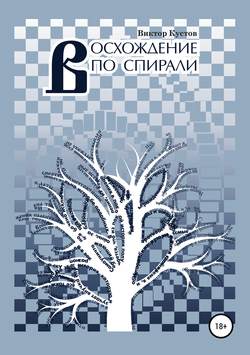Читать книгу Восхождение по спирали - Виктор Николаевич Кустов - Страница 3
Противостояние богов
2
ОглавлениеПришло время править Игорю. В это время он уже зрелый мужчина.
В 903 году он женился на Ольге, варяжского простого рода из-под Пскова.
На престол он восходит не столь верным своим древним богам, идеи христианства уже повлияли на него. И, усмирив древлян, а затем повоевав против печенегов, он решает восстановить утраченную веру через очередную военную победу. Тем более, что в эти годы с греками успешно воюют и болгары, и угры. Подобный шаг естественен, перед его глазами удачный военный опыт Олега. Но у него не было прежней веры ни в Перуна, ни в Волоса. И поход на греков в 941 году обернулся поражением на море, «выслан был против… протовестиарий Феофан, который пожёг Игоревы лодки греческим огнём», а затем дружина была разбита и на суше. Вернувшиеся из этого похода оправдывались тем, что у греков «чудесный огонь, точно молния небесная»… Таким образом вновь бог христианский оказался могущественнее.
Это было поражение не только войска, но и богов, и оно требовало реванша, утверждающего незыблемость веры и власти. И через три года Игорь вновь вышел в море с многочисленным войском и на этот раз испугал императора: тот предложил откупиться данью.
В 945 году был подписан новый договор, он заканчивается словами: «Сии условия написаны на двух хартиях: одна будет у Царей Греческих, другую, ими подписанную, доставят Великому Князю Русскому Игорю и людям его, которые, приняв оную, да клянутся хранить истину союза: Христиане в соборной церкви Св. Илии предлежащим честным крестом и сею хартиею, а некрещённые полагая на землю щиты свои, обручи и мечи обнажённые».
Таким образом славянами признаётся значение креста как гаранта союза.
«На следующий день призвал Игорь послов и пришёл на холм, где стоял Перун; и сложили оружие своё, и щиты, и золото, и присягали Игорь и люди его – сколько было язычников между русскими». – это из «Повести временных лет».
Но даже «Великому Русскому Князю» ничто человеческое не чуждо, он всё же остаётся язычником, но уже сомневающимся, не надеящимся на своих богов. Он уже без веры, а значит без смысла жизнедеятельности. Разуверившись в старых истинах и не обретя новых, тем самым утратив духовную опору, князь Игорь утрачивает и понимание своего предназначения, уступив искушению богатством и обирая своих подданных. Он был жестоко убит дружинниками во главе с князем Мала под Коростенем в 945 году (привязав к двум деревам, его разорвали надвое), когда «ходил в дань» (то есть собирал налоги) к древлянам.
Княжеский трон занял сын Святослав Игоревич, но фактически правила жена Игоря Ольга.
После смерти мужа она должна была доказать непреложность закона «око за око». Что же касается древлян, то они увидели выход в возникшем противостоянии с Киевом в брачном союзе князя Мала и Ольги. Подробности перипетий сватовства и убиения послов Мала, а затем разгрома дружины древлян, сожжение Коростеня, изложены подробно в «Повести временных лет». Там же приведены и разные объяснения причин подобной мести. Но важно другое, незамеченное исследователями: убийство не только виновных в смерти мужа, но и невинных поселян должно было стать и стало тяжким грузом на душе Ольги.
С. М. Соловьёв отмечает, что, отомстив, «Ольга с сыном и дружиною пошла по их земле, установляя «уставы и уроки»… Под именем «устава» должно разуметь всякое определение, как что-нибудь делать; под именем «урока» – всякую обязанность, которую должно выполнять к определённому сроку…»
Но нравственный груз, который не могла снять вера предков, заставил её обратиться к более сильной, как уже считали многие, религии – христианству. Именно это желание покаяться в содеянном стало причиной, по которой она отправилась в столицу греческой империи.
Пребывание Ольги в христианской столице в 955 (или 957) году подробно описано даже с упоминанием даров и обедов, но нет описания самого главного, того, что она пережила, приняв крещение. А ведь именно это духовное перерождение стало самым сильным ощущением и важнейшим событием не только для неё, но и для Руси. Ольга становится первым проповедником православия такого ранга и всячески убеждает сына Святослава принять новую веру. Мудрый правитель, какой она предстаёт в истории, неразумно подбивает сына на фактическое самоубийство, ибо принять христианскую веру означало бы предать веру большинства подданных, тем самым утратив их поддержку.
Святослав это понимает: «Могу ли один принять новый закон, чтобы дружина моя посмеялась надо мною?». Но он, в отличие от своего отца, терпим к новой вере, не презирает христиан, не запрещает им креститься.
Этот год становится годом начала тех серьёзных мировоззренческих перемен, которые приобретают уже явные исторические очертания.
Теперь в формирующемся государстве сосуществуют две религии, проповедуемые первыми лицами. И вполне объяснимо стремление Святослава не жить в Киеве, где правит Ольга и христианство обрело силу. Свои быстрые походы без отягчающего обоза он начал с покорения вятичей, плативших дань хазарам, взяв их главный город на Дону Белую Вежу, а затем завоевал и разграбил Итиль.
После восточного похода в 967 году он отправился в Болгарию, завоевал её и остался в Переяславле (Преслав), редко бывая в Киеве. «Сказал Святослав матери своей и боярам своим: Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мёд и рабы».
С. М. Соловьёв это высказывание комментирует так: «Это выражение может быть объяснено двояким образом: Переяславец в земле моей есть серединное место… как средоточие торговли. Второе объяснение нам кажется легче: Святослав своею землёю считал только одну Болгарию, приобретённую им самим, Русскую же землю считал по понятиям того времени владением общим, родовым».
Версия правдоподобная, но она лишь следствие, причина же нежелания жить в Киеве – в неспособности жить по «новому закону», поэтому даже после кончины матери в 969 году он решает окончательно перебраться в Переяславль, где не имеет столь сильного духовного и религиозного противостояния.
Он наделяет уделами своих сыновей: Ярополка – Киевом, Олега – землями древлян, а Владимира, его сына от ключницы Ольги Малуши, избирают своим князем новгородцы, которые продолжают традицию приглашения чужих к управлению. Эта традиция, как и в случае с Рюриком, скорее всего базируется на стремлении сохранить равенство собственных лидеров и семейных кланов, на опасении, что усиление власти одного, изначально равного среди равных, нарушит баланс сил и сложившуюся форму управления. «В то время пришли новгородцы, прося себе князя: «Если не пойдёте к нам, то сами добудем себе князя». И сказал им Святослав: «А кто бы пошёл к вам?». И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: «Просите Владимира».
Малуша, мать Владимира, была сестрой Добрыни.
Это выдержка из «Повести временных лет» не раскрывает, желанен ли был новгородцам именно Владимир, но, исходя из той же традиции, он вполне отвечал их чаяниям, так как был незаконнорождённым, а значит, должен был желать независимости от великого князя, то есть стать своим среди чужих.
Но осуществить свою мечту – основать новую столицу – Святослав не смог, печенеги осадили Киев и он вынужден был вернуться. После того, как он отогнал их от города и заключил мир, снова отправился в Переяславец. Но здесь его уже не ждали и город пришлось брать приступом. Надежды на спокойную жизнь не оправдались, здесь тоже набирало силу христианство и он объявил войну грекам, главным носителям новой веры.
Он был противоположностью матери не только в вере, но и в понимании воинского искусства, выбрав в отношениях с врагом вместо хитрости честность, уведомляя неприятеля словами: «Иду на вас!» На вопрос греков сколько у него воинов назвал двадцать тысяч, увеличив количество вдвое, но греки собрали стотысячное войско. Видя неодолимую рать, Святослав обратился к своим воинам со словами: «Нам некуда деться, волею и неволею пришлось стать против греков. Так не посрамим Русской земли, но ляжем костями, мёртвым не стыдно; если же побежим, то некуда будет убежать от стыда; станем же крепко, я пойду перед вами, и если голова моя ляжет, тогда промышляйте о себе».
И он выиграл эту битву и пошёл на Константинополь и получил дань. Но воинов, чтобы удерживать добытую победу было мало и он заключает мир с греками, по которому обязуется не воевать греческих областей и даже во время войны принимать сторону греков.
Историками отмечается, что Святослав был великодушен и веротерпим до 971 года, но после этого поражения изменился и даже послал в Киев приказ сжечь церкви и обещал по возвращении «изгубить» всех русских христиан, что вызвало бегство от него воинов-христиан во главе с воеводой Свенельдом.
В 972 году на днепровских порогах печенеги напали на ладьи возвращавшихся дружинников. Святослав пал в этой битве. Князь печенегов Куря из черепа князя сделал чашу.
Летописцы сообщают, что предупреждение о засаде печенегов Святослав получил и даже перезимовал перед порогами, но затем, вместо того, чтобы последовать советам и пойти пеши, отправился далее на ладьях более уязвимым путем. Мотивацией подобного поведения может быть только желание укрепиться или окончательно разочароваться в вере предков. Кроме того, Святославу некуда было теперь идти: новая столица оказалась негостеприимной, а возвращение обратно розданных сыновьям уделов уже было невозможно. Вероятнее всего, что отправляясь на свою последнюю битву, он исходил из того, что должен вернуться в Киев только победителем. Подобная мотивация основывается на его прежнем поведении, ибо «мёртвым не стыдно!»