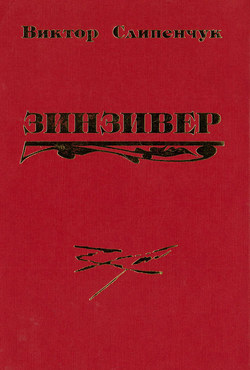Читать книгу Зинзивер - Виктор Слипенчук - Страница 7
Часть первая
Глава 6
ОглавлениеВ автобусе я сидел в углу, и мне никто не мешал предаваться радужным мечтам. Подкожные деньги тоже не беспокоили. Зато когда я сошел с автобуса и ходьбой невольно расшевелил их, то меня до того раздуло, что возле магазина на меня стали оглядываться, а несколько молодых людей (стояли кружком – разговаривали) стали друг друга спрашивать обо мне так громко, чтобы я услышал:
– Откуда он взялся?! Куда пошел этот матрас?!
Я поспешно скрылся в подворотне и стал пробираться к общежитию, минуя натоптанные тропки. В самом деле, я себя чувствовал как бы внутри соломенного матраса. Деньги до того разволновались и под рубашкой, и в брюках, что я просто вынужден был расстегнуть пиджак и приподнять руки. Не знаю, каким чудищем я выглядел со стороны, но точно помню, что ощущал себя какой-то хищной птицей наподобие рассерженного коршуна.
В общежитие проник незамеченным (к счастью, задняя дверь была незаперта). На площадке нашего этажа опять встретился загадочный молодой человек, который почему-то взял за правило при встрече обязательно отворачиваться от меня, становиться лицом к стене. Он и на этот раз отвернулся и стоял как истукан, пока я не вошел в коридор. Потом я услышал быстрый-быстрый стук каблуков, он словно скатывался по лестнице. «Странный, весьма странный тип», – подумал я о нем и где-то в глубине души порадовался его правилу – мое подобие хищной птице осталось при мне.
В коридоре было темно и пустынно. Я включил свет. Неоновые лампочки в большинстве отсутствовали, а те, что светили, исчезающе вспыхивали, словно от встряхивания. В их обманчивом свете любой человек, идущий по коридору, воспринимался прыгающим кенгуру – либо большим, либо маленьким. Все другие внешние отличия утрачивались. Я потому и включил неоны, что лучшую светомаскировку вряд ли можно было придумать. Но и она полностью не исключала распознавания. Слух у жильцов настолько обострился, что все мы узнавали друг друга по шагу, покашливанию и другим звуковым приметам.
Когда шел по бесконечному коридору, позади меня по обе стороны открывались двери и слышались перешептывания, глохшие в шаркании моих штанин, – уточняли, я это, литератор Митя, или не я. Меня несколько удивило столь единодушное любопытство, но я отнес его на соломенный шорох шагов, который все же был непривычным для их обостренного слуха.
Дверь в нашу комнату была распахнута настежь.
– Розочка… Розария Федоровна, – позвал я, представляя, как она выбежит и, быть может, бросится мне на шею (ее действия всегда были непредсказуемы).
Ответом было эхо, коротко отскочившее от голых стен. Я подумал, что спутал комнату: ни книжного шкафа, ни телевизора, ни холодильника, ни шифоньера, ни стульев даже – ничего. «Лишь стол и книги, и те у двери, как бы в насмешку, свалили на пол с бельем каким-то вперемешку. Ушла хозяйка – зачем интриги? Ушла хозяйка…» – писал я когда-то в одной из своих студенческих пьес. Теперь слова эти вдруг вспомнились с такой отчетливостью, что вздрогнул, боясь поверить в их пророческий смысл.
Я выбежал в коридор, чтобы удостовериться, – глянул на номер на двери, но еще прежде по обилию скачущих ко мне «сумчатых» понял: пророчество свершилось, это была наша, наша с Розочкой, комната, и она была пуста.
Я стоял и ждал. То есть ничего и никого не ждал, а стоял потому, что чувствовал какую-то болезненную размягченность во всем теле, особенно в коленях. И еще чувствовал подташнивание и какое-то обморочное головокружение. Я стоял, потому что боялся, что, сделав шаг, сползу по стене на пол и буду сидеть у пустой комнаты в коридоре и это будет смешно. Мне не хотелось быть смешным. Вдруг поразился меткости сравнения – ватные ноги. Тот, кто первым сказал о слабости в коленях и ватных ногах, безусловно, был гением. И еще припомнился педагог из Литинститута, утверждавший, что пророческие слова обладают магнетизмом – притягивают жизнь, и она уже совершается по Слову. Господи, как мне хотелось тогда писать пророческие стихи, указывать самой жизни, как ей надо правильно эволюционировать. Скажу откровенно, я всегда сомневался, что смогу написать что-то подобное. И вот написал, накликал беду на свою голову. В ту минуту я готов был отдать все свои настоящие и будущие пророчества и в придачу все пророчества мира только за то, чтобы Розочка была со мною, а случившееся предстало не более чем сном или каким-то нелепым, вполне исправимым недоразумением.
Между тем жильцы приблизились, но не вплотную, остановились на расстоянии, перекрыв коридор живой стеной, точно плотиной. Наш пятый этаж числился у комендантши семейным, хотя в нем проживало довольно много холостяков, в основном разведенных. Они стояли в первом ряду, и именно они, когда я покачнулся в их сторону, разом откачнулись от меня и разом же стали рассказывать, как все произошло и происходило. В их восклицаниях, репликах, оценках, полных неподдельного сочувствия, я не улавливал никакого сочувствия. Напротив, чем больше они сокрушались, припоминая, как она, стерва, сидела в углу на стуле, а четыре кавказца с Петькой Ряскиным, неумытые носороги, пробегали с мебелью по коридору, тем наглядней проскальзывала их какая-то неудовлетворенная зависть к этим неумытым.
– В пять минут, гады, растащили комнату. А она потом, стерва, поднялась со стульчика и так вместе со стульчиком и ушла за ними.
– Она не стерва, она моя жена! – крикнул я неожиданно тонким, сорвавшимся на фальцет голосом и ладонями закрыл уши.
Честно говоря, я уже никого не видел и не слышал, я даже не понимал, зачем стою и как будто выслушиваю и вглядываюсь в дергающиеся лица жильцов. Ничего подобного. В обманчивом свете неона никого в отдельности я не узнавал. Жильцы слились для меня в какое-то многоликое существо, которое во всем соглашалось со мной, и хотя я теперь молчал, все равно мое общение с ним как будто ни на секунду не прерывалось. Это было так странно чувствовать и понимать, что я отнял ладони. Существо действительно соглашалось со мной, и теперь в его голосе преобладали женские нотки.
– Так-так, комендантша сказала, что Розочка его законная жена и раз она решила свезти совместно нажитые вещи – никто ей не указ. Потом через суд супруги сами разберутся. Ему же, Слезкину, она хоть сейчас согласна выдать комплект белья и все, что полагается. У нее только кроватей приличных нет, а все остальное – пусть спустится к кастелянше и получает.
– А кто такой Ряскин? – спросил я.
Мне почему-то подумалось – уж не тот ли это молодой человек, который взял за правило при встрече со мной отворачиваться? (Так и есть, без всякой подготовки – в яблочко.) Оказывается, Петька Ряскин когда-то жил в общежитии, а перед самым моим появлением принес от Розочки записку, которую положил на стол.
Господи, вот оно в чем дело! Не помня себя, я вбежал в комнату и трясущимися от нетерпения руками стал шарить по столу. Потом догадался включить настольную лампу. Записка была вставлена в утюг. Ее уже известное содержание: «Не ищи – не найдешь, я сменила паспорт и фамилию», помнится, поразило меня настолько, что я никак не мог взять в толк, для чего она сменила паспорт и фамилию. Когда же смысл прояснился, я до того вдруг устал, что как стоял посреди комнаты, так посреди комнаты и лег на спину. Тут только я вспомнил о подкожных деньгах – лежать на них было мягко, действительно как на соломенном матрасе. Единственное, что вносило дискомфорт и даже раздражало, – присутствие многоликого существа, которое обло, огромно, стозевно втиснулось следом за мной в комнату и, несмотря на мои молчаливые протесты, продолжало общение на каком-то подсознательном уровне. Во всяком случае, я безошибочно знал, что существо прежде меня досконально ознакомилось с запиской и ждет от меня какого-то важного, но сугубо конкретного решения. Именно ожиданием объяснялась его заботливость, с какою были доставлены в комнату кровать, столешница теннисного стола, матрас, одеяло, чистое постельное белье и даже четыре граненых стакана на кухонной табуретке.
Я улыбнулся, точнее, внутри меня улыбнулась моя боль, еще точнее – душа, вдруг уставшая от непосильных трудов, которыми она надеялась возместить потерю Розочки. Непонятно?! Смешно?! «…О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами…» «…О, лебедиво! О, озари!» Не знаю, понял бы меня в эту минуту Велимир Хлебников или нет, но я как дважды два понял его так называемые заумные стихи, которые прежде считал для себя недоступными. «…Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо».
Я улыбнулся, но ничто не выказало моей улыбки, как лежал, как бы в матрасовке с деньгами, так и продолжал лежать, закинув руки за голову. Я остекленело смотрел в потолок, а многоликое существо уже не просто общалось, а увещевало и уславливалось, какое именно мое решение было бы для нас обоих наиболее приемлемым.
Что-то, замаскированное в белье, металлически звякнуло и твердо стукнуло, аккуратно поставленное в угол, за развал книг. Потом дзынькнули стаканы. «Четыре стакана, четыре цветочка. В любви интригана синильная строчка». «Ну уж этому своему пророчеству ни за какие шиши не позволю указывать самой жизни», – возмущенно подумал я и резко поднялся на ноги.
Верхняя пуговица на сорочке, как и предвидел ветфельдшер, отскочила и, стукнувшись об пол, подпрыгивая, простучала, точно дробинка.
– Уматывайте, все уматывайте и забирайте свои стаканы, – сердито сказал я и невольно по-коршунски приподнял руки, словно крылья.
Многоликое существо распалось на три вполне знакомые личности, которых все женщины нашего общежития, в том числе и Розочка, иначе и не называли, как алкашами с телевизионного завода.
Один из них, по кличке Двуносый, довольно тщедушной наружности, но с длинным-предлинным носом на весьма маленьком лице, в отличие от своих товарищей, был разведенным трижды. О нем ходила веселая молва, что столько же раз он стрелялся на глазах у своих бывших жен. Высказывалось подозрение, что стрелялся он холостыми патронами. Однако его поступки так часто приводили всех в замешательство, что его не то чтобы побаивались – не хотели с ним связываться. Двуносый знал об этом и умело этим пользовался как дополнительным преимуществом. Кстати, и разговаривал он как-то ненормально. Уставится птичьим носом между глаз, а потом при каждом слове так отдергивает голову, что кажется – он не разговаривает, а долбит собеседника по лбу.
На мое требование «уматывать» он, приотстав от своих товарищей, кисло-кисло сморщился, отчего нос еще больше выдвинулся вперед.
– Эх ты, мы пришли с сочувствием, – отстучал Двуносый, подергивая головой. – Думали, ты человек, а ты – Митя! Что будешь делать без нас? – неожиданно спросил он, словно мы были давними друзьями.
– Писать, – соврал я.
– Завещание?! Давай-давай, я бы на ее месте такого Митю давно бросил, – зло уколол Двуносый, переступая порожек.
– А тебе-то что?!
– А то, что мы с сочувствием к тебе. Я, можно сказать, для твоего блага кое-что припрятал в углу за дверью, а ты – уматывайте. Не по-людски – стопку водочки, вот что сейчас нужно для пользы дела! – совсем уже ласково подытожил он и так звучно щелкнул по кадыку, который выделялся на горле, подобно носу на лице, что товарищи его, точно на условный сигнал, поспешили вернуться.
Отстегнул я им каждому по трешке не из какого-то там благородства или других высоких побуждений, просто сунул руку во внутренний карман пиджака и, зная нрав подкожных денег, взял маленькой щепотью, но, когда вынул, на поверке оказался букет из трешек. Я бы и из пятерок не пожалел, лишь бы отстали. И они отстали. Молча переглянулись и, ошарашенные, обгоняя друг друга, поскакали по коридору действительно как кенгуру.
Захлопнув дверь на щеколду, наконец-то остался один, но, оставшись, не знал, что делать. Точно затравленный зверь в клетке, бегал по комнате из угла в угол, не замечая, что бегаю. В меня словно вселился бес. Десятки самых фантастических идей в мгновение ока рождались в мозгу и так же в мгновение исчезали, уступая место другим, еще более фантастическим. Я бегал по комнате как бы в погоне за воображаемыми химерами. Наконец споткнулся и упал. От досады пришел в такую ярость, что стал колотиться головой об пол, не чувствуя ни боли, ни смысла, ничего – только ярость. Потом, наверное, впал в беспамятство и уснул. Когда же пришел в себя, припомнилось увещевание Двуносого, что для моего блага он что-то припрятал за дверью, и еще – мое лживое обещание писать.
Преодолевая разбитость, встал, поднял опрокинутую табуретку и только потом уже сдернул скомканную грязную простыню. Так называемым благом была двустволка двенадцатого калибра. Точь-в-точь с такою я ходил на охоту в девятом и десятом классах. Поначалу мама боялась, переживала, а потом даже гордилась – как-никак, а сын ходит на охоту с отцовским ружьем. Отца я помнил только по фотографиям, он умер от скоротечной чахотки, так говорила мама. А еще она говорила, что отец сочинял частушки и так задорно исполнял их под гармошку, что его часто приглашали на районные смотры художественной самодеятельности. Он и на фотографиях всегда сидел с гармошкой, а я – у мамы на руках. Наверное, отец был большим неумехой, мама иногда упрекала меня, что весь в него – безрукий. Мне нестерпимо стало жаль маму, забытую всеми под Барнаулом. Всю жизнь она одна и одна… И я тоже неизвестно где. По Розочкиной милости мы скрыли адрес и пересылали ей письма через Литинститут. Мы надеялись, что накопим денег и опять как-то вернемся в Москву, может быть, я поступлю в аспирантуру. «Хорош сын», – с горечью подумал я о себе и, сдвинув на цевье стопорную кнопку, переломил ружье.
Из стволов выглянули золотистые донышки патронов, я вытащил их и, взвесив на ладони, почувствовал убойную тяжесть заряженной картечи. Положив патроны в утюг и вернув ствол на место, долго сидел возле стола, опершись на ружье.
Мне привиделось: наше село, синие дали, мама, моя работа подпаском, самодельные свирели из ивы, украшенные узорными насечками, солнце, трава, речка, моя первая охота со взрослыми, и вдруг я ощутил как бы толчок в сердце – стихи. То есть не стихи, а предчувствие, еще не стихов даже, а только их возможности. Меня словно поднимало изнутри, ясно и отчетливо виделось все и во всех направлениях.
Когда поставил ружье в угол, точно знал, что сейчас напишу стихотворение. Более того, уже чувствовал стихотворение в себе, нужно было лишь извлечь его через те единственные слова, которые предстояло отыскать в памяти и в правильном порядке записать на чистом листе или белых манжетах – все равно.
* * *
Шептались люди – «Это ж надо, зачем себя он порешил?»
А месяц красный возле хаты багрянец в окна порошил.
Осина все не выпрямлялась. Лежало тело на траве,
кусочек незасохшей глины зиял на мятом рукаве.
В созвездьях дальних, синих, вечных блуждал огнями самолет,
и раскаленною картечью на землю падал спелый глёт.
И только он, самоубийца, был безучастен ко всему,
как будто там… такое снится, что не до этого ему.
А все над ним… так убежденно – «Любить-то можно, но не так!»
И некто трижды разведенный сказал, что умерший – дурак.
Мне известно, что предела совершенству нет. Любой драгоценный камень поддается шлифовке и огранке, но согласитесь – чтобы получить бриллиант, надо по меньшей мере иметь алмаз, который прежде еще надо найти и извлечь из недр. У меня и в мыслях нет оправдывать или преувеличивать литературное значение чьих бы то ни было творений, в том числе и своих. Что есть – то есть, а чего нет – того и считать нельзя. Можно быть Фётом, Фетом, но еще прежде надо быть Шеншиным.
Набив отцовский патронташ
патронами с «гусиной» дробью,
я с вечера иду в шалаш,
поставленный над самой Обью.
Внизу река, среди полей
в сиянье призрачном и строгом
она, как лунная дорога,
но тише, слышишь журавлей?
Патроны в ствол, и лунный диск
уже на мушке покачнулся…
но выстрел слуха не коснулся —
ты слышишь журавлиный крик.
И только дома, за столом,
все вспоминая понемногу,
увидишь лунную дорогу,
услышишь свой ружейный гром.
Крыши изб, огоньки, лай собак
мне пригрезились, что ли, в логу,
все бегу к ним, бегу и никак
я до них добежать не могу.
То ли филин сбивает с пути,
то ли манит гнилушками мрак,
только чудятся мне впереди
крыши изб, огоньки, лай собак.
И опять я бегу, и на снег
вместе с инеем – хохот ночной.
Разве может сравниться мой бег
с тем, как сильно хочу я домой?!
Крыши изб, огоньки, лай собак
я почти осязаю в логу
и бегу к ним, бегу, а никак
я до них добежать не могу.
Последнюю строфу дописывал по инерции. Во мне уже ворочалось другое, главное стихотворение, дыхание которого, даже отдаленное, бросало меня в озноб, заставляло трепетать, словно пламя свечи. Не вставая из-за стола, не прерываясь, стал записывать с лету.
Проклятые слова поэтов
мне не дались, она свела
на нет все красноречье света! —
Какая женщина была!
Пусть буду проклят я сполна!
И мать откажется от сына! —
Такая женщина одна,
как песенка у арлекина!
В ней было все: любовь, хвала…
и голод страсти темных сил! —
Какая женщина была!
И я любил ее, любил!
Случись ей пожелать во мне
клятвопреступника хоть раз,
и я б продался сатане,
и я, друзья, бы предал вас!
И не сочел за преступленье б,
что ваши стоили проклятья?
Если весь мир был дополненьем
всего лишь к ней, как брошка к платью!
В ней было все: любовь, хвала…
все абсолютно было – всё.
Какая женщина была!
О, лучше б не было ее.