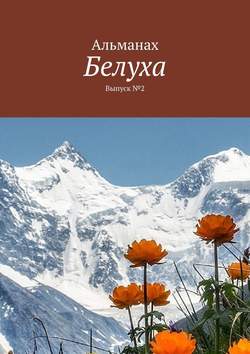Читать книгу Белуха. Альманах. Выпуск №2 - Виктор Васильевич Свинаренко - Страница 4
Вассбар и Лобанов
Государевы преступники
(Продолжение)
ОглавлениеГлава 3. Телеутский кам
Перед глазами, мелко дрожа, трепыхалась матовая мгла, пронзённая косым пучком света, в котором крутились мелкие светящиеся пылинки. Стёпа смотрел на эту трепещущую под тугим лучом света пелену и не мог понять, что с ним и где находится. Неожиданно в его думы влетела мысль, от которой внутри всё похолодело и что-то горькое встало поперёк горла.
– Я умер, – пронеслась мысль в его голове, – и стою на перепутье двух дорог, тёмной – ада и светлой – рая.
А откуда-то издалека, Степан это чётко слышал, нёсся голос юной девы.
– Орус не спит! Орус не спит! Он уже проснулся! – говорила она.
– Не сплю! Не сплю! – прокричал Степан, но голос его был так слаб, что даже он сам не услышал его. Тогда, собрав все силы и волю в тугой единый ком, Степан поднатужился и приподнял голову. Тотчас растворилась мраморная пелена и на Степана наплыла, скрываемая ею до этого, смуглая узкоглазая девочка лет двенадцати.
– Выпей, – сказала она и приложила к Стёпкиным губам фарфоровую чашку с каким-то дурно пахнущим зельем. Степан подчинился юной фее, глотнул два раза питьё, оказавшееся не только горьким, но и дурно пахнущим, отвернулся и вновь уронил голову на что-то мягкое.
– Нет, нет, орус, пить надо! Надо пить! – требовательно проговорила фея и приподняла голову Степана от мягкого тюфяка.
– Я сам! – нахмурившись, сказал Стёпка, тряхнул головой и, кое-как приподнявшись, сел на лежанке, крест-накрест поджав босые ноги.
В плошке противного зелья было не много. Стараясь не дышать, Степан одним глотком проглотил его, внимательно посмотрел на девочку, понял, что она не фея, а маленькая девочка, себя он считал уже взрослым юношей, и вновь растянулся на лежанке. Он по-прежнему испытывал слабость, но это было уже какое-то другое чувство болезненности, освободившее его от липкой рвотной паутины.
Степан прислушался к себе и нашёл в своём состоянии покой и умиротворение. Нежная, ласковая истома обволокла его тело, на лбу выступили прохладные капельки пота, но сознание не покинуло его, он всё слышал и видел.
– Ещё пей! – требовательно проговорила девочка, и протянула Стёпану плошку побольше. От плошки шёл пар и запах был совсем не тот, что от зелья. Пахло чаем, жиром и ещё чем-то приятно щекочущем ноздри.
– Пей, – снова сказала девочка на ломанном русском языке. Стёпа вновь приподнялся, сел и стал осторожно глотать горячую густую жидкость.
Выпив чашку неведомого, но приятного на вкус напитка, юноша откинулся на лежанку. Лоб и тело покрылись потом, но в желудке заиграла приятная горячая тяжесть.
Полежав с полчаса, или чуть больше, Степан почувствовал, что слабость слегка отступила и появились силы встать на ноги. Приподнявшись, огляделся. Увидел, что лежал на тряпье и шкурах, аккуратно уложенных на лежанке внутри какого-то конического сооружения, а метрах в трёх от себя худенькую девочку у длинного сосуда, похожего на пустотелый столб, в котором что-то сбивала длинной палкой сквозь отверстие в крышке.
– Масло бьёшь? – спросил её Степан.
– Йок, – ответила девочка, мельком взглянув на юношу миндалевидными глазами, – чегень.
– Черген? – Впервые услышав непонятное слово, удивился Степан. – Что это такое?
– Это из молока, потом дам, – ответила девочка, поправив, – не черген, а че-гень.
Степан хмыкнул, но промолчал, а потом вдруг резко и громко выплеснул, да так, что девочка вздрогнула:
– А где Федька? Федька где? А? И как я сюда попал? А?
Минуту смотрела девочка на Степана, вероятно приходила в себя от неожиданного выкрика молодого гостя, или обдумывала, как ответить на его бурный вопрос, потом собралась и спокойно произнесла:
– Твой Федька с камом пошёл, моим дедушкой. Он на вас вчера вышел и с Федькой тебя сюда и принёс.
– А-а-а! – протянул Степан. – Тогда ладно! А сам-то он где?
– Дедушка?
– Не-е-е, Федька.
– Так с ним и ушёл.
– Ка-а-ак э-э-это ушё-ё-ёл? А я ка-а-ак? – не вникнув в ответ, с тревогой в голосе протянул Степан. – И куда мне тепе-е-ерь? Где ж я его сыщу-у?
– Так он не совсем ушёл, а с дедушкой… по делам каким-то, важным верно. Так просто дедушка по тайге не ходит. Незачем ему попусту время проводить! Дело у него завсегда найдётся! Вот и сейчас по делам пошёл. Ты покуда отдыхай, потом чегень пить будем, а там дедушка с Федькой твоим воротится, – по взрослому, не отрываясь от работы, ответила молодая хозяйка и чему-то мило улыбнулась.
– А-а-а! Ну, тогда ладно! – успокоившись, проговорил Степан и обратился к девочке с новым вопросом. – Самуё-то как звать-то, а?
– Айланыс моё имя. Телеуты мы. Сюда откочевали с Бочата. Давно-о-о это было! Это когда дедушка ещё камлал, сейчас только травами лечит. Белку, колонка бьёт. Корову держим. Живём по-маленьку.
Айланыс умолчала, да, и не знала толком, что деда и сына его, её отца, изгнали из рода, когда она ещё только ползать начинала. Тогда по аилам пошла какая-то хворь, много людей умерло. Другого кама (шаман) не прогнали бы, но Эркемей был могучий кам, ему много духов служило, и он мог даже зимой камлать (каманить) небесному богу Ульгеню и люди помнили, как в дымоход во время камлания сыпались кусочки льда, когда путешествующий дух Эркемея пробивал обледеневший небосвод.
Дедушка смог излечить разбитого параличом Кюнди и прозрел Барди, а раньше тот едва различал свет и тень. И вот, чтобы такой могучий кам, как мой дедушка, не смог справиться с какой-то горячкой, никто не поверил и решили, что он нарочно наслал духов на род. Припомнили тогда, что Эркемей юность провёл в буддистском монастыре, позже других ушёл из Джунгарии, припомнили, что женой его была казашка.
А ведь сами разве не джунгарские переселенцы, разве у самих жёны не монголки сплошь и рядом? Забыли, как вырезали их китайцы, как бежали в Россию, не помня себя? Не так уж много их осталось, держаться бы друг за друга – нет, нашли виновника. Хорошо хоть не убили, – мудро рассуждала Айланыс.
Эркемей поселился на Алтае одиннадцать лет назад с сыном, снохой и внучкой, но через две недели после переезда умерла мать Айланыс – Байчил. Захватила она с собой ту хворь и он, великий кам, ученик буддистских лекарей, который мог и путешествовать в запредельные миры и лечить иглоукалыванием, ничего не мог поделать.
Байчил умерла, оставив маленькую сиротку, а позапрошлой весной убили его сына, отца Айланыс.
Он тогда часто ходил в деревню к русской женщине и собирался с ней обвенчаться, а крестились они все вместе, как приехали. Об учении Исуса он слышал ещё в монастыре. Исус дурному не учил, почему бы его не чтить? Наверное, среди богов должен быть главный, почему бы ему не быть отцом Исуса? Ведь и Христос, и Будда учили одному – не копи богатства, не гонись за земной тщетой, слушай вечность и обеспечь покой своей душе. Вот только жизнь не дала его душе покоя.
В тот вечер, когда его сын должен был вернуться из Тогула и не пришёл, понял Эркемей, что в его дом пришла беда. Нашёл он сына в логу, на твёрдом весеннем снегу. Лежал он неловко – вывернув ноги на горбу тающего сугроба, запрокинув голову и подставляя остановившиеся глаза равнодушному солнцу. По краю сугроба, где почва была мокрой, насыщенной водой, Эркемей увидел следы. Человек, что их оставил, загребал широко расставленными ногами, оставляя борозды и сильно продавливая внешний край следа. Долго смотрел Эркемей на эти следы и постарался их запомнить на всю жизнь. Потом он осмотрел сына. Его убили чем-то тяжёлым. Правый висок смят, кожа на нём разорвана и запеклась кровавой коркой, а на скуле чётко отпечатались два ряда маленьких ранок.
Значит, орудие убийства было гранёным, с шипами. Не иначе, били кистенём. С шипастой железякой насаженной на палку никто ходить не будет, а кистень можно и в котомку спрятать, и на пояс повесить.
– Конечно кистенём, – рассуждал старый Эркемей.
Он всё думал о кистене, о том, что надо хоронить, звать ли попа. Решил, нужно звать, а если звать, значит, нужен гроб.
О многом думал Эркемей, лишь бы не думать о главном, – о горе, которое вновь довелось нести в груди на старости лет, боясь его расплескать.
Но запомнил он, какие грани у этого кистеня. И сейчас помнит. И будет помнить всю жизнь.
К Прасковье тогда никто другой не сватался, да, она и сейчас одна живёт. Ни с кем его сын накануне не ссорился и врагов здесь ни он, ни сын его не нажили. Если у него и были враги среди телеутов, то не такие, чтобы идти искать его невесть куда. Да и кто видел, чтобы телеуты, или кто другой из охотничьих народов кистенём дрался?
Нет, его русский убил. Какой-то мимо проходящий варнак? Но на что он мог позариться? Ни шкур, ни денег у сына не было.
Похоронил сына Эркемей на православном кладбище, священник отпел его, Прасковья оплакала, попричитала над его бедным Илдешем (в православии Ильёй), который за свою короткую жизнь видел так много злобы и мало счастья, закопали, поставили на могиле крест и разошлись.
Эркемею понравилось, как служил поп, и как причитала Прасковья и он решил, что после смерти душа его сына, как и говорил поп, попадёт к самому великому богу, отцу Христа, – к богу верхнего неба Тенгри. Душа его сына будет довольна, и он решил не камлать Ульгеню, как требовали обычаи его рода. Но справив девять дней (угощение ставил в доме Прасковьи), вернулся к себе в аил, чтобы свершить чёрное камлание. Внучку оставил у Прасковьи, сказав, что вернётся за ней через день. С тех пор Эркемей не камлал. Понял он, что б болезней требуют не путешествий в иной мир, а трав, прижиганий и уколов иглой. Иногда он, конечно, бил в бубен, сказывалась страсть к камланию, кружился, а после рассказывал о своих прошлых путешествиях, иногда кое-что сочиняя. Нельзя сказать, что он совсем не чувствовал священного дуновения, но в путешествия уже не уходил. Слишком больших сил это требовало от кама. Только в крайних случаях, когда тяжела болезнь, велика беда, Эркемей совершал настоящие большие камлания. Но сейчас беда у него была, и он собрался камлать богу подземного мира Эрлику. Хотел узнать, кто убил его сына.
Эрлик был хозяин голубой беспредельности, восставший против верховного бога Тенгри и низвергнутый Ульгенем в подземный мир. У христиан этого бога зовут Сатаной, Дьяволом. Он хозяин зла, и дух убийцы в его власти.
Эркемею надо было спуститься в мир Эрлика и спросить правду у хозяина подземного мира.
Это у алтай-кижи и тубаларов есть белые и чёрные камы. Эркемей был телеут, а телеутский кам мог камлать любому богу.
Эркемей начал камлать ночью, ближе к утру. Он боялся, что вечером к нему может заглянуть кто-то из русских знакомцев. Увидит, что камлает, да ещё узнает кому, тотчас донесёт попу и его опять сгонят с места. Поэтому был осторожен.
Повалил кам на землю чёрного барана со сломанным рогом, сделал широкий надрез под рёбрами, нащупал рукой сердце жертвы и изо всех сил сжал трепещущую плоть, только так умертвлялись овцы при камлании. Потом достал Эркемей шаманский бубен ала-барс, туго оттянутый шкурой лося, взял било, обтянутое шкуркой зимнего зайца, одел на голову шапочку из цельной шкурки филина с клювом, нависшим над лбом и торчащими в сторону когтями и вышел на поляну.
Хорошо, что телеутам не надо одевать для камлания Эрлику тяжёлых доспехов маньянов, а можно камлать в удобной охотничьей одежде.
Эркемей замер. Прислушался сначала к лесу, потом к себе.
Было тихо и немного тревожно.
И он ударил в бубен. Ударил в бубен и пошёл, пошёл бить с нарастанием в темпе, – сначала бил редко, чтобы тело разогрелось, затем, повинуясь ритму бубна, закружился волчком. Бил в бубен всё быстрее и быстрее, и всё чаще и чаще.
И вот Эркемей уже перестал чувствовать свои руки, будто бубен бил сам по себе, и задышал Эркемей глубоко, ловя священное дуновение, не останавливаясь между вдохом и выдохом. И вот уже и ноги и руки перестали принадлежать ему, и поляна потускнела, и кружащиеся кедры пропали из глаз.
Увидел Эркемей себя со стороны, какой-то одной частью был вне тела своего – в стороне и чуть выше, а другой ещё находился в нём – не полностью расстался со своей телесной оболочкой.
Вращалась поляна, кружились пихты и кедры, но это было видно ему одной своей частью как бы в тумане – бледно и неясно, а другим своим я он видел неподвижные деревья и себя, вращающегося в ритме бубна на кружащейся поляне. Ещё миг и вот он уже полностью расстался с тем танцующим камом и полетел в только ему известное место, где в скалах – на крутизне спрятаны духи его бубна и лося, шкурой которого обтянут бубен.
И вот уже не бубен бьёт-гудит, гудят копыта его верного сохатого, крепко он ухватился за рога, а рядом жёлто-чёрной тенью стелется ала-барс, пёстрый барс-тигр, дух бубна, доставшегося ему от отца, а тому от деда, великих камов, которых знала половина Джунгарии, и не только телеуты и другие племена Алтая, но и монголы, казахи, уйгуры.
Мусульманам и буддистам и нельзя иметь дело с языческими шаманами, но коль скрючит от боли или начинает сохнуть человек с тоски и не помогают молитвы мулл и прижигания монастырских лекарей, пойдёшь и к язычнику.
Эркемей со своими священными животными примчался к пещере на берегу Уксуная. Пещера была маленькая, туда можно было протиснуться только ползком, но сейчас это не имело никакого значения, то ли он с сохатым и ала-барсом уменьшился, то ли вход стал разрастаться, но они влетели в пещеру (лось уже не бежал, летел) и полетели по круглой чёрной дыре к сверкающему кругу.
Эркемей знал, что пещера кончается тупиком, но это когда он не камлал, для того Эркемея, что остался кружиться на поляне, а для этого Эркемея, в ушах которого свистел ветер, какой не свистит в ушах и при самом быстром конском галопе, преград не было. Эркемей влетел в царство Эрлика.
Из тёмной трубы это царство казалось сверкающим, а на самом деле был серый, не дающий теней свет, и это естественно, в мире тени не было тени, так как в подземном царстве не было ни луны, ни солнца, ни звёзд.
У входа в тёмное царство уже пасся дух жертвенного барана, которого Эркемей подхватил, и бросил на спину своего лося, на ходу, не останавливаясь. Его священные звери неслись по узким скалистым гребням, над тёмными обрывами, перескакивали бурые реки.
Наконец показался высокий дворец, сложенный из чёрного камня, обиталище младшей дочери Эрлика. Эркемей спешился, его лось обернулся луком, плечи стал оттягивать колчан, полный стрел.
Нагишом запрыгала, заплясала вокруг него, тряся грудями и высоко задирая ноги, высокая луноликая распутница, стала жаться, хвататься за ворот.
Эркемей покрепче вцепился в рог жертвенного барана – так и есть, дёргают его из рук, стремятся отобрать.
– А ну, вон! – закричал Эркемей. И вот уже грозно, страшно рычит, подбегая, отставший ала -барс и в страхе разбегаются слуги распутной девки.
Эркемей отталкиваете её от себя, и идёт дальше. Идти неудобно, – мешает жертвенный баран, заброшенный на шею, и надо держать наготове лук с прижатой к тетиве стрелой.
– На выходе из дворца обязательно будет засада, – мысленно говорит кам. – Нет, на этот раз позже, – увидев, как из тёмного озера поднимаются чёрные, мокрые и скользкие на вид чудовища. Извиваясь своими змееподобными телами, выползают эти мерзкие твари на бесплодную сушу, тянутся к Эркемею. – Плоти хотите, – говорит им двойник Эркемея и, сбросив жертву на землю, посылает стрелу за стрелой в огромные, выпученные, лягушачьи глаза, в гнойные пасти с множеством рядов острых зубов, в чёрные тела их.
Один за другим чудища взвиваются ввысь и с громким всплеском, поднимая горы брызг, и исчезают в водах чёрного озера.
Последнюю стрелу кам выпустил, когда гнойная, клацкающая клыками пасть почти добралась до Эркемея. Враг человечества, выродок тёмного царства мёртвой падалью замирает на берегу почти у его ног и, разжижаясь, гнойным чёрным киселём стекает в озеро.
Последнее чудище и стрела последняя.
Впервые так камлал Эркемей. Нет соплеменников, для которых он камлал, не надо пересказывать приключения своего двойника, и отрешился он от земного мира, иногда только ощущал обычную при камлании раздвоенность, но если при прежних камланиях это были путешествия его двойника, его двойник мчался над тайгой в поисках Хан-Алтая и поднимался с духами покровителями к Ульгеню, а сам Эркемей в это время был в своём земном мире, – в аиле или на поляне, а его путешествия были сном наяву, то теперь он сам ехал на лосе, а на поляне кружился его двойник.
И если при прежних его путешествиях поражение в битве с чудовищами означало неудачу камлания, в худшем случае болезнь, и ему мог помочь другой кам, то теперь он знал, – не сможет пройти свой страшный путь, найдут Верх-Тогульские мужики на поляне закоченевший труп и большой разрисованный бубен.
И ещё много раз сталкивался кам с чудовищами, и неоднократно отбивался от дерзких притязаний старшей дочери Эрлика на его тело, и уговаривал его сыновей о пощаде, напоминал про прошлые дары и обещал взятки в будущем, пока не добрался до покоев Эрлика.
Эрлик отказался его принять, сказал, что он уже наполовину христианин, но согласился переговорить через дверь и велел отдать жертву слугам.
Всё выполнил Эркемей, и обратился к владыке тёмного мира с вопросом:
– Кто убийца моего сына? Где он? Покажи его.
– Где он? Ищи сам. Кто он? Узнай сам. А вот какой он, посмотри, – ответил Эрлик.
Тёмной полировкой заблестела дверь, и увидел Эркемей костёр, а у костра людей. Все люди, кроме одного, виделись смутно, туманно, а тело того, кто виделся чётко, освещал костёр, только вот лицо его кам никак не мог разглядеть. Вот таёжник встал, широкоплечий, широкозадый и пошёл, переваливаясь, за хворостом.
Лицо было в тени, почти неразличимо, но Эркемей жадно всматривался и узнал человека.
Дверь вновь покрылась мутной чёрной пеленой.
– Теперь тебе пора домой, уходи, – услышал Эркемей голос хозяина тёмного мира и, поблагодарив его, отошёл от двери.
И снова застучали копыта лося-бубна, снова преграждали дорогу чудовища и летели со скалы камни, только распутные девки не лезли со своим ласками, а злобно ругались, брызгая ядовитой слюной.
Наконец он нырнул в чёрную дыру и понёсся к сияющим звёздам своего земного мира.
На востоке уже поднималась заря, двойник разглядел кружащегося кама и вошёл в него. И тотчас, что обычно бывает после таких полётов, увидел, как тигр ала-барс уменьшился, прыгнул ему в ладонь и обратился обручем бубна, а лось съёжился, затрепыхался под ветром и вдруг снова стал тугой, гудящей бубновой кожей, завертелись перед глазами деревья и упал Эркемей на грязную, натоптанную его ногами землю.
На весенней земле, да ещё ранним утром, нельзя долго лежать, но и встать старик не мог, пришлось до аила ползти на четвереньках, но и на четвереньках его постоянно заносило, бросало на землю.
Заполз на лежанку и закрылся шкурами – потный, обессиленный, на лежанке кружащейся и качающейся, как щепа на разбушевавшейся реке.
Много времени утекло с того последнего камлания, но будто вчера было оно, и помнил старик угрюмый взгляд и нескладную фигуру, привидевшуюся ему в тёмном царстве.
Вчера Эркемей нашёл двух русских мальчиков на краю болота. Они сильно устали и были измучены страхом.
Один был очень болен и лицом прозрачно-синий от измотавшей его болезни, другой тоже бледен лицом, но покрепче – стоял на ногах. Лежачего больного юношу старик оставил на попечение внучки, сказал ей, чем его лечить, а другого взял с собой в тайгу. Там, в тайге он избавит его от страхов, вылечит от душевной усталости. Он мальчик, и хоть пережил много, всё это выйдет из него, пока они будут неторопливо бродить под деревьями, а лечить его Эркемей будет словом.
Перед уходом в тайгу, влил старик в рот Степана снадобье и сказал внучке: «Проснётся, дай ему лекарство, покорми, но немного, сразу много нельзя, всё выйдет наружу. Делай так весь день, понемногу придёт в себя».
Сказал и подумал: «Всё бы ничего, плохо другое. Уж больно рассказ юноши тревожный. Поселил в душу мою беспокойство, а всё оттого, что в тайге появились разбойники, а это очень опасные соседи. Конечно, вряд ли они меня с внучкой тронут, взять у нас нечего, но я слыву знахарем, значит рано или поздно они принесут ко мне раненых, приведут занедуживших. Потом начнут расспрашивать, что слышно в деревне, не поговаривают ли о поездках купцов, нет ли поблизости солдат. И начнут специально посылать меня вынюхивать, выспрашивать и высматривать, что где да как, я ведь могу в любое время безбоязненно являться в селе, а потом разбойничать начнут. И куда мне деться, в заложницы внучку возьмут. А власти, что власти! Будут слать ко мне людей, требовать, чтобы узнал, где обитают разбойники, требовать навести на них солдат, ведь я человек в тайге свой. И кончится всё тем, что либо меня убьют разбойники, либо власти закуют в кандалы и сошлют на каторгу. А тут ещё внучка подрастает, скоро станет девушкой и что за жизнь ей будет уготована по соседству с этими злодеями», – думал и сокрушался Эркемей.
Но деваться некуда, надо помощь оказать юношам, помрут без его лечения и заботы Айланыс. И пошёл Эркемей с русским мальчиком в тайгу, травы искать и лечить его ими и словом. Знал старик, основное время сбора лекарственных трав придёт позже, да и затеял он это не столько ради трав, сколько ради мальчика. Неторопливо шли по тайге старик и юноша, найдя нужную траву, Эркемей обстоятельно объяснял Феде как её надо рвать, для чего она служит, как зовётся по-русски и по-тюркски, иногда вспоминая монгольские и китайские названия. Рассказал старик Феде и о своей жизни в Джунгарии. Сказал, когда ему было столько лет, сколько Феде, был слугой в буддистском монастыре, и монах, которому он почему-то приглянулся, научил его не только тибетской грамоте, но и лекарским знаниям и рукопашному бою.
– А потом пришли китайские солдаты, разгромили моё родное селение, убили мать, отец раньше умер, и ушёл я из монастыря, – продолжал рассказ о своей жизни Эркемей. – Ещё был жив дед, и он передал мне семейный бубен, обучил камланию и тонкостям чабанским и охотничьим. После смерти деда я с женой, маленьким сыном и ещё десять семей телеутов и монголов, которым грозила расправа, кому за неуплату ясака китайцам, кому за сопротивление им, бежали в Россию. Ушли на реку Бочат, где, как мы узнали, ранее поселились другие бежавшие из Джунгарии телеуты.
Так за разговорами и воспоминаниями шли они по тайге и набрали трав и корешков целый мешок. Затем повернули обратно, но пошли другой тропой, короткой. Тропа шла по краю крутого склона, и на нём Эркемей увидел красный корень, крайне редкий в здешних местах.
– Надо выкопать, – решил кам и спустился вниз по склону, следом Федя. Но только начали они ковырять землю – Федька ножом, Эркемей маленькой лопаточкой, как над головой послышались голоса. Старик поднял голову и стал прислушиваться. Федька хотел что-то сказать, но Эркемей остановил его слабым шёпотом.
– Тихо! Кто-то идёт! – проговорил он. – Не дай бог, разбойники. Ложись сюда, под скалу, тебя никто не заметит. И когда Федька забился в прохладную расщелину, такую узкую, что её не было видно за майской травой, сказал, – если это действительно разбойники, и они заберут меня с собой, дождись пока мы уйдём, выходи на тропу и иди по ней сажень сто. Потом свернёшь влево, выйдешь на скалы, спустишься по ним на нижнюю тропу и по ней беги к аилу. Скажи Айланыс, она спрячет вас и сама спрячется, она знает где. Если я дам знак, пусть выйдет, а вы сидите тихо и не высовывайтесь.
Пока Эркемей всё это говорил, над склоном показались три фигуры с ружьями. Они окликнули его, но он, согнувшись, ковырялся в земле и неторопливо продолжал давать Фёдору наставления. И только после второго оклика степенно разогнулся и сказал: «Помогли бы лучше старику мешок вытащить».
– Не переломишься, кыргызня. Туда же, басурман, помоги, видите ли, ему.
– Зачем обижаешь? Я тоже крещёный. Меня поп крестил. Пантелеймоном назвал. И внучка крещёная, Марфой поп назвал, – ответил Эркемей.
– Ладно зубы-то заговаривать, чёрт косоглазый. Веди к себе. Вон у Гришки чтой-то рука пухнет, давеча ему её знакомцы погладили.
Федька, забившись в щель, прислушивался к постепенно удаляющимся голосам.
– Арачка-то есть? – спросил старика молчавший до этого щуплый мужичок.
– Нет, корова мало молока даёт. Да и не ждал гостей. Курт есть. Чай есть. Молока надою.
– Ему с под бешеной коровки подавай, – хихикнул здоровенный детина неопределённого возраста, и загоготал, как охрипший гусь.
Когда, как подумалось Федьке, разбойники ушли за второй поворот, вылез он из-под скалы, выбрался наверх на четвереньках, осмотрелся, тихо прокрался сто сажень, спустился на нижнюю тропу и бросился по ней бегом.
Надолго опередил деда и разбойников Фёдор, и это отвело от него, Айланыс и Степана возможную беду. Шло время, а разбойники всё не появлялись. Мальчикам уже надоело лежать на старой кошме и овчине под огромной пихтой, чьи ветви спускались до самой земли и укрывали их маленькое логово от постороннего глаза, хотелось выйти, но Айланыс удерживала их.
Наконец появился Эркемей с грозного вида людьми. Все вошли в юрту – шестигранный низкий сруб с высокой шатровой крышей, который дед называл аилом. Несколько минут не было слышно ни звука, но вот дверь отворилась и из проёма её высунулся дед. Что-то прокричав по-своему, снова скрылся за дверью.
– Дедушка зовёт, – тихо проговорила Айланыс и, ужом выскользнув из-под пихты, пошла к аилу, но не прямиком, а лесом обошла поляну и вышла на неё с противоположной стороны на натоптанную тропу.
Вскоре в аиле растопили печь и над ним поднялся дым, а потом в дымной пелене, расплывшейся по-над землёй стали расплываться и подрагивать пихты. Дым проникал в укрытие, где хоронились мальчики, им жутко хотелось чихать, они с трудом сдерживали себя и тёрли горевшие от дыма глаза.
Айланыс вышла из аила, пошла к роднику за водой, возвратилась с полным котелком и снова вошла в аил.
– Может не ждать когда они уйдут, утечь? Ты как Стёпка, идти можешь?
– Ну, и куда мы пойдём? В воровское логово? В юрте трое, а где остальные? Ты об этом подумал, мож они щас сидят в засаде и наблюдают.
– А встретимся, так что? Мы прохожие, они прохожие. Откуда им знать, что мы с обоза, а взять с нас нечего, пройдут мимо.
– А вдруг они не сразу всех мужиков убили. Мож поспрошали сначала. Мож, кто и показал на нас? Да и к чему им соглядатаи? Сейчас мужики с ружьями в тайге либо беглые, либо тати. Они ж не глупые, порешат встречных, чтоб не указали на них.
– А деда почему не убили? И Айланыс выпустили? – не унимался Фёдор.
– У них здесь и юрта, и домашность. Чуть что, разорить могут, это понятно, но с другой стороны дед им нужен. Он, видать, хороший знахарь. Видел, у одного бандита рука была перевязана, лечить его к нему привели. Не тронут.
– А и то верно, – почесав затылок, ответил Фёдор. – Значит, будем сидеть покуда здесь и ждать. К тому ж мы всё равно не знаем, куда идти. Слушай, Стёпа, дело долгое, посмотрим, что тут Марфа припасла? О, смотри, – развязывая узелок, – сырчики, лепёшки. Интересно, а баклажка с чем?
– Кислое молоко, вроде варенца, – ответил Степан. – Это по крещёному её Марфой зовут, но Айланыс мне больше глянется.
– А, тебе однако, не только имя, но и сама кыргызочка приглянулась?
– Хорошая девочка, добрая и заботливая? Ну, ладно, давай есть будем. А то и правда, кишки к животу уже прилипли.
И мальчики принялись уплетать курт и баурсаки, запивая их кислым чегенем.
А Эркемей вспоминал всё, чему научился в монастыре, что узнал у алтайских камов и колдунов, подсмотрел у русских знахарей и ведуний. Намазал разбойнику больную руку мазью, перевязал, напоил его отваром, уложил на лежанку и тот крепко уснул, а его два приятеля – Филька и Порфишка, расположившись в юрте как хозяева, сказали Эркемею: «К вечеру придут все наши товарищи, а потому ты, кыргыз, оставайся здесь, в своей юрте и никуда не уходи. Внучке своей скажи, чтобы приготовила еды поболе, а нам сейчас принесла. Расселись как хозяева и ждут, когда их обслужат, как фон баронов, разбойники они и есть разбойники, ни совести у них нет, ни сочувствия, ни жалости.
Эркемей усадил «господ разбойников» за низенький столик неподалёку от очага и стал угощать вяленым мясом, куртом, поить чаем.
Накормил их сытно, откинулись они на кошму и, лениво переговариваясь, уставились на тонкую струйку белого дыма над гаснущим очагом, поднимающуюся по столбу света к голубому отверстию дымохода.
И Эркемей тихо, вкрадчиво заговорил, что в дыме и свете плавают пылинки, похожие на маленьких мух, что гоняются пылинки друг за другом как живые, и они освещены солнцем…
Голос Эркемея постепенно усилился, зазвучал монотонно, но и твёрдо: «Пылинки кружатся и нагоняют сон. Всем хочется спать, вы уже спите, спите»…
И «господа разбойники» в самом деле заснули, один повалившись на бок и уткнувшись носом в овчину, другой сидя, склонив голову на грудь.
– Айланыс! Позови русских, им уходить надо, – обратился старик к внучке, и когда она вышла из юрты, Эркемей снова заговорил монотонно и властно.
– Порфишке спать. Спать и ничего не слышать. А ты Филька, спи, но отвечай мне. Сколько вас?
– Десятеро вместе с атаманом.
– А атаман кто?
– Господин Василь Никанорыч, а фамилию он не сказывал.
– А откуда он пришёл сюда.
– Не знаю.
Мало проку было от этой беседы, Порфишка и Филька, как оказалось, ничего не знали о своей банде. Пристали они к разбойникам неделю назад, бежав вместе с Гришкой, раненым в первом же налёте на обоз, с салаирского рудника. Однако узнал Эркемей, что был в шайке косолапый мужик с большим гранёным кистенём.
– Его Иваном зовут, а кличут Клеймёным, хоть и нет у него клейма. Он, правда, не шибко высок, но широк в кости, мясист, и неповоротлив, бегает плохо, но в ходьбе устали не знает и силы неимоверной, – так описал мужика с кистенём Филька.
Приказав варнакам спать, а проснувшись не вспоминать ничего, собрал Эркемей кое-какие пожитки и вышел к мальчикам, которых уже Айланыс привела к дверям аила. Отдал им котомки, указал дорогу и велел идти, пока не пришли другие злодеи. Поклонились мальчики старцу, поблагодарили за хлеб-соль и в путь отправились. Подойдя к пихте, под ветвями которой прятались от разбойников, обернулись. У юрты стояла Айналыс и смотрела им вслед. Помахали ребята ей рукой на прощание и вошли под сень тайги.
– Хорошая девочка, увидимся ли когда-нибудь, – тяжело вздохнув, проговорил Степан.
– Хорошие люди. Даст Бог, увидимся, и с ней и с дедушкой, – ответил Фёдор и пошёл неторопливой походкой рядом с другом по указанному Эркемеем пути.
Глава 4. Казённый город
Надо было поторапливаться, но Степан, хоть и не чуял хвори, быстро идти не мог. В его теле от вчерашнего лечения дедовскими травами была какая-то расслабленность, и эта расслабленность, хоть и приятная, казалось, притормаживала продвижение, но в действительности всё было наоборот. Стёпка шёл медленно, но без устали, шёл час за часом и не требовал привала. Фёдор уже давно выбился из сил, а Степану хоть бы что, идёт и идёт, и в его теле нет усталости. День, тем не менее, клонился к ночи, солнце заскребло по пикам деревьев, и пора было думать о ночлеге.
Ребята спустились к реке, срубили топором, подаренным Эркемеем, лесину и стали ладить костёр нодью.
Пихта для этого дела дерево скверное, горит неровно, трещит, разбрасывает искры, а берёза не сохнет, она, умирая, быстро трухлявеет в своей берестяной бересте и не годится для такого костра. Походили по округе мальчики, нашли поваленную бурей сухую сосну, и не толстую и не тонкую, как раз такую, какая требовалась для нодьи, разрубили её на три бревна и сложили из них костёр. Уложенные друг на друга, переложенные стружкой, берестой и мелкими веточками они быстро приняли огонёк горящего трута. После чего, ребята растянули кусок парусины, тоже подарок Эркемея и довольные проделанной работой приступили к ужину. Пожевали пушистых пресных лепёшек и вяленого мяса, попили чаю со смородиновым листом, попугали друг друга страшными историями о леших, кикиморах, змее огнёвке да змее горлянке и, привалившись близ костра, уснули.
Ночь прошла почти спокойно. Правда, Федьке отскочившим угольком обожгло щёку, а Стёпка чуть не лишился рубахи. Хорошо, что зажгло сразу, быстро затушил тлеющую ткань, но всё же клок с пол ладони выгорел, а когда рассвело, вскипятили они чай с чагой, развели этим чаем толкан, попили его с лепёшками баурсаками и пошли дальше.
Трава ещё не вошла в силу, но всё же доставала мальчикам до коленей и идти по тропе, над которой она перекрещивалась жирными волокнами, густо увешанными сверкающими бусинками росы, было тяжело. Кроме того, поросшая травой тропа, вносила в душу ребят лёгкий страх.
– Федь, а вдруг там змеи, я их ужас как боюсь, – с опаской ступая на тропу скрытую травой, говорил Стёпа.
– Не боись, змеи они тепло любят. Чё им тут делать… в сырости этой, – успокаивал друга Фёдор.
– А всё равно жутко и зябко как-то, – ежась и робея перед каждым шагом, отвечал Степан.
– Зябко, это точно, а и как иначе, если трава мокрая, словно по озеру бредём.
За разговорами, ежась от холодной росы, ребята шли и шли, и им казалось, что нет и не будет края этому холодному, зелёному морю, и вскоре они вымокли так, что больше уже вымокнуть было невозможно. И тогда пошли они, смело раздвигая ногами траву, не обращая внимания ни на неё, ни на скользкую тропу и забыв о змеях, и тропа вывела их на крутой взлобок, где трава была ещё совсем низкой, а с края взлобка рос молодой иван-чай. Стёпа потянулся за стебельком и вдруг… Коряга, до этого смирно лежавшая в траве, вдруг зашевелилась, поднялась, и на него глянули острые змеиные глаза.
Глаза глядели, а в это время всё шуршала и шуршала трава, и подтягивалось к плоской голове бесконечное змеиное туловище. Потом глаза пропали, клубок быстро развернулся, огромный змей заструился по взлобку и, спустя вечность, так показалось Степану, исчез в высокой траве.
– Т-т-ты г-г-гов-в-ворил, что з-з-змеи б-б-боятся м-м-мокрой т-т-травы, – заикаясь протянул Степан и ухватился за плечо друга, почувствовав как сильно закружилась голова.
Фёдор, не видевший ранее змея такого огромного размера, стоял как в полусне, шептал молитву и творил крестное знамение, и лишь когда удав исчез в траве, опустил руку и медленно опустился на траву, увлекая за собой и Степана.
Сидят, охают, вздыхают, приходят в чувства и не верится им, что змеи могут быть такой огромной длины и толщины, сошлись на том, что сей гад, размером с оглоблю будет.
– А я и не верил дядьке Ивану Капорину, говорившему, что у нас водятся такие гады, а оно вон как… есть оказывается такие ужасные твари, – задумчиво проговорил Федя.
– Да-а-а! – почесав затылок, протянул Степан, вот тебе и верю-не верю. Скажи кому, не поверят. А если бы он напал, – дрожь пробежала по телу мальчика, – заглотил бы и не поморщился.
– Эт точно, – поддакнул Федя и, поднявшись, огляделся и предложил другу продолжить движение.
(Старики, живущие на Салаире, порой рассказывают о гигантских змеях размером с оглоблю, которые водятся в их местах, но все рассказы кончаются одинаково – видели такого змея на покосе, да литовками и порешили. А в 1955 году такую змею видел житель посёлка Голуха. Больше двух метров, говорит, была. А вот верить ему или нет, дело другое. Может быть, где-то такие змеи действительно обитают, край Сибирский огромен, полностью не обжит и не исследован. И всё же, как говорится «у страха глаза велики!»)
В тот же день мальчики пришли в Верхний Тогул. Переночевали в избе у старосты, а утром, напуганный рассказом о разбойниках он отвёз их на телеге в волостное правление. Через неделю, дождавшись попутного обоза, мальчики добрались до Барнаула. После последней ночёвки в селе Гоньба на пароме переправились через Обь, и на телеге, до того пылившей по степной дороге, мимо пищавших сусликов, вошли в сосновый бор, где повозка, прыгая по корням, а где-то вязнув в песке, вскоре прошла густой лес и въехала в Барнаул.
Город поразил мальчиков своим масштабом, красивыми домами и прямыми улицами. Сначала вдоль московского тракта потянулись избы, потом дома богаче, а как стали подъезжать к каменному дому начальника заводов, дорога оказалась отсыпанной чёрными блестящими камушками, как потом узнали ребята – заводским шлаком.
Понизу специфическим, непонятным запахом давал о себе знать барнаульский сереброплавильный завод, а поверху доносил до ноздрей вояжёров вонь, отнюдь не похожую на медвяный запах таёжных цветов.
В Барнауле Стёпа Кузинский и Федя Морозов отправились к Шангину.
На стук открыл слуга, один из крепостных господина обербергмейстера. Узнав в чём дело, буркнул: «Барина дома нет», – и опять захлопнул дверь.
Снова стучать не хотелось. Больно грозен был слуга и хмур. А как обращаться с чужими слугами ни Федька, ни Стёпка не знали. У них ведь и собственных никогда не было. Отец Фёдора работников никогда не держал, а Стёпкин батя, хотя и был из господ и дослужился до чина, дающего право на дворянство, такую роскошь себе позволить не мог.
Мальчики потоптались немного на крыльце, и пошли к заводу. Поглазели на большие кирпичные дома, на плотину, откуда падала вода на большое колесо и пошли на берег пруда ждать вечера.
Глянув на своё отражение в пруду, поняли, отчего с ними были столь суровы. Оборванные, грязные, мальчики походили на церковных побирушек, хоть сейчас иди на паперть. Впрочем, им и в самом деле хоть на паперть – ни денег, ни еды. Что на них, то и их. Котомки, топор и парусина дадены им Эркемеем чуть ли не в милостыню. И всё же не настала ещё пора для Кузинского и Морозова младших сокрушаться по поводу своей бедности.
Пришли отроки к Шангину уже к вечеру, когда высохли волосы и одежда, которую они долго жулькали без мыла и прополаскивали в пруду.
Открыл им сам Шангин, поздоровался в ответ на их пожелания здоровья, впустил в сени и спросил:
– Кто такие будете?
– Пётр Иванович, – обратился к Шангину Степан, – я сын Петра Кузинского, помните, вы к нам прошлой весной приезжали. А это сын Морозова, соседа нашего.
– Чёрт вас принёс! – чуть было не сказал Шангин, но вслух промолвил. – Так, узнаю. Степан кажется. А тебя Морозов, как звать величать?
– Фёдор Егоров Морозов.
Эти отроки были Шангину совсем не ко времени, да и ни к чему они ему были.
– Чёрт вас принёс на мою голову! О вас мне ещё забот не хватало! – мысленно чертыхаясь, думал Шангин. – Но и не оставлять же мальцов на улице, неровен час лихоманка какая приключится… беды не оберёшься. Народ ныне злой, чуть что в драку и мальцов не пожалеют, ежели под руку попадутся. А сведу-ка я их к Амалии Карловне, женщина она бездетная, да и мужа покуда дома нет. Вот и славно придумал! Ай да и молодец! Так и мне забот меньше и ей помощь по огороду.
А всё дело в том, что Пётр Иванович получил от Чулкова секретный приказ – ехать в Терсинскую волость и выяснить, видел ли кто Морозова в доме Кузинского и не слышал ли кто, о чём те говорили. Не принимал ли Кузинский от Филонова донос на Морозова, и есть ли о том доносе запись во входящем регистре 1797 года, и с какой целью крестьянин Морозов был в волостном суде и когда именно был отпущен. Это всё письменно, а накануне, без бумаг, Чулков ему прямо сказал:
– Этому смерду Морозову, Нерчинска не миновать, да туда ему, дураку, и дорога, не будет язык распускать, а вот топить Кузинского не резон. Кузинский твёрдо стоит, с Морозовым знался по соседству, но дружбы не водил, разговоры не вёл, а посему ничего противозаконного, крамольного либо еретического не слышал. И Морозов против Кузинского показаний не даёт. Ни к чему и нам не по разуму усердствовать. В Томске да Тобольске видать очень хотят перед Кабинетом выслужиться. Но наш округ не Петербург, вольтерьянцам да масонам взяться неоткуда. Да и Кузинский на Радищева али Новикова не похож. Не того полёта птица. А перед Кабинетом мы серебром отслужим, да камешками. Так, мил друг академик?
– Понял, всё понял, товарищ мой дорогой, Василий Сергеевич. – Вспомнил Шангин свои слова, и вот нате вам, перед самым отъездом являются в доме следователя эти два соколика – дети подследственных. – Не приведи господи, разговоры пойдут! – сокрушался Шангин, провожая детей за три дома от своего, но по той же улице Тобольской.
Дом Амалии Карловны Герих был просторный, не бедный, но и богатым не гляделся, вроде бы и в запустении не содержался, но и особого хозяйского догляда не чувствовалось. А всё потому что одна его содержала, слуг не было, а на наёмных работников лишних средств не имела. Огород при доме был, а в нём травы целебные и для кухни, цветы – две небольшие клумбы и грядки с овощами. Жила Амалия Карловна в этом доме с мужем Авраам Иогановичем Герихом и часто оставалась одна. Муж её по должности маркшейдер был на пять лет старше её, но гораздо моложе Шангина, шёл ему сорок шестой год. Когда Пётр Шангин только ещё начинал свои занятия минералогией и петрографией под началом Ренованца и Риддера, Авраам Герих уже возглавлял поисковые партии и нашёл на Тигирецком хребте шерлы и хрусталь, а на Бие агаты и яшмы.
В самоцветное лето 1786 года оба вступили маркшейдерами, но Шангин давно уже обербергмейстер, а Герих так и остался маркшейдером, хотя уже работает на его прииске Гериховский рудник на Алее и не одно отысканное им место числится в росписи цветных каменьев и реестре рудников и приисков.
И дело тут не в том, что Шангин закончил московский университет, а Герих барнаульское горное училище. Не умел Авраам Иоганович ни собственной выгоды усмотреть, ни беды вовремя увидеть, и хоть был немецкой нации, а забывал про мелочи, которые потом оказывались главнее главного.
Знал Шангин, что Гериха в доме нет, а посему вопрос с временным поселением ребят в его доме решится положительно. Сам-то Авраам Иоганович был в отъезде, искал на Катуни цветные камни, и когда возвратится, один Бог знал.
Гостей Амалия Карловна встретила доброжелательно, даже с радостью, сразу было видно, что устала от частого отсутствия мужа, а одиночество, как известно ещё никому радости не доставляло, разве что самым нелюдимым людям или разбойникам, скрывающимся от правосудия. Шангин дал Амалии Карловне немного денег, и они сговорились, что ребята недели полторы поживут у неё. После чего Пётр Иванович решил остаться в доме Гериха на короткое время, чтобы выведать у мальчиков подробности их трудного пути к Барнаулу. До него уже доходили слухи о разбойниках, зверствующих в Бийском уезде.
Женщина достала копчёной немецкой колбасы, холодный пирог с ревенем, миску солёной колбы и кринку с квасом, после, подперев щеку рукой, с жалостью поглядывала на мальчиков, набросившихся на это богатое собрание немецких и российских кушаний. Смотрел на них и Пётр Иванович, но его думы шли вдаль, гораздо дальше минутной жалости женщины, он думал о будущем этих детей без своих отцов.
А Стёпе и Феде казалось, что они никогда не наедятся, даже если съедят всё, что наставлено на столе, но вскоре их животы отяжелели и не так усиленно стали работать челюсти.
Хозяйка, увидев их осоловевшие глаза, убрала со стола всё, кроме кваса.
– Молодым людям хватит есть, а то заболит живот, – не из жадности, а из жалости сказала она, и попросила ребят рассказать, что привело их сюда.
Мальчики подробно рассказывали о своих злоключениях, о том, что пережили, прячась от разбойников, о своей болезни и дальнейшем пути в Барнаул. Амалия Карловна только охала, слушая рассказ, а в самых страшных местах всплёскивала руками и тихо восклицала:
– O main got!.. Arme knaben, arme knaben!
Шангин внимательно слушал мальчиков, иногда задавал вопросы о том, сколько было разбойников, как они были вооружены, как называли друг друга, как выглядели, кто главарь шайки.
– Ну, и что вы думаете делать? Зачем приехали в Барнаул? Отцов ваших давно увезли в Тобольск.
– Ну и мы в Тобольск! – не задумываясь выкрикнул Федька.
– И как же вы, милый отрок, отправитесь в сей вояж? Коня у вас нет, денег, как я понимаю, тоже нет. И где же вы найдёте пропитание в дикой степи, по которой и кыргызы-то редко кочуют?
– А что вы, Пётр Иванович, присоветуете? – по-взрослому спросил Шангина Степан.
Шангин усмехнулся, покачал головой, немного подумал о чём-то и произнёс:
– Поживите пока у Амалии Карловны, меня подождите. Дела у меня в Терсинской волости. Заеду в Сосновку, ваших родных успокою, да разузнаю, как дела. Вернусь, вызнаю в канцелярии про ваших батек, тогда и решим, что делать. А тебе Степан, возвращаться в Сосновку резона нет. Попробую тебя к осени копиистом пристроить, – подумав, добавил, – да и тебе, Фёдор, думаю, нет надобности ворочаться в село? Парень ты крепкий, найду и тебе работу. Всё матерям вашим заботы меньше. Короче, пока я из Сосновки не вернусь, никуда не суйтесь, потрудитесь на огороде Амалии Карловны, помогите ей по хозяйству. Вы ребята хваткие, деревенские, на таких земля держится. Ну, так как, останетесь?
– Спасибо за заботу, Пётр Иванович, не подведём, – ответили мальчики.
(Внимательный читатель может сказать: «Разве может быть такое, чтобы первооткрыватель многих проявлений и месторождений, горный инженер, естествоиспытатель, член-корреспондент Российской академии наук занимался политическим сыском? И не как агент-информатор, а как штатный следователь?
Сейчас, конечно, такое себе и представить невозможно, а тогда такое было. Ведь дворяне, находившиеся на государевой службе, были профессионалами во вторую, если не в третью очередь, а прежде всего они были царёвыми слугами и подчинёнными своего начальства. Тем более на Алтае, где дворяне поместий не имели и вся земля алтайская, как, впрочем, и сибирская, принадлежала дому Романовых. Только с позволения царя велись там изыскания, разработки и промысел, как промышленный, так и торговый).
Шангин не удивился новому поручению, он думал лишь о том, как бы его половчее выполнить, показав своё усердие и не потопив окончательно Кузинского.
Оставляя детей государственных преступников у Амалии Герих, он ничуть не боялся, что она растреплет о них по городу. Амалия хоть и любила поговорить, смешно путая на немецкий лад согласные, лишнего не сболтнёт.
Да и Герихи были многим обязаны Шангину. В 1792 году Авраам не проверил подаваемые на жалованье списки и унтершихтмейстеры Шишов и Сысолятин, воспользовавшись этим, казённые денежки присвоили.
У Гериха нашлись недоброжелатели, представившие дело так, будто он был в сговоре с расхитителями и Шангину стоило больших трудов убедить Гаврилу Романовича Качку – тогдашнего начальника Колывано-Воскресенских заводов, не учинять против Авраама Гериха судебного дела.
Амалия эту историю знала и добро помнить умела, а посему на просьбу Шангина не распространяться о мальчиках, ответила, что всё прекрасно понимает и будет держать рот на замке.
(Продолжение в следующем номере альманаха).