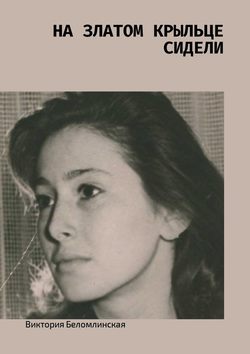Читать книгу На златом крыльце сидели - Виктория Беломлинская - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ПОВЕСТИ
СИЛА
ОглавлениеНа берегу неширокой реки, тихо несущей свои воды куда-то за пределы города, строители возвели большой, но несколько странный дом. Странность его заключалась в шестом, сплошь застекленном этаже, имевшем двойную высоту и по внутренней своей отделке, неподходящем под обыденное жилье.
Разузнав о назначении этого помещения, поставленные на отделочные работы столяры и штукатуры, бурно обсуждали, действительно ли разумно пускать такую огромную площадь под мастерские художников, в то время, как многие семьи в городе остро нуждаются в жилье. Одни говорили, что кроме баловства да безобразия это ничего хорошего не сулит, но другие с ними рьяно спорили. Их аргументы в споре были вескими, в них сказывались патриотизм местного жителя и тонкость чувств любителей искусства.
Большая часть жителей города повседневно трудилась на двух больших заводах.
На одном изготавливали телевизоры, а на другом настенные, настольные, мужские и женские часы разных фасонов.
Остальная же часть населения была занята тем, что создавала для этих тружеников жизнь полную смысла, удобств и развлечений. В центре города стоял большой вместительный театр. На его сцене, согласно расписанию, шли репетиции классических опер и оперетт и драматических пьес зарубежных и отечественных авторов, а балерины множество раз отрабатывали сложные партии намеченного к постановке балета. Спектакли шли в очередь, сменяя друг друга, и по вечерам театр всегда был полон людьми, проведшими день в тяжелом труде, а теперь спешащими утолить свой духовный голод.
Имелась в городе и телестудия. Подготовленные ее коллективом совместно с актерами и музыкантами, передачи смотрело каждый день множество людей, как в самом городе, так и в прилепившихся к нему колхозах и совхозах.
И уже вполне понятно, какое количество зрителей всех возрастов привлекали к себе кинотеатры, перемигивающиеся между собой неоновыми рекламами.
Конечно, для жизни каждого отдельного человека, созданный в этом городе Союз художников не имел такого значения, как театр, кино или телестудия.
А между тем, в городе жило несколько десятков художников: объединенных в Союз, разместившийся на одной неглавной улице, в первом этаже не очень уютного дома. Члены Союза художников тоже вливались в армию тружеников города, всесильно созидая его быт.
Посреди городского парка стоял памятник поэту – прославленному земляку.
Его вдохновенно глядящая голова виднелась еще из ворот парка, а подножие памятника утопало в цветах.
На главной же площади уже в послевоенное время был установлен памятник вождю трудящихся, окруженный вечно-зеленой растительностью. И тот и другой памятники были созданы местными скульпторами, и жители города не могли не ценить усилий
своих земляков влить красоту и вдохновение в их будничную трудовую жизнь.
Вот поэтому при окончательной отделке дома с шестым этажом под мастерские художников ворчунов удалось убедить в напрасности их ворчни. А что касается жилплощади, так еще много старых полуразвалившихся деревянных хибар предстояло снести, и на их месте выстроить высокие, удобные, каменные дома.
Жилую площадь кропотливо, по справедливости, соблюдая очередность, распределял между жителями Горисполком, а распределением мастерских между художниками ведал их Союз. Один шестой этаж одного дома не мог удовлетворить всех желающих, поэтому в Союзе было много споров и шума. Повседневно заседающая комиссия правления, в первую очередь стремилась предоставить мастерские наиболее заслуженным членам Союза. Получили их, например, и те два скульптора, один из которых создал памятник поэту, а другой вождю трудящихся. Правда, они были уже совсем старые, почти нетрудоспособные люди, но правление Союза считало себя обязанным воздать им должное за их несомненные заслуги, тем более, что оба они были люди многосемейные, имели женатых сыновей, замужних дочерей и шумливых внуков, а в старости хорошо бывает отдохнуть в тишине и полном покое.
Намеривались также выделить мастерские наиболее способной и обещающей молодежи, причем тут кто-то заметил, что особая потребность в мастерских у скульпторов, ибо лепить в жилой комнате невозможно, а писать прекрасные пейзажи еще даже лучше прямо на природе, и портреты передовиков сельского хозяйства тоже можно писать, выезжая непосредственно на поле. На это замечание живописцы отвечали очень резко, утверждая, что живопись входит в каждый дом и каждое учреждение, что в силу этого у живописцев работы по горло, от договоров нет: отбоя, а вот скульпторам – им попросту нечего делать: новых памятников в городе воздвигать как будто бы не собираются… Но эти споры прекратил председатель Союза, заявивший, что в этом году намечено и уже начинает осуществляться централизованное распределение заказов, и их будет очень много, в связи с надвигающимся всенародным праздником – юбилеем. Многим осталось непонятным выражение «централизованное распределение», и тогда председатель объяснил, что все имеющиеся на производстве монументальных скульптурных работ заказы, как-то; заказы: на надгробья павшим солдатам, памятники героям революции, коммунистического строительства и Отечественной войны, а также вождям трудящихся; и не только памятники, но и мозаики, барельефы, украшающие Фронтоны зданий театров, городских рынков и прочее – все эти заказы будут распределяться сначала в Москве, в Союзе художников СССР по всем отделениям,
и в частности, их городское отделение Союза будет получать свою часть заказов, и в свою очередь распределять их между художниками. После этого заявлениия председателя волнений поднялось еще больше. В прежние времена правление только для того и собиралось, чтобы разобрать какой-нибудь эдакий скандал, в коммунальной квартире, да распределить между собой творческое пособие и несколько путевок в дома отдыха.
И то сколько всегда было хлопот! А теперь и мастерские, и заказы со всех концов страны («Петр Самсонович, скажите, это что, например, и из Ташкента может придти заказ?» -«Может, ясное дело. Вот ведь пришел же из Сибири, почему же из Ташкента не может?» – «Вот это да-а!») и уж путевки-то по-прежнему надо распределять.
Да что говорить, и Союз вырос, каждый год идет пополнение, взять хотя бы сына преподавательницы музыкального училища Шустовой! Все думали, что он вообще помрет, до того был тщедушный мальчик, а он, поди ты, отправился в Ленинград, окончил институт Репина при Академии художеств, отделение скульптуры, и вот уже год, как вернулся в свой город и стал членом Союза.
Так или иначе, но распределение мастерских окончилось. Получили мастерские, как уже известно, два старых скульптора, несколько живописцев, и среди них одна женщина, создавшая много прекрасных, ласкающих глаз своей красочностью, натюрмортов из овощей, фруктов и всяческой другой снеди: свежей рыбы, бараньих туш, ощипанной домашней птицы и цветов. Получил мастерскую горлопан, напористый мужик, ему попробуй только не дай, скульптор Озеров.
Получил мастерскую и Андрюша Хаустов. Он оказался ближайшим соседом по мастерской с Озеровым, по одной лестнице, стенка в стенку.
Это и определило их дальнейшую творческую судьбу.
Теперь, когда с мастерскими было покончено, председатель Союза решил незамедлительно приступить к следующему распределению – распределению заказов, тем более, что сроки подпирали. К тому же кое-какие заказчики прислали своих представителей с тем, чтобы проследить, достаточно ли квалифицированы будут исполнители, и предостеречь их от желания пойти по пути халтуры, так как комиссия по приемке заказов будет состоять исключительно из московских и ленинградских мастеров изобразительного искусства.
Петра Самсоновича это все несколько раздражало. Он был человеком уравновешенным, уверенным в себе, в своем заслуженном авторитете, не нуждался в советах, умел сам принять решение.
Поэтому, охватив мысленным взором количество членов Союза, он отделил, опять же мысленно, скульпторов от живописцев, подсчитал количество скульптурных заказов, прикинул гонорарную стоимость каждого из них, и ничуть не смутился превосходством числа членов Союза над числом заказов. Он пришел к мгновенному решению, поразившему впоследствии всех своей справедливостью, создать творческие коллективы по выполнению заказов из двух-трех художников. А для того, чтобы не вызывать бесконечные, подчас бестолковые разноголосые прения по поводу того, кто с кем, кто что, Петр Самсонович мысленно же всех и все распределил.
По его соображениям, незачем было бы Звонцеву с пятого подъезда мотаться каждый день в первый к Крутову, когда Звонцов прямой сосед с Пряхиным и Сусловым, вот они и могут прекрасно взяться за барельефы для Пензенского городского рынка. Крутов, правда, по подъезду имеет соседкой даму – мастера натюрморта, но зато во втором мастерская его дружка Сахарова, так что надгробье павшему солдату прямо им. «Только бы не запили… ну да черт с ними… А этот..» – Петр Самсонович скривился, вспоминая, как настойчиво представитель неизвестного ему по картам, строящегося на Северо-Востоке страны, города, требовал, чтобы их заказ выполнялся непременно выпускником института Репина или Суриковского училища «…как будто это гарантирует талантливость исполнения?..».
– Ну что ж, пожалуйста: Хаустову и, – тут Петр Самсонович слегка передернул плечами, как бы отметая последние сомнения, – и Озерову. Ради бога, вот вам и Репин и Суриков – оба сразу! Опять же, соседи…
Там, где возвысилось новое шестиэтажное здание, берега реки одеты в бетон, украшены, чтобы преодолеть их с кучность железобетонными фонарными столбами, заканчивающимися затейливо изогнутыми металлическими стержнями, на концах которых сквозь плоские плафоны светят лампы дневного света. Холодно освещают они расставленные вдоль набережной скамейки, тоже от скуки, раскрашенные в разные цвета, и сиротливый ряд кругоголовых лип. Но зато дальше течет река, ничем не стесненная, в ее ласковых водах свободно отражается зелень то отлогих, то обрывистых берегов. Густо сбившийся непроходимый ивняк распустил по воде тонкие длинные прутья, как бы не довольствуясь влагой, обильно питающей его корни, а стараясь всей ненасытной плотью своей вдохнуть мягкую речную прохладу. Сочные покосные травы радуют глаз городского жителя, напоминая ему о плодородии здешних земель, внушая покой и уверенность в будущем. И хотя все понимали, что надо бы и дальше от моста, тоже бетонного, тоже украшенного загогулинами фонарей, одеть набережную в асфальт и бетон, как-то это все оттягивалось, и все радовались этому замедлению…
Из окна своей мастерской Андрюша Хаустов наблюдал по вечерам, тревожащий душу, закат на реке. Солнце уходило в излучину реки, как бы нехотя, как бы отчаянным своим гореньем споря с уже появившимся призрачным очертаньем луны.
– Слабая! Не можешь! – кричало солнце луне. – Не можешь!
А я могу, посмотри, я полный день светило не жалея сил! А сколько их еще у меня| Гляди, сколько у меня еще жару: все от меня полыхает – и зелень горит, и воды зажглись, и людям я могу еще дать тепла… могу, слышишь, могу!.. – вскрикивало оно последний раз, но ничего не могущее более, пустое и легкое, опускалось в излучину.
Андрюша стоял еще у окна, прижав лоб к разгоряченному стеклу, а потом ощутив духоту, распахивал его, жадно вдыхал прохладу внезапно смеркшегося дня.
Ушедшее до нового дня солнце уносило с собой все дневные думы, и в наступившей тишине Андрюша еще немного любовался видом расцвеченного новыми огнями города. Вот там, за мостом, на другом берегу, тянется прямая широкая улица, и от нее разлетаются в разные стороны переулочки, как от сильного ствола разметавшиеся сучья и молодые побеги.
В одном из этих переулков среди невидных из окна мастерской приземистых облупившихся домишек, притулился и его, с какого-то не младенческого, но раннего возраста ставший родным дом. В доме всего два этажа; в нижнем расположен магазин канцелярских товаров, в котором маленький Андрюша покупал свои первые цветные карандаши и коробки с разноцветными палочками пластилина, а во втором, в коммунальной квартире, одной из семи квартиросъемщиков, является Лидия Николаевна Фаустова.
Вплоть до самого возвращения Андрюши из Ленинграда Лидия Николаевна преподавала в музыкальном училище игру на рояле. Но к тому сроку, когда Андрюша защитил диплом, застаревшая катаракта на обоих глазах окончательно застлала от нее божий свет, и работу пришлось оставить. Этому минуло уже больше года, но ослепшая мать все продолжала радоваться, что все-таки дожила, осилила, преодолела недуг, на все время пока учился ее сын, и сумела поддержать его материально в студенческой жизни.
Теперь, когда слепота оградила ее от множества повседневных, суетных дел, она подолгу просиживала у раскрытого рояля, время от времени перебирая одряхлевшей рукой клавиши и предаваясь воспоминаниям.
Отнявшая у нее, на все оставшееся время зрение, жизнь, ни в какие сроки
не была к ней ни слишком ласкова, ни слишком добра. Лидия Николаевна минутами искала этому объяснение, пытаясь уличить себя в какой-то большой вине перед жизнью, но мысленно перебирая содеянное, такой вины не находила. И тогда она говорила себе:
– Нет, я ни в чем не виновата. Да, жизнь вовсе и не хотела меня наказать…
Если бы все, что падает на долю человека в его долгой жизни, он принимал бы, как наказание, откуда бы он брал силы вытерпеть и пережить?.. И откуда бы он брал силы радоваться еще, смеяться и растить новую жизнь?..
– Если бы я верила в наказание, разве я смогла бы жить, когда не стало
Мирона и Ярослава?
– Нет, не смогла бы…
…Андрюша хорошо помнил своего отца. И старшего брата тоже…
Мирон, отпрыск бродячего цыганского рода, дал жизнь двум сыновьям: старшему Ярославу и, за три года до войны – Андрюше.
Любовь студентки Ленинградской консерватории Лидии Николаевны и медика Мирона, вырванного из жизни табора революцией, для всего лучшего в этом мире, слилась в единый звук старенького рояля в Лидочкиной комнате, где-то на Подьяческой улице, и цыганской скрипки, с которой не расставался Мирон, и которую по сей день хранит Лидия Николаевна, Эта скрипка – вот все, что мог получить в завет от отца Андрюша, да еще смуглость лица и огромность глаз.
Сын Ярослав, росший подле отца, был и лицом и характером больше в мать, но в отца – рослый и плечистый. Они погибли в один год, и отец и сын. Уже эвакуированная в город, в котором живет и поныне, Лидия Николаевна одну за другой получила две похоронки. В одной говорилось, что майор медицинской службы Мирон Константинович Хаустов, делая под огнем противника свое геройское дело, пал смертью храбрых, а в другой сообщалось о том, что оборвалась как скрипичная струна, самая тонкая и нежная, жизнь славного солдата Ярослава Мироновича, девятнадцати лет от роду.
А Андрюше шел шестой год.
Голосу не хватало силы для крика, и слезы перегорели в глазницах, жгучей солью разъедая веки.
Мать растила сына, вырывая его тщедушное тело, то из желтого огня кори, то из мучительного скарлатинного бреда, и только поставит на ноги, порадуется первым шалостям живого сына, как тут же свалит его дифтерит, а за ним свирепый сыпняк. Самыми светлыми были дни, когда болезнь оставалась позади, и, сидя на постели, по-турецки подогнув голенастые ноги-прутики, Андрюша с первым аппетитом проглатывал две-три ложки бульона из, чудом как, раздобытого цыпленка. Окрепнув настолько, что переставали дрожать ручонки, Андрюша просил мать перед уходом на работу положить ему у кровати бумагу и карандаши. Потом, с возрастом, Андрюша, все так же много болевший, занимал долгие часы материнского отсутствия, вырезая из подобранной возле печки деревянной колобашки, подаренным матерью перочинным ножом разные фигурки, то человека, то какой-нибудь другой живой твари.
Годам к тринадцати Андрюшино умение резать по дереву принесло ему первую славу, а матери новую жестокую заботу.
Только что расцветающая послевоенная жизнь еще мало давала себя знать в этом, захолустном тогда, городе, а текла какое-то еще время, по-прежнему заполняя его главную площадь сутолокой стихийного базара и барахоловки. Здесь-то с утра до сумерек и толпились городские мальчишки, всегда готовые обчистить чужой карман, подобрать, что плохо лежит, затеять свару, а в запальчивости ловко вывернуть припрятанный в рукаве нож. Нож должен был иметь каждый, раздобывались они всякими, известными только одним мальчишкам путями, а вот рукоятки к ним из ольхового сука резал, как никто другой, худосочный Андрюша Хаустов, по прозвищу «Цыган». Его умения и фантазии хватало на десятки таких рукояток, снабженных то затейливым орнаментом, то изображением двух сцепившихся в схватке барсов, или кого-то вроде барсов, то вдруг рождалось очертание головы коня, а по всей рукоятке заплеталась его разметанная грива.. Выросшие в безласковости войны дети, легко добирали сказочность детства, и тянулись ко всему, от чего веяло загадкой и непостижимостью вымысла.
Искусство Цыгана придавать простому ножу подобие настоящего пиратского кинжала, снискало ему почет и уважение. Он стал своим человеком на базарной площади, и даже враждующие между собой ватаги оставляли за ним право соблюдать нейтралитет И хотя Андрюша был одним из немногих мальчиков, регулярно посещавших школу, у него хватало досуга, между занятиями и обязательной резьбой ножевых рукоятей, мотаться по базарной площади в свите отчаянных огольцов, извергая цветистую брань, сплевывая сквозь зубы, горланя разудалую воровскую припевку. Его узкоплечая фигурка по-блатному сутулилась, шея как бы в поисках добычи вытянулась вперед, а в лице обострились цыганская горбинка носа и резкий разлет ноздрей.
Глядя на своего сына Лидия Николаевна сжималась от страха, не радуясь, узнавала в его чертах молодую свою любовь – Мирона, и еще больше пугалась, ощущая всей плотью, цыганский стремительный бег сыновьей крови.
В городе уже открылось к этому времени музыкальное училище, и Лидия Николаевна, всю войну работавшая воспитательницей в детском саду, с первых дней открытия училища перешла туда на преподавательскую работу.
Но не ее благоприобретенные познания в педагогике подсказали ей путь к спасению сына, а только материнское скорбящее сердце…
Андрюше шел четырнадцатый год, когда однажды мать изловила его на базарной площади, приволокла за руку домой, бухнулась пред ним на колени и, простирая к его ногам, выхваченные из сумочки, заработанные деньги, умоляла брать их у нее, и только у нее, брать все, ни о чем не думая, сколько ему захочется, сколько есть, но только не брать чужого. В жестокости четырнадцати лет нет ни разумного, ни закоренелого, и поэтому она беспредельна и непоследовательна. Теперь, когда мать, уходя на работу, оставляла все деньги на обеденном столе, Андрей спокойно проходил мимо них к входной двери, но когда ему однажды пришла идея купить продававшееся по случаю охотничье ружье, он взял со стола всю месячную зарплату, все, на что надо было жить им двоим, и ушел из дома.
Исчезновение денег для Лидии Николаевны не было неожиданным ударом. Она все время ждала, что это случится, но не думала, что сын возьмет сразу все, и не придумала загодя, как же в таком случае существовать. Пару дней они перебивались как могли на домашних запасах.
По ночам, уставившись в потолок, Лидия Николаевна тихо переговаривалась с Мироном. Память души никогда не разлучала ее с мужем, и во всякую минуту жизни она могла говорить с ним, требуя помощи, советуясь и делясь. Так, обсудив с ним положение, она собралась наутро, когда Андрей уже ушел в школу, обтерла бережно сырой тряпкой футляр, еще раз приложилась к нему осунувшейся щекой и печально вынесла из дома скрипку. Больше во всем их с Андрюшей хозяйстве продавать было нечего.
По базарной площади Лидия Николаевна шла, вся съежившись от стыда и боли. Она все не решалась остановиться и раскрыть футляр, предлагая свой товар вниманию публики.
Наконец, на дальнем, почти пустынном углу площади, она остановилась, ругая себя за робость и нерешительность… И в этот самый миг она услышала хриплый, не по-детски, но до отчаянья родной зов:
– Мама! – Андрюша стоял перед ней и смотрел на скрипку напряженно, не то соображая что-то, не то вскидывая в своем мозгу какую-то давно забытую память.
– Мама! – сказал он еще раз и положил руку на скрипку.
Где и когда он усёк ее взглядом и сколько он шел за ней по пятам, и почему он не в школе, а здесь – все это пронеслось в ее голове и смерклось тут же. Завороженно они оба глядели сейчас на скрипку, каждый вымеряя свою вину перед памятью отцам, и в кровной любви мать выгородила сына, приняв всю вину на себя. Как смела! Как могла подняться ее рука?
Слабая, жалкая, глупая мать!… До чего же ты дальше-то дойдешь?! – кричало ее сердце, и она склонила голову, не удержав в глазах большие горючие слезы…
Они медленно шли домой не через базар, а другими улицами шли медленно и молча, и только дома Андрюша, выкладывая из кармана почти не растраченные деньги, с мужским мужеством и прямотой, сказал:
– Мам, я на десять рублей дроби купил, а ружье – не успел… Ты больше не оставляй денег на столе – мало ли, пожар случится…
Зарожденное в тот день ее отчаяньем, сознание ее женской слабости и его мужского долга разросталосъ в Андрюше, отрывая от мальчишеских ватаг, и все ближе родня с матерью. Это было сознание равенства и дружества, и оно вернуло матери сына, и сколько светлого принесло ей в остатке жизни!
По-прежнему сутулый, до невозможности худой, он мужал духом, с каждым годом все более раскрываясь ей и становясь понятней. Его душа теперь уже целостно отданная искусству, находила в сердце Лидии Николаевны полный отзвук.
Долгими вечерами они могли говорить о любимых поэтах, и открывая Андрею тревожную тайну поэзии ее молодых лет, споря с сыном о музыке, о родственности мышления образного, звукового и пластического, Лидия Николаевна вновь и вновь переживала вдохновение своей молодости…
Нет, она не могла, старая теперь и слепая, думать о жестокости жизни, ибо и тогда, раньше, многие годы назад, радостно променяла бы реальное очертанье предметов на счастье созерцать незримое: жизнь уже утраченную в будущей – себя в сыне своем, отца в сыне своем, брата в брате; на счастье познать слияние духа, на счастье познать природную цель жизни…
……………………………………………………………..
Где-то на Дальнем Северо-Востоке страны строился и хорошел, город.
В климате, неуютном для шумных радостей и бурных страстей, жители этого города решили воздвигнуть наперекор всему большой стадион. В зимнюю непогоду, в его обширном зале, будут они меряться силой в борьбе и беге, в ловкости и бесстрашии.
Стекло и бетон оградят их нагие тела, упругие и пружинистые, от злобности стужи, а мягкий, не здешней теплоты, воздух, будет ширить легкие, а глаз радовать созданные вдохновеньем неизвестных им доселе скульпторов Андрея Хаустова и Геннадия Озерова барельефы протянувшиеся вдоль всей стены зала…
– Нет, – думал Андрюша, глядя на расставленные доски, – они не должны быть скучными. Они должны быть для людей легких и веселых, чтобы глядя на них, люди еще больше любили бы крепость и красоту своего тела. Экое создание – человеческое тело: чем оно прекраснее, гармоничнее, тем больше ловкости и силы в нем заложено. Как это все замечательно понимали древние.., как они умели это воспеть!.. А теперь все больше прячут художники человеческое тело под разного рода одеждами. Вон Озеров Генка, так тот успокоиться не может, каждый день, как приходит, так сразу в истерику: «Давай, Андрей, оденем их, к черту!”… Не пройдет так…» Почему? Разве, когда лепит человека художник, или рисует, для него важно, что на этом человеке надето? Или, может, только он сам, его душа, жизнь в нем заложенная – важна!
В нем и в тебе – художнике! А ты, Озеров, не трусь, примут… Я секрет такой знаю, что примут…
Андрей вспомнил про «секрет» и усмехнулся. Это он, конечно тогда, уговаривая Озерова, лишку хватил, уговаривал, как ребенка. Но с другой стороны, выхода не было: Озеров начал такое загибать поначалу! Они долго спорили, потом решили представить на утверждение худсовета оба эскиза: каждый свой делал самостоятельно.
Глядя на эскиз Озерова, Андрюша мучительно щурился.
– Чего щуришься, Хаустов, – огрызнулся Озеров, – думаешь не пройдет?
– Да, нет, Гена, я так… Смотрю вот и понять не могу; ну, пройдет, ну, не пройдет, а тебе-то самому нравится, а? Или, может и самому не нравится, а просто уже привык к такому…
– К чему «такому»?
– Да вот к этому – звонкому и пустому, а главное ведь что: не человеческому, не искусному… Ты вот подумай: конечно, с одной стороны, ты можешь вроде как бы изобразить труженицу полей, бабу со снопом колосьев, и добытчика черного золота, шахтера, якобы, это по его одежде будет видно… Но с другой стороны – человека нет, а есть только его амуниция да причиндалы – сноп, да бурильный молоток. И то мертво, и люди не живут… Вот я и боюсь: может они-то свое дело хорошо делают, а ты как бы плохо…
– Даешь, Хаустов! Я плохо, а ты хорошо?
– Не знаю. Вернее, я-то уверен, что хорошо и так думаю, это и людям понравится. Как-то верю, это понравится…
– Ладно, замнем, пока. Нас с тобой худсовет разберет…
Худсовет разбирал долго и нудно. Кто-то говорил, что безобразно и непростительно выставлять советских людей в голом виде, как будто у них нет одежды, и потом, совершенно непонятно, куда они стремятся, эти голые, летят, парят, в каком-то уму непостижимом сплетенье?.. Говорили, что бессюжетно и даже, если хотите, абстрактно это все, тогда как у Озерова – конкретная реалистическая композиция, правда, надо еще поработать, найти, решить, главное – в самих фигурах что-то нащупать. Но, во всяком случае, если думать о дальнейшей совместно работе, то уж, конечно, за основу надо брать эскизы Озерова..
Но раздались и другие мнения, тоже уверенные и бесповоротные. Их авторы убедительно и с наскоком говорили о высоком назначении искусства воспитывать эстетически, сеять вдохновение, подымать человека в его собственных глазах, а не унижать недоверием к возможностям его восприятия. Искусствовед Консовский (тайная гордость с Союза – еще бы свой, знаете ли, критик, имеет в Москве изданные брошюры»…), говорил о работе Хаустова так красиво и страстно, что невольно захватил аудиторию, и многие почувствовали в себе немедленную потребность вот сейчас же безотлагательно начать творить прекрасное, высшее, во веки веков, для человечества. Минуту такого духовного подъема пережил и Петр Самсонович. Находясь всем сердцем сейчас на стороне Хаустова, он с раздражением взглянул на понурившегося Озерова, перевел взгляд на его эскиз и с болью подумал: «да, дал же я маху: не надо было их вместе-то. Надо было Озерова третьим к Нряхину с Сусловым» – но тут Петр Самсонович вспомнил, что к Пряхину с Сусловым он подключил уже Звонцова, и вообще, нечего всякие пepемены тут устраивать: Хаустов тоже, чего доброго, зазнается…»
И Петр Самсонович сказал:
– Ну вот что, друзья! По моему вся ясно, – хотя полной ясности он сам не ощущал, – мы все знаем наших молодых коллег и верим им. Но можем кое-что и посоветовать: надо работать, работать и еще раз работать. Андрей Миронович в свое время блистательно защитил диплом в Ленинграде. Мы имели удовольствие читать о его дипломной работе в центральной печати. Гордимся тем, что сделанное им, как дипломная работа, надгробие великому русскому композитору установлено в городе, который весь мир считает сокровищницей русской культуры, – Петр Самсонович говорил, увлекаясь все больше, а тем временем в нем прояснилось и крепло решение. – Он уже, так сказать, показал себя зрелым мастером. В свою очередь, в тебе, Геннадий Михайлович, зреет тоже не малой величины художник. И не зазорно будет вам друг у друга поучиться, тем более, что работа в коллективе воспитывает. Думаю, мы окажемся правы, приняв эскиз Хаустова, с учетом того, что в дальнейшей совместной работе он наполнится дыханием реализма, свойственного творчеству Озерова. И пожелаем нашим молодым художникам большой удачи!
Петр Самсонович, ты хотел только хорошего и, в сущности, тебя не в чем винить…
Незаметно для Андрея отгорело и погасло бабье лето. Пошли удручающие душу дожди, но и их Андрей не заметил. Ему некогда было чувствовать перемену в природе. Солнце еще не успевало вползти на небо, как он уже поднимался на ноги,
Кое-как перекусывал и шел через мост, в мастерскую. В осенней прохладе
ненаступившего утра, его щуплая ссутулившаяся фигура казалась не то детской, не то вовсе старческой. Его одежда давно уже требовала полной замены, волосы отросли и спутались на концах, но все, что не касалось работы, откладывалось им напотом, когда работа будет закончена.
Единственные минуты отдыха и то не полного, не мысленного, а только физического, наступали, когда е мастерскую невзначай забегала Галочка.
Она звонила два коротких раза, и каждый раз Андрей на секунду вздрагивал сердцем, но тут же упрекал себя в этом, делал над собой усилие, обчищал с рук глину и шел открывать.
Когда-то Галочка была маминой ученицей, и часто наведывалась к Лидии Николаевне то за нотами, то за советом, а то и просто в гости. В последний год перед Андрюшиным отъездом в Ленинград, эти визиты участились и когда Андрюша шел ее провожать, Лидия Николаевна с особой теплотой целовала нежный лоб девочки, приглашая непременно заходить и завтра и послезавтра. И она непременно приходила, и только один раз не пришла – в день отъезда Андрюши.
Его отъезд показался ей несправедливым, обидным для нее. Эгоизм проросшей в ней женской любви требовал для себя первого места в сердце любимого человека, порождал неосмысленную ревность, несуществующее соперничество, и обидность поражения.
Вернувшись в свой город, Андрей встретил как-то Галочку неподалеку от своего дома. Она по-прежнему имела вид юный, и если Андрей за эти годы загрубел и окончательно сгорбатился, то она не утратила ни стройности фигурки, ни нежности лица, несмотря на то, что за руку ее держал двухлетний карапуз, переваливающийся на толстых растопыренных ножках. Вт встреча смутила обоих, хотя каждый из них впоследствии признался, что ждал ее и по-своему к ней готовился.
Поскольку тогда, перед отъездом, Андрей не произнес каких-то важных для любви слов, каждый из них мог теперь сделать для другого вид, что ничего кроме юношеской дружбы их не связывало, а значит, не было ничего, что могло бы эту дружбу нарушить.
И вот теперь иногда, правда, очень редко, Галочка коротко нажимала звонок у двери мастерской; и Андрей встречал ее с лицом, озаренным какой-то особой ласковостью.
– Ты только, Андрюша, не отвлекайся, – смиренно говорила Галочка, свыкшаяся с пережитым поражением, – я на антресоль пройду и просто посижу там…
– Я устал, мне отдохнуть надо. – И действительно, он ощущал в эти минуты усталость и потребность в отдыхе.
– Ну, посиди со мной…
По шаткой деревянной лестнице друг за другом они подымались на антресоль, устроенную в части мастерской заботливыми строителями для отдыха художника или для какой-нибудь другой нужды.
Там они усаживались друг подле друга на старый, поставленный на ножки матрас, и некоторое время в стеснении молчали. Всякий раз Галочка, не зная, что ей еще делать, брала в руки одну из разбросанных по матрасу и на полу книг и начинала задумчиво перебирать страницы. Иногда это оказывалась книга знаменитого путешественника о диковинных морских животных, иногда рассказ о последних днях фашизма, иногда что-нибудь из созвучной времени художественной литературы, а чаще всего это оказывались стихи. Бывало, заработавшись далеко заполночь, Андрей и вовсе не шел домой, а забирался на антресоль, чтобы остаток времени провести на ничем не покрытом диване, а так как сон не всегда приходил сразу, Андрей еще некоторое время читал, и поэтому множество уже прочитанных им книг было разбросано по антресолям. Его любимые поэты, вмещенные в однотомные издания, находились здесь постоянно, и когда Галочка брала один из этих томов в руки, Андрюша, отвлекаясь от своего волнения, вспоминал любимые стихи, и тихим голосом с хрипотцой начинал читать, только изредка перебивая свое чтение словами: «А вот еще…»
Он читал стихи прекрасно, не нарушая их поэтического строя, всей душой откликаясь на каждый музыкальный тон стиха.
В эти минуты Галочке казалось, что из мира обыкновенного и скучного она чудесным образом перелетала в мир, полный прекрасного, таинственного и необычного.
Сквозь тонкие перильца антресолей она разглядывала воспарившие в прыжке, устремленные в беге, то натянутые струной, то изогнутые, чтобы взвиться, прекрасные тела на установленных в работе досках, а слух ее ловил высокие слова, воспевающие все человеческое: непознанную страсть, сокрушающую душу тоску, земное место радостей, горестей и надежд…
Более всего Андрей боялся в эти минуты прихода Озерова. Открыв своим ключом дверь, он входил размашисто, по-хозяйски останавливался посреди мастерской, оттянув резинку тренировочных брюк, звучно хлопал себя ею по животу и нарочито громко кашлял, будто полагая, что только этим дает о себе знать.
– Пардон, – говорил он затем, -я, кажется, не вовремя.
– Что вы, что вы, Гена! Здравствуйте, – лепетала подскочившая к перилам Галочка.
– Я ухожу, мне пора… – И мелко перебирая ногами, сбегала вниз.
Проводив Галочку, Андрей снова принимался работать, мысленно поругивая Озерова и удивляясь ему.
Удивляться было чему.
С этого самого худсовета, на котором им, в конечном итоге, пожелали больших успехов в работе, Озеров, с одной стороны, как бы сник, проявляя нарочитое равнодушие и предоставляя Хаустову полное право работать, как ему хочется и сколько хватит сил. Появляясь в мастерской время от времени, он добровольно принял на себя кое-какие тяжелые обязанности подсобника в работе скульптора – то глины натаскает и приготовит ее, то доску сколотит и зальет, оставляя за собой при этом некий хозяйский тон, как будто он нанял Хаустова и заказал ему сделать работу хорошо.
– Смотри, Хаустов, скотиной будешь, если провалимся, – говорил он, усаживаясь на табурет позади Андрея, – сам будет расхлебывать, если не примут…
Охваченный вдохновеньем, Андрей радовался свободе и не раздражался на его слова, а легко шутил в ответ:
– Со скотины, Гена, какой же спрос? Спрос с того, кто погоняет…
– Ну, ты это брось…
Со временем в жизни Озерова произошло событие, которое вовсе отвлекло его от работа: от него ушла жена.
Два года назад он женился на балерине из здешнего театра но что-то не сладилось в
их совместной жизни, и вот она его покинула. Все, что знал об этой истории Андрей, он знал из путанных слов Озерова, который, приходя теперь в мастерскую, только об этом и говорил, начиная, впрочем, иногда издалека:
– Вот, Хаустов, смотрю я на тебя и понять не могу: и что это бабы в таких, как ты, находят? И сам-то ты весь крючком, и нет в тебе этого, знаешь, ну, мужицкого, и е голове у тебя все наперекосяк. Ну что, ты мне скажи, что может в таком, как ты, привлечь женщину?
– Гена, ты что! Таня ведь не ко мне ушла. Ты что на меня тянешь?
– А! Тянешь?! Нет, я на тебя не тяну. Мне на тебя плевать. Я о другом думаю…
– Озеров вымерил тяжелым шагом из конца в конец мастерскую и вдруг, остановившись подле Андрея, закричал ему в ухо:
– Я о ней, суке!.. Она… еще пожалеет! Ты помяни мое слово: пожалеет! По ночам зубами скрипеть будет! Вспомнит меня… Локти кусать будет… Но нет, поздно… поздно! Озеров не простит.
– Чего ты орешь! Еe-то здесь нет. И потом, почему ты думаешь, что она будет исключительно «по ночам зубами скрипеть»? Может, она как-нибудь днем по тебе заскучает…
– Почему по ночам, говоришь, – совсем обалдевший Озеров вдруг схватил Хаустова за грудки, отвернул от станка и, уставясь ему в лицо бешенным глазом, дохнув перегаром, сдавленно за шептал:
– Потому, что я баб знаю, натуру их знаю: днем им разговорчики подавай, там всякое… стишки наподобие… да ладно – я тебе, говорю, знаю! Только мне не к чему это… А вот ночью ей мужик нужен, да чтоб… – тут Озеров совсем приник к Хаустову и выдохнул ему в лицо всю грубость своего жизненного убеждения.
– Нет, скажешь? Я знаю, ты-то «нет» скажешь… – он отпустил Хаустова, и тот сразу же повернулся к станку. – И чего я с тобой говорю, когда ты сам стишками пробавляешься…
– Заткнись, Озеров, – через плечо огрызнулся Андрей, работая стеком, – По-моему, у тебя сексуальное помешательство. Эротомания. То, что ты говоришь, ненормально, ты обратись к врачу. Этим вопросом занимаются сексологи.
– Чего? Чего ты мне мозги пудришь?
Озеров, выдохнувшись, снова уселся на табурет, – И нравится же вам словами человеку душу мотать, ей-богу. А я художник, понимаешь – художник! А художник, известно, как собака…
– «Все понимает, а сказать не может»?
– Точно! А ты вот только и можешь тары-бары разводить. Это в тебе от слабости, весь твой выверт от слабости. Плевать я на это хотел…
– Ну, Озеров, однако, собаки обидятся, сколько ты наговорил сегодня…
– Ну тебя… Хаустов… Пошел ты…
И откинув в сторону табурет, Озеров закончил этим свое изнурительное для Андрея присутствие в мастерской.
Тяжело вынашивает скульптор замысел, сладостно и запойно воплощает его в жизнь, по-деловому мастеровито переводит в гипс. И может быть, только когда начинает работать над камнем, постигает он величие своего назначения. В тяжелом труде каменщика познает веками утвержденный пафос содеянного им.
Камень есть вечное, не подверженное течению времени, и если ты не уверен в принадлежности твоего детища другим временам, не берись за него.
Слишком тяжела эта работа для бесплодного усилия.
Но в камне, ваятель, величие твоей жизни, твоя слава в веках…
С восхода солнца до заката рубит Андрей розовый искрящийся гранит. Рубит исступленно, заматерев в тяжести своего труда, забыв о том, что есть воздух слаще того, смешанного с гранитной пылью.
Где-то в других безрадостных временах остался заказ для сибирского города, щедрая похвала приемной комиссии и подлое предательство Озерова. Пожалуй, только едкое недовольство собой разъедает временами душу. Но Хаустов не знает толком, отчего оно просочилось: отчасти оттого, что работа ушла, непоправимо сбыта с рук, а теперь вот кажется, что-то не так в ней, не дожал, не сумел преодолеть себя; отчасти, просто остался осадок от пережитых волнений, от того, как сдавали нервы, как просил в последний день Озерова помочь, не предать, а тот предал…
К тому дню, на который была назначена приемная комиссия, почувствовал Андрей крайнюю усталость и полное нервное изнеможение. И за все время единственный раз обратился он к Озерову с просьбой:
– Гена, – сказал он жалко и бессильно, – ты уж будь человеком, завтра не пей, а давай как-нибудь помоги сдать-то. Поприсутствуй хоть…
– Ну а что ж я, не приду что ли!? – отвечал Озеров, но что-то в том, как говорил Хаустов смертельно испугало его. Не душевной усталостью, не слабостью нажитой в утомительном труде, а неуверенностью и сомнением отозвались в нем слова Андрея.
«Ну нет, заварил кашу, сам и расхлебывай!.» – пронеслось в его голове.
Два молодых, коротко стриженных, крутолобых, с хорошими лицами, представителя сибирского города (один из них оказался архитектором стадиона, а другой из горкома партии) прибыли в сопровождении большого худсовета из прославленных московских и ленинградских художников. Имена их до крайности взволновали Хаустова. Особенно благоговел он перед женщиной-скульптором из Ленинграда. Он высоко ценил ее творчество и нервно переживал свой предстоящий экзамен перед этим, не могущим простить ни малейшей фальши, художником.
Вошли в состав приемной комиссии и Петр Самсонович, и доброжелательный искусствовед Консовский, и два уважаемых городских ваятеля.
Хаустов пришел в мастерскую спозаранку и непрерывно нервничая, ждал, как утешения, прихода Озерова.
Работа была закончена, доски расставлены для обозрения, и не подымая до них рук, Хаустов все ходил по мастерской, то взглядывая на часы, а то взбирался на антресоль и в изнеможении бросался на диван, устремляя в потолок бледное осунувшееся горбоносое лицо. Он все ждал, что вот сейчас придет Озеров и тоже будет волноваться, а ему, Хаустову, придется говорить спокойные утешительные слова, и тогда на самом деле он успокоится и вернет себе необъяснимо утраченную уверенность.
Но Озеров не пришел.
На лестничной площадке раздалось множество голосов, и в дверь позвонили. Хаустов сбежал с антресолей и впустил в мастерскую прибывших судей. В тот момент, когда они переступили порог, вежливо здороваясь и представляя друг друга, вернулось к Андрею спокойствие. Но это спокойствие не было равнодушным или отчаянным. Оно пришло вместе с вдохновением, которое, должно быть, испытывает актер, мастер своего дела, наконец, вступив на сцену и представ перед открытым лицом зрителя…
А в это самое время Озеров, долго колеблясь между слабым желанием исполнить свой долг и отчаянным предчувствием провала, оказался за столиком в подвальном ресторанчике при Союзе художников.
Напротив него сидел удручающе длинный, худой человек, в обтрепанном, болтающемся, как на вешалке, зеленом костюме, непрестанно улыбающейся беззубой щелью рта и воспаленными от пьянства глазами. Это был некто скульптор Косов – личность, понаделавшая в свое время немало переполоху в Союзе.
Он начал свою деятельность, как способный художник, к тому же обладающий недюжинными административными способностями. Его страсть к организации художественной самодеятельности, умение произнести речь на собрании, вникнуть в суть какого-нибудь запутанного дельца, многих приводили к мысли, не пора ли заменить им Петра Самсоновича на ответственном посту председателя? Но то ли ему все это однажды надоело, то ли жило в нем постоянно и рвалось наружу некое озорство, но только он сам оборвал внезапно свою карьеру, выйдя приветствовать иностранную делегацию художников в одних подштанниках, сиреневых, самого низкого качества. Скандал был невообразимый, тем более, что в составе делегации присутствовали женщины.
Из всех обсуждений и нареканий Косов ничего полезного для себя не вынес, а наоборот, ударился е беспросветное пьянство и непрерывное озорство.
Вот и сейчас, уже совсем плохо соображая, он ежеминутно прерывал жалующегося ему Озерова, тыча пальцем в выставленную на стол бутылку, наполненную водой, в которую чудесным образом загнал деревянный крест. Крест был большой, его перекладина в самом широком месте упиралась в стенки бутылки, и это вызывало упоительный восторг в Косове самом, содеявшем это чудо:
– Ген, а Ген! Ну, ты посмотри! А!? Ты так сможешь, я тебя спрашиваю?.. Вот то-то и есть, что нет! А кто смог, спрашиваю? Косов!
Уже много выпивший Озеров, соображая тоже только чуть-чуть и про свое, отвечал ему невпопад, но с известным приемом хитрости:
– Вот я и говорю: кто может? Юрка Косов может! И я могу! А он? Разве он, цыганская харя, может1? Он лошадей воровать может, а лепить – нет уж, извините… Но подлый, до чего подлый, Юра, ведь как оттер!..
– А ты меня спроси «как»? А я тебе секрета не выдам! Ни-ни! – растянув от уха до уха узкую щель рта, слегка прищурившись и склонив набок голову, Косов водит перед носом Озерова пальцем. – Тут самому соображать надо! – и он любовно глядит на бутылку с крестом.
– А если они заодно были? Тогда что? Одному на них переть?! Нет уж, извините! Я так и решил: ладно, пусть делает. Все знают: я рук не приложил. Вот и на приемную не пошел, сижу здесь с тобой. Пожалуйста, принимайте, – Озеров опрокинул рюмку, утерся и добавил: – Сами свой позор принимайте, мать вашу… А я еще покажу! Мы, Юра, еще покажем! – и он навалился грудью на стол, жарко дыша, а в это самое время Косов, оттянув двумя пальцами книзу красные веки, скосил к переносице зрачки, одним пальцем вздернул нос и втянул щеки. Сочтя секунду достаточной для впечатления, он отпустил веки и устало отвалив челюсть, сказал:
– О! Видал? То-то…
– Иди ты! – Озеров гневно откинул стул, и тут в ресторан вошла компаниях из трех человек: Яряхина, Суслова и Звонцова.
Тяжело переступая, набычившись, Озеров пошел к ним…
Неизвестно, кто впоследствии рассказал Озерову о том, что происходило в это время в мастерской у Хаустова и в точности ли так, как оно все было на самом деле, но одно определенно, что кто-то рассказал и потряс тем самым его душу до основания. Но только не сам Фаустов. Он разговаривать с Озеровым избегал, и не потому, что зазнался, и не потому, что ему, в свою очередь кто-то услужливо передал разговоры в ресторане, а просто отпала надобность.
Каждый из них, со своей заботой на сердце, получил причитающуюся по отдельному договору долю гонорара, и приступил к дальнейшей жизни.
Большую часть гонорара Андрей сразу же истратил. Он приобрел своей матери добротную теплую одежду: шубу из прекрасной выделки мутона, сапожки на меху, красивую шерстяную шаль. Все это было куплено за один раз и больше ничего в тот раз не попадалось, а то бы он и то купил. Делать покупки ему дружески помогала Галочка, украдкой ушедшая из дома», и Андрей еле удержал себя от желания сделать ей какой-нибудь от душевной щедрости подарок, но грустно подумал о сложности ее семейной жизни и подарил только маленький букетик слабых подснежников.
Он приобрел железный ящик для глины и наполнил его до краев; он приобрел много других материалов, оплатил намного вперед натурщика, а главной его радостью был вознесенный при помощи приятелей наверх большой красивый кусок гранита.
Остальных денег было немного, и они с матерью рассудили тратить их мало-помалу на жизнь, добавляя к ее пенсии.
Хорошая шла весна. Работалось легко и жадно; просторная мастерская впускала в окна много, жаркого, через стекло, солнечного света; горячилась кровь, рождая шальную жажду любви полной и безраздельной.
Но все неистовее вгрызаясь в гранит, Андрей знал, что наступит минута, и его прикосновения к камню станут чуткими, рассчитанными до того невероятия, когда рождается искусство большое и единственное…
Прерывая, иногда, чтобы передохнуть, работу, Андрей слышал доносившийся из мастерской Озерова нестройный гул разгулявшейся попойки: женский зазывной смех, грохот падающих предметов и все перекрывающее пение заезженной пластинки на полную мощность.
Озеров гулял шумно и безнадежно, потому что как только он трезвел, его снова начинало мучить предчувствие всех его обид, так, будто они не прошли уже, а только должны случиться. Если бы подле него была его жена Ъаня, он мог бы высказать ей свою тоску, заставить ее еще даже раньше себя поверить в то, что скульптор, приехавшая из Ленинграда принимать творение Хаустова, просто старая потаскуха, недаром она слюни распустила: «Это поразительно: какая сильная пластика, какая мощная динамика, как все взвешено в пространстве и какое бесконечное обаяние и лиричность, и вместе с тем, это напряженно, темпераментно»… Подумать только, чего наговорила! А этот старый дурак Консовский тоже распустил свой павлиний хвост: «Эта работа послужит не просто украшением здания, она будет существовать как самостоятельное произведение подлинного искусства и, кто знает, может быть пройдут годы…» и пошел нести свою околесицу.
Нет, тогда, раньше, когда все было хорошо, Таня поверила бы ему сразу, еще даже горячей, чем надо, и уже сама через край наполнившись обидой за него и злобностью, доказывала бы ему, что все-все дураки и сволочи в этой комиссии, и Хаустов первая сволочь, а он, Озеров, просто скромный, просто не выпячивается вперед, как другие: ну, не пришел, ну, говорил в Союзе, что рук не прикладывал – так ведь это из скромности, свой труд не ценит! А Хаустов – сволочь; он нарочно отмалчивается, когда его спрашивают, правда ли Генка рук не прикладывал, мол, промолчу, значит, – правда. И пусть он в сторону теперь воротится – стыдно ему в глаза смотреть… И выслушав это все от вздрагивающей от обиды Танечки, Озеров и сам в это поверил бы и успокоился бы ее убедительным сочувствием и полным пониманием. Но теперь кто-то другой, в чем-то другом убеждает его бывшую жену, а он мучится, ничем не скрытый сам от себя.