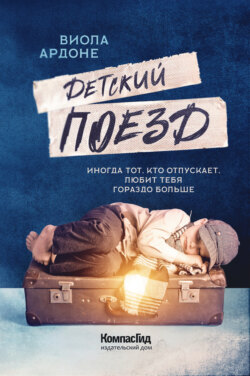Читать книгу Детский поезд - Виола Ардоне - Страница 7
Часть первая
4
ОглавлениеВнезапно погода портится. Моя мама Антониетта больше не отправляет меня тряпичничать – ещё и потому, что вслед за дождями ударили первые морозы. Трубочек она тоже больше не покупает, зато как-то сделала дженовезе[2] – объедение! Давешнюю монашку мы тоже не видели, а пересуды насчёт поезда соседям поднадоели и сами собой сошли на нет.
Без тряпичных денег нам с мамой несладко приходится, так что я предложил Томмазино основать своё предприятие. Поначалу, правда, он и слышать ничего не хотел – отчасти из отвращения, отчасти из страха, что всё откроется и мама в наказание отправит его на поезде куда подальше. Но я объяснил, что если даже Долдону удаётся заработать на всяких отбросах со свалки, то и мы сможем. Не такие уж мы недоумки, в конце концов! Торговать решили крысами, выдавая их за хомяков. Присмотрели лоток на рынке, среди клеток с попугаями и щеглами, разделили обязанности: мне ловить, ему перекрашивать. Это я придумал. Бывал там один американский офицер, разводивший хомяков, а потом продававший их на воротники богатым синьорам, которые после войны стали уже не такими богатыми: и экономия, и выглядит прилично. Так вот, крысы, которых я ловил, с отрезанными хвостами и выкрашенные краской для обуви в коричневый с белым, выглядели точь-в-точь как хомяки того американца! Сперва всё шло гладко. Клиенты к нам с Томмазино липли, как мухи на мёд, и, не пойди в тот ненастный день дождь, к обеду мы бы разбогатели.
– Ну вот, – сказал мне Томмазино, – раз мы теперь сами зарабатываем, тебе больше не придётся идти на поклон к коммунистам!
– Почему ещё? – удивился я. – Поездка на поезде – это же как летний отдых!
– Ага, только для умирающих с голоду. Знаешь, куда мама везёт меня отдыхать следующим летом? На Искью!
В ту же секунду небо будто рассвирепело, и начался ливень, каких свет не видывал.
– Слушай, Томмази, в следующий раз, как соберёшься так знатно соврать, сперва приготовь зонтик!
Мы-то, конечно, спрятались под карнизом соседнего здания. Но вот лоток с перекрашенными крысами остался под дождём, и не успели мы подумать, что неплохо бы его спрятать, как краска для обуви потекла, и хомяки снова превратились в крыс. Синьоры, столпившиеся вокруг клеток, тут же развопились:
– Мерзость! Зараза!
А сбежать-то уже и некуда: откуда ни возьмись появились мужья этих синьор с явным намерением нас отмутузить. К счастью, на шум подоспел и Долдон.
– Эту дрянь убрать, чтоб духу её здесь не было, – велел он, ухватив нас обоих за шкирки. – А с вами потом разберёмся.
Я прикинул, что взбучки не миновать, но больше он про крыс не упоминал. Только раз, зайдя к маме поработать, задержался у двери, отвёл меня в сторонку, затянулся напоследок сигаретой и, прежде чем выбросить, шепнул:
– Мысль, кстати, хорошая, вот только лоток накрывать надо! – Тут он хохотнул, и в воздухе поплыли колечки дыма. – Решишь заняться торговлей – дуй ко мне на рынок, я тебя научу…
Потом похлопал меня по щеке – я не понял, то ли ударить хотел, то ли погладить, – и пошёл себе дальше.
И я уже совсем-совсем было собрался к Долдону – только чтобы научиться, конечно. Но через пару дней его арестовали: видать, из-за той истории с кофе. О хомяках тут же забыли – все теперь говорили о Долдоне, которого посадили в тюрьму. А я думал: вот бы сейчас в глаза ему взглянуть да спросить, свободный он человек или нет!
Узнав об аресте, мама сразу убрала из-под кровати мешки с кофе и долго ещё, заслышав шум у дверей, закрывала лицо руками, будто пыталась исчезнуть. Но дни шли, а с обыском так никто и не явился и о Долдоне потихоньку забыли. Люди вообще сперва наговорят с три короба, а после всё забывают – ну, кроме мамы: та говорит мало, но чтобы какую мелочь забыть – никогда.
И вот как-то утром, когда у меня никакой поездки уже и в мыслях нет, мама поднимается затемно – даже солнце ещё не взошло, – надевает своё лучшее платье и тщательно причёсывается перед зеркалом. А мне выдаёт наименее поношенную одежду.
– Пора идти, – говорит, – не то опоздаем.
Тут я, конечно, всё вспоминаю.
И мы идём: она впереди, я чуть сзади. Начинает моросить дождь, я радостно шлёпаю по лужам. Мама отвешивает мне подзатыльник, но ноги уже мокрые, а идти долго. Я оглядываюсь по сторонам: надо бы посчитать обувь, побольше очков заработать – да только сегодня игра почему-то меня не увлекает. За крыть бы тоже лицо руками, исчезнуть, хоть ненадолго. Рядом идут ещё матери с детьми, и немало. Отцы тоже есть, но видно, что им сейчас больше всего хочется очутиться где-нибудь подальше. Один, не сбавляя шагу, пишет инструкцию по пользованию сыном: во сколько укладывать, во сколько будить, что любит на ужин, что нет, сколько раз в неделю ходит по-большому и чтобы непременно подкладывали под простыню клеёнку, не то может ночью напрудить в постель. Только дочитав список вслух, отец наконец разрешает униженному при всём честном народе сыну сложить листок вчетверо и убрать в карман, нарочно пришитый к рубашке изнутри. Потом, немного подумав, снова достаёт и дописывает благодарность семье, которая примет его отпрыска: мол, слава Богу, не так уж они и нуждаются, но сын настаивал, и они решили не спорить.
А вот женщины, ничего не стыдясь, ведут за руку кто по двое, кто по трое, а кто и по четверо детей. Это я в семье единственный ребёнок – даже со старшим братом Луиджи не успел познакомиться. И с отцом тоже – слишком поздно родился. Хотя, может, так и лучше: по крайней мере, отцу не будет стыдно провожать меня на поезд.
В конце концов мы приходим к длиннющему зданию. Моя мама Антониетта говорит, что это приют для бедных.
– Как так? – спрашиваю я. – Я вроде на Север, за лучшей жизнью собирался, а ты меня в приюте для бедных бросаешь? Да мне здесь только хуже станет! Может, надо было дома пересидеть?
Но мама объясняет, что, прежде чем отправить нас на Север, нужно всех осмотреть и понять, здоровы мы или больны: а вдруг какая зараза?
– И потом, – говорит, – вам ведь нужно выдать тёплую одежду, ботинки и шапки. Там, на Севере, знаешь ли, не как у нас, там – зима!
– А ботинки прям новые-новые? – снова спрашиваю я.
– Новёхонькие. Ну, или чуть поношенные, но зато целые.
– Два очка! – кричу я и, вмиг забыв об отъезде, скачу вокруг неё на одной ножке.
Перед зданием толпа, целая куча мам в окружении разновозрастных детей: младенцы, малыши, чуть постарше и уже большие. Я среди тех, кто чуть постарше. У входа стоит какая-то девушка – не Маддалена. И не одна из тех дамочек с рисом. Говорит, нужно занять очередь, анализы сдать, а потом каждому пришьют на одежду номер, чтобы различать, иначе, когда вернёмся, все дети перепутаются и никогда не смогут найти свою семью. Но мне-то моя мама нужна, я её на другую не променяю, поэтому вцепляюсь в мамину сумку и говорю, что, в конце концов, не так уж хочу эти новые ботинки: по мне, можно и домой пойти. Но она либо меня не слышит, либо не хочет слышать. А мне от этого так грустно, что даже живот схватывает. Может, стоило и дальше изображать дефективного, лишь бы не уезжать?
Я отворачиваюсь – не хочу, чтобы она видела, как я плачу, – и тут же едва не лопаюсь со смеху: в двух шагах позади меня в толпе стоит Томмазино.
– Томмази! – кричу я. – Ты что здесь делаешь? Паром на Искью ждёшь?
Он поднимает глаза – бледный как полотно, едва живой от страха. Выходит, его маме всё-таки пришлось просить милостыню! Тюха говорила, когда-то донна Армида была богатой, ужасно богатой. Она жила в роскошном дворце на Ретифило с кучей слуг, шила платья для самых знатных синьор, имела связи, а её муж, дон Джоаккино Сапорито, даже собирался купить автомобиль. Правда, если верить Хабалде, чтобы пробиться наверх, донна Армида только и делала, что фашистам пятки лизала (и это ещё прилично выражаясь). А как фашистский режим рухнул, пришлось вернуться к тому, с чего начинала. Мужа её, который был раньше большой шишкой, арестовали и долго допрашивали. Все с нетерпением ждали приговора: расстрел или тюрьма? Но ему так ничего и не сделали. Хабалда сказала, под амнистию попал. Это как когда моя мама Антониетта, обнаружив, что я разбил супницу, память о её покойной матери Филомене, царствие ей небесное, а нам всем крепкого здоровья, сказала только: «Убирайся с глаз моих, не то прибью на месте». Я тогда сбежал к Хабалде и дома пару дней не появлялся. В общем, этого фашиста, мужа донны Армиды, отпустили, он пришёл домой, и разговоры утихли. Но живут они теперь в бедном квартале, в переулке по соседству с нашим.
Пока донна Армида держала ателье на Ретифило, ботинки у Томмазино всегда были новёхонькими (призовая игра). Он и теперь их носил, вот только ботинки с тех пор износились и продрались (минус очко за каждый).
Завидев позади нас Томмазино, мама вздрагивает и крепко сжимает мою руку – напоминает о моём обещании. Я на миг цепенею, но потом оборачиваюсь и подмигиваю. Просто так получилось, что Томмазино иногда увязывался со мной тряпичничать, а донне Армиде это не нравилось. Она говорила, что её сыну нужно дружить с теми, кто лучше него, а не с какими-то проходимцами. И мама, когда об этом узнала, заставила меня пообещать, что я оставлю Томмазино в покое. Ещё не хватало водиться с отродьем всяких выскочек, особенно если Хабалда уверяет, будто они фашисты. В конце концов я пообещал своей маме не дружить с Томмазино, а Томмазино своей – не дружить со мной. Правда, мы всё равно каждый день встречаемся, но теперь – тайком.
А дети всё прибывают: одни пешком, другие на автобусах, предоставленных, по словам какой-то женщины, трамвайным депо, кто-то даже на полицейских джипах. Когда в них сидят не солдаты, а множество кричащих и размахивающих разноцветными флажками детей, эти джипы похожи на повозки для праздника Пьедигротта[3]. Я спрашиваю, нельзя ли мне тоже в джип, но мама говорит, чтобы я держал её за руку, не то потеряюсь. А если мне и в самом деле так не терпится потеряться, придётся подождать, пока пришьют номер. Народу вокруг очень много, девушка отчаянно пытается выстроить нас в одну ровную колонну, но очередь вьётся, как угорь в руках торговца.
Светловолосая девчонка, всё это время нывшая, что хочет поскорее садиться в поезд, передумала и теперь, рыдая, вопит, что никуда не поедет. Мальчишка с каштановой шевелюрой, чуть постарше меня, пришедший проводить брата, заявляет, что это несправедливо: почему он должен сидеть дома, когда его брат уезжает развлекаться? – и тоже плачет. Поднимается крик, подзатыльники так и сыплются, но всё без толку: рыдания не утихают, и матери уже не знают, какому святому молиться, чтобы всё это кончилось. Наконец подходит одна из девушек, которые вносили нас в список, вычёркивает блондинку, вписывает имя мальчишки с каштановой шевелюрой, и все довольны. За исключением матери блондинки, которая, уводя дочь, ворчит: «Дома разберёмся».
В какой-то момент я вдруг слышу знакомый голос: к нам движется плотная группа женщин с Тюхой во главе. Сама Тюха машет руками и орёт так, что другая на её месте давно бы глотку сорвала; на груди – король Умберто, пришпиленный булавкой. Впервые увидев у неё в полуподвале этот портрет, я поинтересовался: это что за юный красавчик с усиками, никак, жених ваш? Тюха сперва замахнулась на меня: мол, как я смею оскорблять память её покойного жениха, погибшего в Великой войне[4], царствие ему небесное, человека, которому она ни разу не изменяла, даже в мыслях! Потом трижды перекрестилась, поцеловала кончики пальцев, послала в небеса воздушный поцелуй и рассказала, что молодой человек с усиками был нашим последним королём, царствование которого закончилось, не успев начаться, поскольку кое-кому взбрело в голову поиграться в республику и даже подделать избирательные бюллетени, лишь бы победить. Немного помолчав, Тюха ещё добавила, что она была и остаётся мо-нар-хист-кой, а красные всё только с ног на голову перевернули, и с тех пор никто ничего понять не может. Её послушать, так мой отец связался с этими бандитами-коммунистами (рыжие все бандиты), вот ему и пришлось бежать, да только не в Америку! Я её слушал и думал, что это вполне возможно: у меня ведь тоже волосы рыжие, хотя у моей мамы Антониетты тёмные. И с тех пор больше не злился, когда меня дразнили Россо Мальпело[5] – «рыжим зловредом».
Тюха с портретом на груди подводит колонну бездетных женщин поближе и принимается орать на тех женщин, у которых дети как раз есть.
– Не смейте торговать младенцами! – кричит она. – Вам просто головы заморочили! А на самом деле в Сибирь их отправят, на каторгу, если они прежде от холода не умрут!
Малыши плачут и не хотят никуда ехать, но те, кто постарше, стоят на своём. Толпа колышется: похоже на праздник святого Януария, только без чуда[6]. И чем больше Тюха бьёт себя в грудь, тем сильнее сминается лицо с усиками на портрете. Эх, была бы здесь Хабалда, уж она бы не сдержалась! Но Хабалды пока не видно. А Тюха не унимается:
– Не пускайте их, они не вернутся! Разве не знаете, что фашисты заминировали железную дорогу и будут взрывать поезда? Крепче держите ваших детей, как делали это под бомбёжками, их спасение – только вы сами да провидение Господне!
Я о бомбёжках помню только крики людей и вой сирен. Заслышав их, мама подхватывала меня на руки и бежала. А спустившись в бомбоубежище, ни на секунду не отпускала. Так что во время бомбёжек я был счастлив.
Колонна бездетных женщин врезается в толпу матерей, едва-едва успевших построиться, и снова всё портит. Тогда из длинного здания выбегают ещё девушки, пытаются успокоить собравшихся.
– Не уходите, не отнимайте у своих детей такую счастливую возможность! Подумайте только, зима на носу! Холод, сырость, болезни… – Подходя к каждому ребёнку, они дают ему что-то плоское, завёрнутое в фольгу. – Мы тоже матери. Ваши дети проведут зиму в тепле, их накормят, о них позаботятся. Их готовы приютить у себя семьи из Болоньи, Модены, Римини! Дети вернутся к вам радостными, здоровыми, сытыми! Кормить их будут три раза в день, завтраком, обедом и ужином…
Одна девушка подходит ко мне, протягивает фольгу. Внутри обнаруживается тёмно-коричневая плитка.
– Ешь, сынок, это шоколад!
А я отвечаю – снисходительно так, свысока:
– О да, сто раз о нём слышал…
– Донна Антониетта, неужели вы тоже продаёте своего сына? – спрашивает Тюха, впечатывая кулак в портрет юноши с усиками. Тот недовольно морщится. – Не видела бы своими глазами, ни за что бы не поверила! Что вы, не нужно… Это всё из-за Долдона, из-за его ареста? Шепнули бы мне словечко, нешто ж я бы вам кофе не отсыпала?
Моя мама Антониетта косится на меня: не я ли рассказал соседке про кофе?
– Донна Тюха, – отвечает она, – я никогда не пыталась ни на ком нажиться, что в долг брала – всегда возвращала, а когда знала, что не смогу вернуть, то и не просила. Да, мужу пришлось уехать, попытать счастья, но когда он вернётся… Впрочем, что я объясняю, вы же и сами всё прекрасно знаете…
– Рада за вас, донна Антониетта, но позвольте… Это ведь ниже вашего до-сто-ин-ства!
Когда Тюха выплёвывает слово «до-сто-ин-ство», я закрываю глаза, чтобы не видеть её почерневших дёсен и слюны, текущей сквозь провалы на месте отсутствующих зубов. Но потом снова открываю, потому что моя мама Антониетта не отвечает, а это плохой знак: смолчать, когда над ней насмехаются, она никогда не умела. Так что я беру последний кусочек шоколада, но в рот пока не кладу, а смятую фольгу прячу в карман, чтобы потом сделать из неё пушечное ядро для солдата, которого нашёл на днях на Ретифило. И отвечаю вместо мамы:
– Донна Тюха, вот у меня есть отец… ну, где-то есть. А у вас есть сын, как у мамы?
Тюха молча кладёт руку на грудь, разглаживая смятого беднягу с усиками.
– Нет, правда? Неужели только портрет короля Умберто и остался?
Почерневшие дёсны Тюхи вздрагивают от ярости.
– Какая жалость! Не то последний кусочек шоколада – вот этот, видите? – я бы непременно ему отдал.
И прямо так, целиком, сую в рот.
2
Дженовезе – традиционная неаполитанская паста с тушёным мясом и луком.
3
Пьедигротта – крупнейший неаполитанский фестиваль, во время которого по городу возят гигантские фигуры героев сказок. Завершается конкурсом лирической песни.
4
Великая война, или Большая война – Первая мировая война (1914–1918 гг.), получившая современное название после начала Второй мировой.
5
Россо Мальпело – мальчик, которого считали преступником из-за цвета волос, герой одноимённой новеллы Джованни Верги.
6
Праздник святого Януария – праздник в честь покровителя Неаполя, в ходе которого ежегодно происходит чудо превращения высохшей крови святого в жидкую.